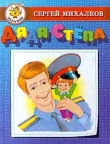Текст книги "Забайкальцы. Книга 2"
Автор книги: Василий Балябин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
Егор пустился разыскивать Федота Погодаева, ставшего теперь командиром сотни. Федот стоял на вокзале у фонарного столба, курил. Егор думал сначала заговорить с ним по старой дружбе, запросто, но передумал: встал, как полагается, во фронт и даже каблуками пристукнул, а руку приложил к фуражке.
– Разрешите обратиться, товарищ командир!
– Эко службист какой! – насмешливо сощурившись, съязвил Федот. – Чего ты пялишься-то передо мной, как серяк перед вахмистром! Я што тебе, старый офицер?
– Да ведь неловко как-то, – Егор, улыбаясь, опустил руку, – ты же теперь как-никак командир, не свой брат.
– Не трепли языком-то ерунду всякую, чего тебе?
– Отпусти сегодня на ночь, к утру на месте буду.
– В поселок, что ли?
– На заимку, верст за десять отсюда, коня надо.
– Да ты што, сдурел! Время вон какое, приказ – никого никуда, кругом посты, заставы, а ему на заимку вздумалось, самый раз!
– Знаешь что, Федот, – наливаясь злобой, Егор заговорил отрывисто, с придыханием, – не отпустишь… сбегу… понятно тебе?
– До утра-то можешь обождать, чего тебе так приспичило?
– Не могу я ждать, понимаешь. – Подступая ближе, Егор чуть склонился и, поймав глазами взгляд Федота, продолжал жарким, злобным полушепотом – Жена у меня там, сын семи годов, понятно тебе? Сколько лет не видел, и кто ее знает, может, последний раз…
– Хватит тебе, – жестом полного отчаяния отмахнулся Федот, – идем на конюшню, скажу там. – И уж на ходу, косясь на шагающего рядом Егора, продолжал ворчать: – Накачало вас на мою голову, вам по гостям разъезжать, с бабами развлекаться, а мне за вас переживать тут. Смотри у меня, чтобы к утру как штык был на месте.
– Не подведу, Федот, не бойся, – уже миролюбиво ответил успокоившийся Егор.
Получив наконец коня и оседлав его, Егор поблагодарил Федота и, вскочив в седло, зарысил по улице, не подозревая, что впереди его ждет новая задержка. Он уже выехал за околицу, подъехал к поскотине, когда впереди из темноты раздался грозный окрик:
– Стой! Пропуск!
– Свой! – осаживая коня, ответил Егор и только тут вспомнил, что второпях он забыл спросить у Федота пропуск.
В ту же секунду к Егору подошли двое; один ухватил за повод коня, другой, клацая затвором винтовки, зашел сбоку:
– Слазь с коня, ну!
– Это что же такое за напасть на меня сегодня! – Егор, чертыхаясь, спешился, передал поводья красногвардейцу, спросил – Куда идти-то?
– Во-он огонек-то, второй дом с краю, видишь? Шагай!
Караульное помещение, куда красногвардеец привел Егора, оказалось обыкновенной избой с русской печью, на которой похрапывал старик – хозяин дома. На лавках вдоль стен и в кути на полу спали красногвардейцы. Трое сидели за столом, двое в шинелях спиной к Егору, третий, смуглый, черноусый и широкоплечий человек в кожаной куртке, сидел напротив, склонившись над столом, писал что-то при свете керосиновой лампы. На груди его перекрещивались ремни от нагана и шашки.
Когда зашли в избу, дозорный, что привел Егора, прикрыл за собой дверь, пристукнув прикладом берданы, спросил:
– А где карнач-то?[34]34
Карнач – караульный начальник.
[Закрыть]
Один из военных обернулся на голос:
– Что такое?
– Задержали вот какого-то.
В это время и тот, что в черной кожанке, поднял голову, взглянул на вошедших, у Егора глаза полезли на лоб от удивления.
– Степа-ан! – медленно выговорил он голосом, в котором смешались изумление и радость. В незнакомце он признал своего бывшего сослуживца Швалова.
– Ушаков! – воскликнул тот, стремительно вскакивая на ноги, и, опрокинув табуретку, на которой сидел, выскочил из-за стола, принялся обнимать Егора.
– Вот здорово-то, а?
– Семь лет не виделись!
– Я смотрю, што такое, обличье-то вроде…
– А я как глянул, – мать честная, Егор!
Наконец, когда порыв первой радости прошел, Швалов заговорил спокойнее:
– Я вас, аргунцев, с самого утра ждал сегодня. А как прибыли вы, меня дежурным по гарнизону назначили, отлучиться нельзя было из штаба, дело там было такое. Потом уж, как выдалась свободная минута, бегом к своим аргунцам. Разыскал четвертую сотню, Федота повидал Погодаева, он уж, оказывается, сотней командует. Молокова встретил, Подкорытова, Макара Якимова, а ты куда-то провалился.
– У хозяина моего побывал.
– Сказывал мне Молоков. Я там-то был, спрашивал, говорят, нету, был, да весь вышел. Отложил поиски на завтра, а он вот он сам, как на камушке родился. Куда это тебя понесло на ночь-то глядя?
И тут Егор коротко поведал другу, куда и зачем поехал он в столь позднее время.
Получив пропуск и уже держась за дверную скобу, Егор задержался на минуту:
– Чуть ведь не забыл, живешь-то как? Дома был небось, не женился?
– До женитьбы тут – вон какая заваруха идет! Дома-то побывал, как освободился из тюрьмы. И на пашне поработал, на покосе, месяца три пролетело как один день. А потом партийная работа, сначала в станице, затем в области, а тут война эта, так и затянуло, как собаку в колесо.
– А Чугуевский живой?
– Живой. В Чите сейчас в областном комитете партии заворачивает.
Время подвигалось к полуночи, когда Егор, миновав заставу, выбрался наконец в поле и прямым путем, через пади и сопки, помчался на Шакалову заимку. Ночь, темень, но Егору хорошо знакомы эти места, и хоть прошло с той поры много лет, но и теперь он помнит здесь каждый кустик, овраг, отпадок, а потому-то уверенно гонит вороного полной рысью.
Вот и речка, мельница Лукича, шумит водяное колесо, ровно гудит мельничный жернов, и еле слышно, как по нему колотится, постукивает деревянный конек. На лугу, вблизи мельницы, чернеет телега, а за нею, обрамленное кустами черемухи, угадывается потемневшее плесо пруда, яркими блестками дрожит в нем, переливается отражение звездного неба. В мельнице горит огонек, светится в дверную щель. Знать, не спит помольщик, небось мешок за мешком поднимает наверх, засыпает в ковш пшеницу, а из ларя деревянным совком выгребает муку, набивает ею мешки и сыромятные тулуны[35]35
Тулун – кожаный мешок.
[Закрыть].
От полой воды речка вспухла, вышла из берегов, и пришлось Егору ехать на брод, версты на полторы ниже мельницы. Здесь речка разлилась еще шире, затопив прибрежные тальники. Даже в темноте видно, как стремительно, образуя воронки, мчатся бурные, мутные потоки, неся на себе щепки, клочья соломы и хлопья пены.
У Егора засосало под ложечкой: страшновато; в другое время он, пожалуй, и не рискнул бы переправиться через такую бурную ручку, да еще в ночную пору, но теперь, когда там впереди Настя…
– Э-э-э, да что это я, господи благослови! – Он снял фуражку, истово перекрестившись на восток, взмахнул нагайкой. – А ну, Воронко, выручай!
Понуждаемый нагайкой конь, оглядываясь на седока, неохотно пошел в холодную воду. Егор на ходу перекинул стремена, встал в седле на ноги. А речка все глубже, глубже, и вот Воронко уже всплыл, поворачиваясь головой наискось, против течения. Бурной стремниной его подхватило, поволокло книзу, мимо промелькнул разлапистый куст черемухи, царапнул Егора по лицу, и в ту же минуту Воронко достал ногами землю, громко фыркая, с шумом раздвигая грудью воду, выскочил на берег. Привычным движением Егор опустил стремена, сел в седло и только теперь ощутил, как страх холодом обливает спину, грудь и словно тисками сжимает сердце, но опасность уже осталась позади…

Долго не могла уснуть в эту ночь Настя. Уложив сына, она рано легла спать, но сон не шел, с открытыми глазами лежала, закинув руки за голову, и все думала, думала… Вся жизнь пронеслась в этот вечер в ее воображении. Судьба, словно прижимистый, расчетливый хозяин, не щадила Настю и за отпущенные ей скупые радости требовала платить большими горестями. Вот и за те счастливые, радостные месяцы, проведенные вместе с Егором, заплатила Настя долгими годами страданий, мучительной тоски, и кто знает, может, самое-то горшее ждет ее впереди. Жарко Насте, она сбросила с себя одеяло, села на постели, но и сидеть нет мочи, в ушах звенит, а горькие мысли лезут и лезут в голову…
Революцию Настя восприняла как радостное событие. В последнее время она много слышала о новой, народной власти, при которой все пойдет по-иному, а законы будут самые справедливые на земле. От этих разговоров в сознании Насти накрепко укоренилось понятие, что будет теперь и такой закон, по которому она разведется с Семеном и повенчается с Егором. Только бы скорее вернулся Егор, все ли благополучно с ним? От всех казаков идут родным письма, многие уже вернулись с фронта, живут дома, а от него ни слуху ни духу.
…Насте показалось, будто она начала засыпать и что-то уже видеть во сне, как на дворе залаяла собака и кто-то осторожно постучал в окно ее избушки. Стук повторился, Настя проснулась.
– Кто это?
Знакомый голос за окном:
– Настюша!
У Насти захолонуло на сердце: неужели… не почудилось ли?
– Я, Настюша, открывай!
Настя, как была в одной сорочке, метнулась к двери, рванула крючок. Егор с винтовкой в руке, пригибаясь, шагнул в избу, брякнул о порог шашкой…
– Гоша-а!..
– Ну чего же плакать-то, – радостно и растерянно бормотал Егор, крепко прижимая к себе Настю, стараясь ее успокоить. – Я, слава богу, живой и здоровый и снова с тобой. Добудь-ка лучше огня, а я разденусь, сапоги сброшу, промочил ноги-то… Ну, как Егорушка?
– Спит… набегался за день-то…
Настя зажгла лампу, накинула на себя юбку, принялась ставить самовар. Она поминутно забывала о том, что делала, глядела на Егора заплаканными, сияющими глазами:
– Господи, да неужто я не сплю?..
А Егор, сняв сапоги, кинул под порог мокрые портянки и, неслышно ступая босыми ногами, подошел к спящему сыну. Мальчик спал на двух широких, вместе сдвинутых скамьях, укрытый стеганым ватным одеялом. Раскинув руки, он чему-то улыбался во сне, сладко посапывал носом.
– Вырос-то какой без меня. – Егор наклонился и неумело, неловко поцеловал пухлую ручонку сына, оглянулся на Настю. Потом они долго сидели обнявшись. Коптила лампа, на улице поднялся ветер, стучался в окошки, в стены, возле печки сердито клокотал самовар, но они ничего этого не замечали.
Чаевали уже чуть ли не под самое утро. Услыхав, что Егор приехал не насовсем, что ему снова надо отправляться на войну, да еще на какую-то неслыханную: свои на своих идут, – Настя, все это время не сводившая с Егора счастливых глаз, потемнела, зачужала лицом.
– Воевать? Опять? – переспросила она, отодвигаясь от Егора. – До каких же это пор?
– Настюша, – начал было Егор.
– Нет уж, хватит! – крикнула она, не слушая его. – Не пущу больше! Пусть другие повоюют с твое, да у каких жен, детей нету!..
– Да это же наша власть-то теперь, Настюша, советская, народная. – Егор вкладывал в слова и в голос всю свою душу, всю горячую веру в новую жизнь, – вить мы только при ней и свет-то увидим, заживем по-человечески. Нам с тобой за нее и руками и ногами ухватиться надо, все ради нее положить… кто за нее воевать будет, как не мы? Вить не Шакалы же, им-то нужна советская власть, как черту монастырь.
– Извелася я у этих Шакалов, – со стоном проговорила Настя, – места в душе нет живого… Лучше в петлю, чем так дольше жить! – и, припав головой к краю стола, зарыдала.
Егор и сам чуть не заплакал. Долго сидел молча, пришибленный, подавленный ее отчаянием. Наконец, когда Настя поутихла немного, снова заговорил.
– Не оставлю тебя здесь больше, – сказал он, – ишо как сюда ехал, все досконально обдумал: поробила на Саввичей – хватит! Моя ты, и сын мой, – значит, при мне вы и должны находиться. Увезу тебя в Верхние Ключи, в избушку нашу старую, к маме. Я ведь, Настюша, теперь уже не тот Егорка, которого атаман запродал в работники, не-ет, уж с большими за одним столом обедаю… Будете все вместе жить, меня дожидать, теперь-то уж недолго, какой-нибудь месяц, от силы – два. Прогоним Семенова – и по домам, заживем с тобой по-настоящему… А ежели отбирать тебя заявятся, – Егор скрипнул зубами и так сжал кулак, что пальцы побелели в суставах, – я их так шугану, что до дому не очухаются и дорогу к нам позабудут.
Настя и плакать перестала. Она верила и не верила своим ушам, Млея от счастливых надежд, волнуясь, заговорила сбивчиво:
– Гоша, да неужто правда… господи… неужто выйду я из этой неволи турецкой! А избушка ваша гнилая… да она мне дороже хором золотых. Уж тут-то, на прорву эту робила, а дома-то на себя… боже ты мой! Все буду сама делать. Платоновна мне заместо матери дорогой будет, слова ей никогда поперек не скажу…
– С мамой ты уживешься, она у нас хорошая…
– Ох, Егорушка, даже дух захватывает, неужто все это сбудется?
– Сбудется, Настюша, ведь недаром же революцию-то учинили.
Заснул Егор, когда в окнах заголубел рассвет. Настя укрыла его овчинным одеялом, а сама, облокотившись на подушку, долго глядела на него, перебирала тихонько свалявшийся чуб любимого, беззвучно шептала:
– Гоша, милый ты мой Гоша! Да неужто господь-то на нас оглянулся, счастье нам посылает, неужто кончилась моя каторга? Ох, если все это сбудется, как мы задумали, в первое же воскресенье пойду в церкву, помолюсь заступнику нашему Егорию храброму и свечу ему поставлю рублевую. Спи, мой касатик, спи, а мне уж и вставать пора.
Глава XПроснулся Егор поздно. На чисто подметенном полу лежали солнечные полосы, перекрещенные тенями от рам. На столе весело пофыркивал самовар. Настя, почти не сомкнувшая в эту ночь глаз, хлопотала около печки со сковородником в руках. Вкусно пахло гречневыми колобами и топленым маслом.
– До чего же дух-то приятный, – улыбаясь, проговорил Егор, потянув воздух носом.
Настя в хлопотах и не заметила, что он проснулся. Она уже успела и в избе прибрать, и колобов напечь, и принарядиться по-праздничному: на ней широкая бордовая юбка, розовая кофта с белым кружевным воротничком плотно облегала грудь и полные покатые плечи, белый подсиненный платок концами подвязан на затылке. От пышущей жаром печки лицо Насти разрумянилось, а глаза так и сияли, и искрились радостью.
«Хороша у меня будет женушка, – думал Егор, лаская Настю взглядом. – И станом, и обличьем, и ухваткой:– всем взяла, казачка настоящая. Ох и народит она мне казачат, однако!»
Он сел на постели, хрустнув суставами, потянулся:
– С праздником, Настенька!
Не выпуская из рук сковородника, Настя оглянулась на Егора, улыбаясь, ответила заученной, много раз слышанной фразой:
– Вас равным образом. Одевайся живее, колобами накормлю.
– Вот это дело, давно не ел колобов. А где Егорушка?
– Он уж позавтракал, убежал на сопку, по ургуй. Ермоха заходил, да не стали будить тебя, пожалели.
– Ермоха! Сейчас к нему пойду.
Егор быстро оделся, умылся и, накинув на плечи шинель, вышел.
Вернулся он вместе с Ермохой. Старик мало чем изменился за все эти годы, лишь борода его стала уже нe черная, а дымчатосерого цвета, желтизной отливали побелевшие волосы на голове, и от этого загорелое на солнце, опаленное ветрами и морозами лицо Ермохи казалось чернее обычного. Но глаза его из-под седых кустистых бровей смотрели так же добродушно, приветливо и с таким же хитроватым прищуром.
Раскрасневшийся, взволнованный Егор, едва перешагнув порог, поведал Насте:
– Ох и встреча была у нас, Настюшка, посмотрела бы ты! Как сгребет меня дядя Ермоха в охапку…
Ермоха, посмеиваясь, теребил бороду:
– Чуда-а-ак, право слово, чудак, вон сколько годов не виделись, а вить ты мне заместо родного сына…
– Спасибо, дядя Ермоха, спасибо. Садись-ка вот к столу, да за колоба сейчас примемся.
– Это можно.
За чаем, когда разговор перекинулся на революцию, Ермоха, наливая себе четвертый стакан, спросил:
– Что-то партиев этих всяких развелось шибко уж много. Ты-то какой придерживаешься?
– Я за большевиков-коммунистов, за советскую власть, значит.
– Что-то ты, брат, путаешь, и за большевиков и за коммунистов! Ты уж держись какой-нибудь одной стороны, а то за двумя-то зайцами погонишься, и одного не поймаешь.
– Дядя Ермоха, ведь большевики-то и есть коммунисты, она так и называется – Коммунистическая партия большевиков.
– Ну, брат, ты, видать, понимаешь в партиях, как цыган в библии. – Ермоха сощурился в осуждающей улыбке, покачал кудлатой головой. – Я хотя и не бывал в больших городах и человек темный, и то лучше тебя разбираюсь…
– Дядя Ермоха…
– Подожди, не перебивай меня, дай мне сказать. Большаки – это те, за которых Иван Рудаков ратует, эти ничего-о, за простой народ стоят, за рабочий люд, словом, для нас, для беднейшего классу, эта партия подходит. А коммунисты – отведи их бог мороком. Вот, к примеру, в Заиграеве они появились. Одного-то из них, Елизарку Жарких, я очень даже хорошо знаю – пьяница, драчун не приведи господь какой; вечно по приискам таскался, спиртом торговал, возил его из-за границы. Так што ты за них не заступайся и не спорь со мною, ты ишо, я вижу, мелко плаваешь в этих делах.
Егор только посмеивался, в споры со стариком не вступал, заговорил о другом:
– Настасью от вас увезу вот.
– Та-ак… – Ермоха вдруг помрачнел, нахмурился и, налив себе пятый стакан, молча принялся за чай. Настя принесла еще колобов, добавила сметаны и, догадываясь по сердитому виду Ермохи, что старик чем-то недоволен, спросила:
– Ты, дядя Ермоха, чегой-то вроде осерчал?
– А чего мне радоваться-то?
– Как это чего радоваться? – воскликнул удивленный Егор. – Ведь мы же пожениться хотим с Настасьей-то, теперь уж нам никто не воспрепятствует…
Отодвинув от себя стакан и облокотившись на стол, Ермоха слушал не перебивая, глядел мимо Егора в окно на бурую, заветошившую елань с черными на ней заплатами пашен. Казалось, он не слушал Егора, думал о чем-то своем, может быть, о том, что подошла весна и вот уже скоро на одной из этих пашен надо делать зачин и в первый же день посеять-заборонить полдесятины. Но это только казалось, в самом же деле Ермоха слушал, и когда Егор закончил, старик повернулся к нему, хитровато прищурившись, спросил:
– А война закончилась?
– Война-то? – Не ожидавший такого вопроса, Егор смутился, опешил на миг. – Нет, не кончилась ишо…
– Вот то-то и оно. Надо сначала с войной развязаться, а потом уж о женитьбе-то думать. Рассуждаете вы, как дети малые!
– Чего ты раскаркался-то, дядя Ермоха, – вступила в разговор Настя, – да в случае беды какой уедем мы отсюда куда-нибудь подальше, мир-то велик. А мне только бы с Егором, не побоюсь никакой напасти. Везде люди живут, не пропадем и мы, лишь бы вместе.
– Знаешь что, Егор, – не слушая Настю, продолжал Ермоха, – вот когда одолеете врагов-то да власть-то эта укрепится, возвернешься домой живой-здоровый, вот тогда и забирай Настасью с сыном и живите в свое удовольствие. Тогда и я к вам переберусь, мне вить тоже не век на богачей чертомелить.
Долго бы продолжался этот спор, но тут в избе появился маленький Егорка с целой охапкой ургуя в руках. Ермоха, нахлобучив шапку, ушел, а Егор, широко расставив ноги и упираясь в них руками, смотрел на сына, блестя глазами.
Мальчик, косясь на незнакомца, бочком-бочком к матери, ухватился за ее юбку, прижался. Придерживая ручонкой в цыпках цветы, он настороженно, с опаской поглядывал на Егора.
– Ну чего же ты забоялся-то, иди, сынок, иди, поздоровайся… – Настя чуть не сказала «с тятей», но, вовремя спохватившись и густо покраснев, поправилась: – с дяденькой.
Делая вид, что он не заметил смущения Насти, Егор подумал про себя: «Ничего-о, пусть зовет дядей пока что, а потом приобыкнет и отцом звать будет». И, широко улыбаясь, протягивал обе руки навстречу сыну, звал его к себе:
– Иди, Егорушка, ну, смелее.
Настя легонько подтолкнула мальчика в спину, и он все так же робко приблизился к Егору, протянул ему левую руку и, как-то совсем неожиданно, заговорил:
– А я лисицу видел.
– Лиси-и-цу?
– Ага. – Мальчик осмелел, зачастил сверкая глазенками: – Большая, хвост во-от такой, а я ка-ак размахнулся да камнем в нее, еще бы маленько – прямо в голову ей.
– Ай-яй-яй, вот молодец. – Егор приподнял сына за локти, усадил к себе на колени, заглядывая в лицо ему, гладил мягкие как лен волосенки, слушал детскую болтовню…
День клонился к вечеру, низко над сопками опустилось солнце, когда Ермоха с березовым веником под мышкой отправился в баню. Вскоре туда же в сапогах на босу ногу проследовал Егор.
Раздевшись в предбаннике, Егор вошел в баню, где Ермоха уже помыл себе голову, надел на нее старую баранью шапку, а на руки сыромятные голички. Это означало, что старик сейчас полезет на полок париться. В бане жарко, в каменке алой грудой дотлевают крупные лиственничные угли, пахнет дымом и еще чем-то пряным, напоминающим аромат залежного зеленого сена. Егор потянул носом горячий воздух, спросил:
– Это чем же так браво пахнет, дядя Ермоха? Прямо-таки как на покосе.
– А вон видишь? – Ермоха кивком головы показал на три небольших бочонка, что стояли возле большой бочки с кипятком. – Это я траву тут всякую запариваю. Оно и дух от нее приятственный, и для здоровья шибко полезно.
Ермоха положил веник на каменку и плеснул на него два ковша кипятку из маленького бочонка. На каменке заклокотало, защелкало под потолок густым клубом – ударил пар, и в бане стало еще жарче, сильнее запахло распаренным березовым листом, мятой и бадьяном.
Егор знал, что Ермоха любит париться, удивляя своей крепостью к жару даже самых заядлых парильщиков Антоновки. Вот и теперь он такого нагнал пару, что Егору и на полу стало нестерпимо жарко, а Ермоха, то охая, то крякая от удовольствия, хлестал и хлестал себя веником по красной костлявой спине, по жилистым, крепким рукам и то и дело припрашивал:
– Подкинь-ка ишо ковшик… вон из того бочонка, с краю-то… там у меня… жабрей… запаренный от ломоты пользительно.
А через минуту-другую снова просит:
– Ишо маленько.
Егор, уже не в силах сидеть, облил себя холодной водой, растянулся на полу головой к порогу и широко раскрытым ртом, как вынутый из воды карась, жадно ловил струйку свежего воздуха, что тянулась из дверной щели. Ермоха же опять хрипит с полка:
– Мало, язви ее, кинь-ка там ишо ковша два, не берет чегой-то.
– Ты, дядя Ермоха, чисто сдурел. Ох, на полу никакого терпежу нету, а ты…
– Давай, живее!
Не отрываясь от пола, Егор налил в шайку два ковша воды, изловчившись, ахнул ее на каменку и, головой вышибив дверь, кубарем вылетел в предбанник, растянулся на соломе. В глазах у Егора потемнело, тело горело как от крапивы, звенело в ушах. Немного отдышавшись, он приподнял голову и только теперь увидел в пред баннике работника Никиту, с ним он повидался еще до того, как пойти в баню. Никита сидел на скамье не разуваясь, курил, зажимая самокрутку в пригоршню, чтобы не заронить искры в солому. Посмеиваясь в рыжую бороду, он взглянул на Егора, спросил:
– Напарился?
– С Ермохой напаришься, как же! Ишо маленько, и сгорел бы начисто, а ему хоть бы што.
– Беда с ним. И что у него за шкура, толщиной-то, однако, в палец.
– Не меньше.
– Этакую шкуру на сыромять переделать бы да подошвов из нее накроить к унтам, износу бы им не было.
В баню Егор с Никитой зашли лишь после того, как Ермоха, вдоволь напарившись, слез с полка и, окатившись холодной водой, пошел в предбанник одеваться.