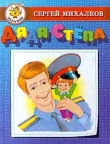Текст книги "Забайкальцы. Книга 2"
Автор книги: Василий Балябин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Хоть и тревожным был нынешний год для Саввы Саввича, но в доме у него все шло по-старому, любил он и строго соблюдал все церковные обряды, посты и праздники. И пусть где-то там люди воюют, гибнут, пусть растет вокруг разруха, у Саввы Саввича по-прежнему во всем порядок и достаток.
– Будем встречать пасху Христову по-старому, – еще за неделю до праздника сказал он Макаровне. – Эта власть новая, ни дна бы ей ни покрышки, до нас ишо не дошла покедова. Война тоже ишо далеко от нас, большаков тутошных черти унесли на фронт, штобы им не вернуться, проклятым. Так что ты, Макаровна, тово… готовь к пасхе все как полагается, штоб не стыдно было перед людьми…
Макаровна лишь того и ждала и в страстную неделю с двумя стряпухами пекла, варила, жарила, и пасхальный стол получился на славу.
Яства, которые должны красоваться в горнице всю неделю праздника, еле уместились на двух столах, накрытых белыми скатертями. На самой середине их, на деревянном поставце, оклеенном золотистой бумагой, стоят куличи, облитые поверху сливочным кремом с маком и сахарными голубками на верхушках. Вокруг куличей крашеные яйца на четырех тарелках, а справа от них, и тоже на деревянном позолоченном подносе, свиной копченый окорок, густо утыканный гвоздикой. Слева два запеченных поросенка, стоят они как живые, колечками завернув на спину хвостики.
И чего только не было на этих столах: и курицы жареные, индюки, колбасы трех сортов, сыры с изюмом, и печенья всякого, и множество бутылок с настойками, наливками и коньяком, что зимой еще привез Савва Саввич со станции Маньчжурия от китайских купцов.
Любил Савва Саввич иметь у себя вдоволь всяких запасов и терпеть не мог каких-либо неполадок, убытку в хозяйстве. Вот и нынче, еще в начале великого поста заболела у него большая свинья. Вызванный по этому случаю Лукич поил ее отваром какой-то травы, горло ей смазывал дегтем и даже шею колол шлейным шилом, ничего не помогло, свинья таки подохла. Тогда Савва Саввич распорядился перерезать ей горло и опалить, как полагается при убое свиней на мясо. Внутренности свиньи Лукич выбросил на приманку волкам, ловил он их капканами, а опаленную, хорошо обработанную тушу повесили под сараем. Жалко стало Савве Саввичу этакую жирную и большую тушу вывозить на свалку.
«Лучше я ее в Читу увезу, – думал он тогда, – да и продам энтим голякам, рабочим. Сожрут. А подыхать зачнут, так оно ишо и лучше, не будут энти самые революции устраивать».
Лукичу же сказал: отправлю ее на мыловарню, там всяких принимают.
– Совершенная правда, чего же пропадать добру-то зазря, – согласился Лукич. Он хотел спросить, зачем же было ее так чисто обрабатывать, но не посмел, а только про себя подумал: «Ох и хитер ты, Сав Саввич, ох и жи-и-ла!»
Ехать в Читу сразу же показалось Савве Саввичу невыгодным: великий пост, спрос на свинину будет не такой, как в мясоед, и, чтобы не продешевить, решил он заняться этим делом после пасхи, а пока замороженную тушу повесил под сарай.
Первые три дня пасхи прошли тихо, спокойно, а в ночь на четвертый день праздника Савва Саввич проснулся от необычайного оживления и шума на станции. Еще сквозь сон слышал он, как туда один за другим вскоре прибыло с востока два поезда. Окончательно проснувшись, Савва Саввич поднялся с постели, накинул на плечи тулуп, вышел на веранду. Он долго стоял там, прислушивался и по свисткам, по шуму передвигаемых вагонов понял: поезда дальше не пошли.
«Неужто отступают красюки? – опалила радостная догадка. – Всыпали им небось, антихристам проклятым…»
Утром, едва солнце приподнялось над горами, на станцию прибыл еще один поезд с востока, и Савва Саввич решил после завтрака сходить к Томилину, порасспросить, не слыхал ли он чего-либо нового.
С тяжелым сердцем шел Савва Саввич по селу, с грустью наблюдая, что на улицах нынче не по-праздничному пустынно, лишь на перекрестке двух улиц ребятишки играют в бабки, а напротив, на солнечном сугреве, старики режутся в карты «в подходную», кружком усевшись на песке; на кону у них те же бабки вместо денег. Слышны азартные выкрики:
– Вышел!
– С нашей!
– С нашей!
– Замирил, хвастай!
– Хлюст козырей!
Томилина Савва Саввич угадал издали; в сером форменном сюртуке и новенькой фуражке без кокарды, он стоял около тесовых ворот своей усадьбы. По тому, как глаза командира дружины светились радостью, а губы расползались в улыбке, обнажая неровные зубы. Савва Саввич понял: произошло что-то отрадное.
– Христос воскресе, – проговорил он, вынимая из кармана шаровар пасхальное яичко.
– Воистину воскресе! – Сняв фуражку, Томилин обнял, трижды поцеловал приятеля и пригласил его сесть с собой рядом на врытую около ворот скамейку.
Савва Саввич, усевшись и заглядывая в улыбчивые глаза друга, осведомился:
– Что слыхать-то? Ты вроде тово… возрадовался чегой-то, так и сияешь, как новенький пятак.
– От хороших вестей, Савва Саввич, бьют наши красюков, так им всыпали под Оловянной, что еле ноги унесли.
– Да сошли ты, господи, чтобы так-то оно получилось.
– Так оно и есть. Мне сегодня сам начальник станции Жданович растолмачил все до тонкости, а уж ему-то все хорошо известно, кажин день передают по телефону, что и как. Красюки только тем спаслись, что успели мост подорвать на Ононе, а то бы им теперь уж каюк был. Ну сам подумай, Савва Саввич, там сила: и войска у них намного больше, и оружия всякого полно, и пушки, и броневики, а у этих што? Шиш с маслом.
– Так, та-ак…
– Да и командуют там генералы да полковники, а у красюков этот их Лазов хваленый всего-навсего прапорщик, да где же ему с генералами поверстаться…
– Ясное дело, чего там! А скажи, Христофор Миколаич, что это за поезда на станцию-то прибыли сегодня?
– Раненых привезли, полно надыроватили их, проклятых. Часть из них в Читу отправили, а которые не шибко ранены, здесь им лазаpeт устроят. Да-а-а… По всему видать: последние кафизмы дочитывают комиссары. Оно конешно, все это радостно, а как подумаешь хорошенько, так и страшновато становится.
– Это почему же? – встревожился Савва Саввич, с удивлением глядя на помрачневшего вдруг Томилина.
– А то, что красюки-то у нас обосноваться думают всей ихней бандой. Жданович так мне и сказал: «Ждите, говорит, вот-вот, не сегодня-завтра заявятся». А вить содержать-то их, кормить нас заставят.
– Заставят, – уныло подтвердил Савва Саввич, – тут уж никуда не денешься.
– Да кабы одно это, так черт с ним, но у меня ишо и другое на уме: нет-нет да и придет в башку про дружину-то нашу. Не дай бог узнают, так они нас, особенно меня, в порошок сотрут.
– Это уж ты напрасно, – попытался успокоить приятеля Савва Саввич, – как они узнают, сорока на хвосте им принесет?
– Да вить кто его знает, на грех мастера нет… а меня и так-то с нашими голяками мир не берет. Так что самое лучшее не дожидать, когда их черти принесут, а после обеда заседлаю Чубарку да и махну в Заиграево. Переживу там у зятя, пока их выкурят отсюдова. Долго-то они все равно здесь не продержатся. А ты как?
– Останусь дома. Подумаю, может, Семена пошлю куда-нибудь, хоть бы и в Заиграево. А самому-то как можно, они тут без меня все вверх дном перевернут. Нет уж, будь что будет, останусь.
Домой Савва Саввич возвращался, обуреваемый смешанными чувствами радости и досады. Его, как и Томилина, радовало то, что красные терпят поражения, и угнетало, что они намереваются окопаться в Антоновке: и хлопот с ними полно будет, и разор в хозяйстве, да мало ли каких неприятностей могут наделать… особенно свои красногвардейцы. Ведь среди них немало и таких, которых обидел когда-то Савва Саввич, и теперь повстречаться с ними у него не было никакого желания.
Еще по дороге к дому Савва Саввич обдумал, как приготовиться к встрече с красногвардейцами, и, придя к себе, начал действовать. По его совету Семен в тот же день уехал вместе с Томилиным в Заиграево, чтобы переждать там, пока красные находятся в Антоновке. Ермохе Савва Саввич приказал ехать с конями на заимку, где со скотом жили работники и с ними безвыездно находилась Настя.
Проводив Ермоху, Савва Саввич приказал Макаровне убрать со столов все пасхальные яства.
– Красных, того и гляди, черт пригонит, – пояснил он на недоумевающий взгляд жены.
– Христос с тобой, Саввич! – всплеснула руками Макаровна. – Неужто голые столы оставить на пасхе Христовой? Вить это же грех великий.
– Эка до чего бестолковый человек! – Савва Саввич осуждающе покачал головой. – Ты что же, красюков-то куличами потчевать будешь? Вот как поставят их к нам человек двадцать…
– Да вить я-то думала…
– Ничего ты не думала. Делай, как тебе сказано, позови Матрену и укладывай все это в ящики. Отнести-то в амбар я помогу вам, там и засыплем их гречихой.
Затем Савва Саввич облачился в старенький полушубок, подпоясался плетенным из бараньей шерсти пояском и принялся прятать подальше: новые шубы, дохи, седла, запасные хомуты и другую сбрую, даже швейную машинку зарыл в омете соломы. К обеду все ценные вещи были надежно захоронены в укромных местах, только туша дохлой свиньи по-прежнему висела в сарае, подтянутая за задние ноги к поперечной балке.
«Хорошо я сделал тогда, – размышлял Савва Саввич, заглядывая в сарай, – теперь на этих нехристей доброе мясо пришлось бы расходовать, а чушка-то и пригодилась, и волки сыты будут, и овцы целы. Ничего-о, сожрут, варвары, а подыхать зачнут от моего угощения, так туда им и дорога».
Он даже повеселел при мысли о своей находчивости, подумав при этом: надо будет сказать Матрене, чтоб не сболтнула при большаках чего лишнего.
Незваные гости пожаловали в тот же день к вечеру. Савва Саввич, все в том же стареньком полушубке, ходил по ограде, соображая про себя, все ли, что следует убрать с глаз подальше, он упрятал. Он слышал, как на станцию прибыли эшелоны красногвардейцев, как там началась разгрузка. И вскоре улицы наполнились шумом: грохотом тачанок, топотом ног, сквозь густой слитный говор доносились отрывистые слова команды. Вскоре и за воротами пантелеевского дома послышались голоса, звяк оружия, раздался громкий стук в калитку. С тревожно забившимся сердцем поспешил Савва Саввич к воротам. Отодвинув засов, он открыл калитку и прямо перед собой увидел молодого военного в серой шипели, с наганом на боку, а за ним толпу красногвардейцев. Двое из них сунулись было в калитку, но молодой военный властным движением руки остановил их, спросил Савву Саввича:
– Вы хозяин дома?
– Мы…
– Вот на постой к вам несколько человек, не возражаете?
Савва Саввич тронул рукой бороду, мотнул головой:
– Не возражаем.
Военный повернулся к своим красногвардейцам, приказал:
– Морозов, заводи свое отделение. Остальные за мной, марш!
Пятерых постояльцев Савва Саввич поместил в горнице, остальных семь человек определил в зимовье. Тревожное состояние ожидания какой-то беды у Саввы Саввича прошло, когда он увидел, что красногвардейцы, в большинстве своем рабочие, не выказывают к нему никакой вражды, ведут себя скромно. Не понравился ему лишь один красногвардеец: диковатого вида, чернявый, с подвязанной к шее левой рукой, казак, судя по одежде и военной выправке. Недобрым огоньком загорелись глаза казака-красногвардейца, когда он, хмурясь, исподлобья оглядывал дом и надворные постройки хозяина. Савва Саввич, избегая встречаться с ним взглядом, поспешил в зимовье, приказал Матрене:
– Чайку приготовь, Матренушка, люди-то с дороги, отощали небось.
– Чай готов, – ответила Матрена, – вон ведерная чугунка скипела, да еще самовар поставлю, хлеба принесу сейчас.
Вскоре шестеро красногвардейцев сидели за столом, пили чай с молоком и пшеничными калачами. Остальные, ожидая своей очереди, сидели на бревне около зимовья, курили. Тут же сидел и командир их Морозов, пожилой, черноусый шахтер в поношенном ватнике, и тот казак, с рукой на перевязи. Он не утерпел-таки, заговорил с Саввой Саввичем, когда тот вышел из зимовья:
– Ну что, хозяин, не по душе гости-то? Клянешь небось революцию-то?
Савва Саввич скользнул по говорившему взглядом, ухватился за бороду, нахмурился:
– Я, товарищ, в энтих политиках разных не шибко-то разбираюсь, по мне што ни поп, то и батька.
– Да-да! Не разбираешься ты, кому-нибудь рассказывай! Вон какое хозяйство развел, ясное дело, чужим трудом, людей эксплуатируешь.
– Чудно ты толкуешь, товарищ, – голос Саввы Саввича обиженно дрогнул, – слова такие непонятные, вроде как в укоризну, и совсем даже напрасно. А ежели и робят у меня люди, так вить тово… не даром, чего же в этом плохого?
– Сыновья-то где у тебя?
– Один сын у меня в станице служит, а второй уж который год отдельно живет, своим хозяйством.
– Только и всего…
– Брось, Викулов, никчемный разговор, – заговорил Морозов, – надо о деле потолковать, насчет ужина. Хозяин, как оно будет, у чаю-то ведь ноги жидки?
– Насчет этого не беспокойтесь, – с живостью отозвался Савва Саввич, донельзя обрадованный переменой разговора. – Скажу Матрене, она вам свинины наварит к ужину, кушайте, пожалуйста. Жирная свинья-то, закололи ее перед пасхой, хотел завялить к весне, но раз такое дело, кушайте на здоровье.
– Спасибо, хозяин. А сварить-то мы и сами сварим; разведем костерок, желобча[32]32
Желобча – небольшой чугунный чан.
[Закрыть] вон лежит у амбара, на огонь ее, и супу наварим, скорее будет дело.
– Можно и так, только вы уж, ребятушки, с огнем-то поаккуратнее.
– Знаем, дед, не бойся!
Глава VIIIПо Забайкальской железной дороге, что пролегла по левому берегу Ингоды, на всех парах мчится воинский состав. Это вышел из Читы головной эшелон 1-го Аргунского полка.
У раскрытых дверей теплушек грудятся казаки – благо денек сегодня погожий, щедрый на тепло. В числе других около дверей своей теплушки стоит и Егор Ушаков. Глаз не сводит он со знакомых долин, таежных сопок, затянутых дымной пеленой весенних палов. Все это хорошо знакомо Егору, все дорого ему – и проплывающие мимо поселки, станции, тайга, и голые, неприветливые утесы слева от дороги, а справа стремительная, мутная после половодья Ингода, с громадными ледяными глыбами на берегах и на заросших тальниками островах, куда занесло их весенним разливом. Теперь эти рыхлые, ноздреватые, словно изъеденные червями глыбы крошатся, разваливаются на глазах и стекают мелкими ручейками.
Ингода! Сколько воспоминаний связано с нею у Егора, какие чувства возникают при виде родной, милой сердцу реки, возле которой родился и вырос он и только теперь по-настоящему осознал, что любит ее горячей, сыновней любовью.
И радостно сегодня Егору, и грустно от обуревающих его мыслей: грустно потому, что проедет он вблизи своей станицы и не сможет побывать дома, повидаться с матерью. А радостно потому, что полк будет разгружаться в Антоновке и он скоро увидится с Настей, с сыном. Теплой волной наплывает радость, захватывает Егора целиком, распирает грудь: «Эх, скорее бы, а тут машинист, как назло, тащится еле-еле». Высунувшись из вагона, Егор кричит, размахивая сорванной с головы фуражкой:
– Крути, Гаврило! Ползешь как неживой! Взял бы меня шуровать уголь-то, уж я бы тебе нагнал паров!
Встречный ветерок освежает Егора, ласкает его лицо, треплет взлохмаченный русый чуб, прочь отлетели все горести, переживания в пути. Из Гомеля, где казаки совершили переворот, аргунцы пробирались до Читы более двух месяцев. На некоторых станциях казачьи эшелоны простаивали неделями, а в Челябинске дело дошло до того, что дивизию разоружили! Не помогла и телеграмма из Ставки, где говорилось: главковерх разрешил эшелонам 1-й Забайкальской кавдивизии, идущим в свою область, следовать с оружием. Но в Иркутске ревкомитет, убедившись в преданности аргунцев революции, вернул им оружие. Поэтому в Читу Аргунский полк прибыл хорошо вооруженный, с пулеметами и приданной ему полевой батареей четырехорудийного состава.
Вспомнилась Егору сегодняшняя встреча аргунцев с жителями Читы. Хотя было еще раннее утро и на востоке пламенела заря, встречать революционных казаков вышло великое множество людей. Рабочие, красногвардейцы и жители города запрудили до отказа украшенный алыми флагами перрон и привокзальную площадь. На вагонах, на крышах мастерских и станционных зданий – везде понабились люди, а на тополях, словно грачиные гнезда, кучами налипли ребятишки. Посреди этого скопища людей возвышается наспех сколоченная из досок трибуна, на ней члены областного Совета и комитета большевиков, тут и председатель Совета Бутин, и Борис Жданов в рабочем пиджаке и старенькой кепке, и стройный, с офицерской выправкой Яков Жигалин, и молодцеватый красавец с волнистым чубом Дмитрий Шилов, и седоусый Хоменко, и еще несколько старых большевиков и политкаторжан. А у подножия трибуны, желтея медью труб, расположился сводный духовой оркестр, которым дирижировал бывший капельмейстер войскового казачьего управления.
Гулом восторженных голосов всколыхнулась площадь, когда из-за поворота показался паровоз головного эшелона аргунцев, над передним вагоном которого полоскалось на ветру алое знамя.
Еще не совсем остановился поезд, а из вагонов на перрон повалили казаки; серошинельная масса их перемешалась с черным месивом горожан, и на площади стало так тесно, что ни разойтись, ни повернуться. Егор видел, с каким трудом пробирается сквозь толпу к трибуне комдив Балябин, следом за ним устремились Богомягков и Метелица, которого только вчера на митинге избрали командиром полка, взамен заболевшего Новикова.
Рев толпы, восторженные крики усилились, когда Балябин поднялся на трибуну, где его заключил в объятия и трижды облобызал Дмитрий Шилов.
Открывая митинг, председатель областного Совета Бутин говорил о том, с каким героизмом бьются с врагами революции отряды Красной гвардии Сергея Лазо. Мало сил у Лазо, его отряды отступают, но отступают с боями, и оставленные ими станции, станицы и села достались Семенову ценою больших потерь. При этом Бутин зачитал обращение Лазо, то самое, что вчера читали аргунцам на полковом митинге.
«Всем! Всем! Всем!
Товарищи, приближается день решительной борьбы с Семеновым. Организуйте отряды. Присылайте людей хорошо вооруженными, одетыми, обутыми, у нас здесь ничего нет. Предстоит упорная борьба. Заканчивайте организацию отрядов и выезжайте все, кто хочет защищать революцию. Время не ждет.
Л а з о»[33]33
Сборник документов и воспоминаний «Борьба за власть Советов в Забайкалье». Чита, 1947, стр. 117.
[Закрыть]
Бутин призвал казаков постоять за революцию и сегодня же отправиться на фронт, влиться в Красную гвардию Сергея Лазо.
После Бутина с речью к казакам обратился Дмитрий Шилов. Никогда еще не слыхивал Егор таких жгучих, хватающих за душу слов, как на этом митинге. Туман застилал ему глаза, он забыл про все: про дом, про мать, про Настю, и, когда Богомягков в ответной речи заявил, что аргунцы не посрамят чести красного казачества, грудью встанут за революцию, Егор, взволнованный до слез, вместе с другими исступленно кричал:
– На фро-онт!
– За револю-ю-цию!
– Даешь приказ!
– Ура-а!
Последним говорил командир полка Метелица. Бравый вид имел бывший войсковой старшина: в неизменной своей гимнастерке с алым бантом на груди, с заломленным на фуражку золотистым чубом и такой же курчавой бородкой, он был великолепен, а серые, лихие глаза его горели отвагой. Речь Метелицы была самой короткой из всех; тоном, в котором чувствовалась уверенность и в себе и в своих казаках, он заявил горожанам, что полк сегодня же, после небольшой остановки на станции Антипиха, выступит на позиции. Тут Метелица чуть помедлил и, запрокидывая голову, властным командирским голосом воскликнул:
– По-олк! Слушать мою команду: по вагона-а-ам… марш!
И сразу же на убыль пошла толпа на перроне, казаки, растекаясь вдоль всего состава, устремились к своим вагонам.
Под бравурные звуки оркестра и крики «ура» эшелон аргунцев двинулся из Читы…
Все это на мгновение вспыхнуло и промелькнуло в памяти Егора, и снова перед глазами его Настя.
«Уж сегодня-то свидимся, сбегу, ежели вахмистр не отпустит…»
События этого дня взволновали всех казаков, потому-то среди них и не молкнет ни на одну минуту говор:
– Опять на фронт, значит!
– Мимо дому ехать приходится!
– До нашей станицы от Карымской два часа езды…
– И откуда его черт принес, этого гада… Семенова.
– Уж доберемся же мы до него…
– А время-то какое, пора уже сеять…
– Неделя остается до Егория…
Долговязый, весь какой-то нескладный, Сараев волнуется больше всех, особенно когда поезд стал подходить к станции Маккавеево, где находится и станица и дом Сараева.
– Во-он он, дом-то наш, зеленые ставни, – крепко ухватившись за косяк двери и ни к кому не обращаясь, громко говорит Сараев, – Отец в ограде ходит, ей-богу, отец, кому же больше-то. Не отпустит вахмистр, волк его заешь, а тут пять минут ходу! Бож-же ты мой, восьмой год…
– Плюнь на вахмистра, – басит Молоков, – забеги попроведай, а со вторым эшелоном догонишь, только и делов.
– Забежать, говоришь? – Сараев отрывается от двери, выпрямившись, ошалело-радостно оглядывает казаков и зачастил как из пулемета: – А ить верно! Ах, мать ты моя, матушка, успею со вторым… Ребята, вы там Савраску моего, Митрий, ты уж седло-то мое сохрани… манатки.
– Да хватит тебе, ботало осиновое, ступай живее. Соблюдаем и коня, и манатки твои никуда не денутся.
– Бегу, бегу, – Сараев торопливо надел шашку, одернул гимнастерку, – чича-ас, где шинель-то? Вот она. Я мигом, вахмистру скажите, со вторым, мол…
– Беги живее, эко дуролом какой, непутевый…
Поезд замедлил ход. Сараев спрыгнул, не дожидаясь полной остановки, прямиком через дворы и огороды кинулся бежать, придерживая левой рукой шашку.
* * *
В Антоновку полк прибыл перед вечером. Вновь увидел Егор знакомые горы, что с трех сторон окружили поселок, темную полосу леса, а в слитной серой массе домов Антоновки зеленую крышу пантелеевского дома. Казакам приказали разгружать только лошадей, а сами они должны находиться в теплушках, которые подвинут в тупик. На площадке возле тупика для казачьих лошадей уже приготовлено сено и коновязи.
Как только покончили с разгрузкой, Егор бегом к вахмистру, попросил у него увольнительную в поселок часа на два.
– Сходи, – разрешил вахмистр, – да смотри у меня недолго там.
– Слушаюсь!
По улице Егор мчался не чуя под собой ног. Вот и пантелеевский дом. Сердце у Егора заколотилось сильнее, когда открыл он калитку, шагнул в ограду. Все здесь было так же, как и много лет тому назад: те же сараи, амбары, на том же месте сложены поленницы дров, так же рядком выстроились телеги. Бросилась в глаза какая-то неряшливость в ограде, которую Егор заметил даже при свете зари: ворота в скотный двор не закрыты, и от них до самого зимовья ограда засорена сенной трухой и соломой, чуть не посредине ограды огнище, которого тут никогда не бывало, тут же на кирпичах прилажена большая желобча, рядом валяется топор, и все вокруг засорено щепками.
– Что такое, – встревожился Егор, останавливаясь посреди ограды, – не случилось ли какой беды с Ермохой, уж он-то бы не допустил такого.
Егор посмотрел на притихший большой дом, в котором лишь на кухне светилось одно окно, и пошагал в зимовье, где также горел огонек. Еще подходя к зимовью, он услышал там незнакомый мужской разговор, а когда открыл дверь, на него шибануло запахом табака и свежей соломы. Человек десять красногвардейцев расположились кому где пришлось: кто сидя, кто лежа на нарах, застеленных соломой; трое сидят на скамье, разговаривают, дымят табачком-зеленухой.
Один, в защитной гимнастерке, примостился к столу, разобрал и чистит затвор винтовки. На кутней лавке сидит Матрена, опустив на колени жилистые, с узловатыми пальцами руки. Она заметно постарела, осунулась, прядка черных волос, что выбилась из-под ситцевого платка, густо повита серебристыми нитями седины.
Войдя в зимовье, Егор снял фуражку, поздоровался, человека два или три ответили на его приветствие, а тот, что чистил винтовку, покосился на незнакомца, спросил: кто такой?
– Егорушка! – воскликнула Матрена и, подбежав к нему, ухватила за плечи, подтянула его к себе, поцеловала и заголосила.
У Егора от испуга захватило дух, огнем опалила мысль: уж не с Настей ли какая беда?
– Что такое, тетка Матрена, – с отчаянием в голосе выдохнул он, ловя глазами взгляд Матрены, – что случилось-то?
– Одна я осталась, Егорушка, – причитала Матрена, концом платка вытирая слезы, – старик-то мой, Ефим Нилыч… царство ему небесное…
Егор облегченно вздохнул:
– Вот оно што… умер, значит, дядя Ефим.
– Осенесь. Нутром все маялся, а тут ишо простудился к тому же, распаленье схватил, ну и вот за неделю до казанской богу душу отдал.
– Ну а остальные-то наши как: дядя Ермоха, Настасья?
– Да ничего, слава богу, живы, здоровы, на заимке вить они…
– На заи-и-имке, – разочарованно протянул Егор, – та-ак.
– Ой, да что же это я, старая дуреха, – спохватилась Матрена, – раздевайся, Егорушка, присаживайся к столу, я сейчас сготовлю тебе.
– Не надо, тетка Матрена, не надо, – запротестовал Егор, – некогда мне, вахмистр отпустил ненадолго, уходить пора. Вот ежели чай есть готовый, выпью, уж куда ни шло.
За чаем Матрена рассказала Егору, что Настя всю эту зиму жила на заимке со скотом, что недавно туда же уехал Ермоха с Никитой, что вместе с Настей живет на заимке и сын ее Егорка.
– Семь годов исполнится ему ноне в канун егорьева дня. Учить его хочет Настасья-то в школе, на осень, ежели все будет по-хорошему. Смышленый парнишка-то, послушный, когда дома-то жили, так часто забегал к нам в зимовье…
Как пение райской птицы слушал Егор Матрену. «Сын, мой сын в школу пойдет, – думал он, млея от радости, – боже ты мой, сегодня же махну туда к ним, не дадут коня – пешком уйду».
Допив третий стакан, он поднялся, заторопился уходить, на уговоры Матрены остаться посидеть еще, поговорить решительно заявил:
– Нельзя, тетка Матрена, никак нельзя, наше дело военное.
Матрена проводила его до ворот, попрощавшись, наказывала:
– Заходи, Егорушка, заходи, родной. На днях Ермоха приедет, обрадуется, как про тебя услышит, часто вспоминал тебя, заходи.