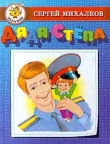Текст книги "Забайкальцы. Книга 2"
Автор книги: Василий Балябин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
Отход дивизии забайкальцев на отдых совпал с весенним наступлением наших войск на Юго-Западном фронте. По поводу этих побед в частях служили благодарственные молебны, в газетах печатались восторженные статьи, описывались боевые эпизоды, героические дела русских солдат при взятии крепости Перемышль.
Вести о победах на фронте командование дивизии постаралось использовать, чтобы поднять боевой дух казаков, укрепить в них веру в победу русского оружия. Офицеры не только давали казакам для читки газеты, сводки с театра военных действий, но и рассказывали им на сотенских занятиях фронтовые новости. Вскоре стало известно о приказе командира дивизии провести «в ознаменование побед на фронте» полковые праздники.
Приказ этот, где отмечались и геройские дела казаков 1-й Забайкальской дивизии, вскоре же объявили по сотням. Повеселевшие от хороших вестей, усердно готовятся казачки к празднику: наводят лоск на амуницию, чистят оружие, стремена, ладят коней к призовым состязаниям. А в свободную минуту охотно слушают, как кто-нибудь из грамотеев читает им «Фронтовые ведомости», и едва кончается чтение, как сразу же вскипает разговор:
– Всыпали немчуре!
– Где уж им устоять супротив русских, кишка тонка у немца.
– Наша бере-ет.
– Оно хоть рыло и в крови, а берет.
– Э-эх, к сенокосу бы домой заявиться.
– Хо, куда хватил! Хоть бы к осени возвернуться, и то слава те господи.
– Глупые вы люди, курочка-то еще в гнезде, а яичко-то… как говорится, а они уж домой засобирались.
– Да-а, это, брат, что еще задний лист скажет.
– А ну вас, раскаркались, как воронье на падло.
Если бы командование дивизии знало истинное положение дел на фронте, оно бы воздержалось от устройства праздников и благодарственных молебнов по случаю побед. Радоваться было не только рано, но и нечему. Более того, положение на Юго-Западном фронте становилось угрожающим: наше наступление на Карпатах выдохлось, и немцы уже готовились нанести нам ответный удар на стыке Западного и Юго-Западного фронтов. Командующий русской 3-й армией генерал Радко-Дмитриев своевременно доносил главнокомандующему Юго-Западного фронта Иванову о готовящемся против него наступлении немцев. Радко-Дмитриев просил подкрепления, предлагал собраться с силами и опередить немцев, самим ударить до подхода их главных сил. Это спутало бы все планы врага, тут была полная надежда на успех, но главком Иванов, самонадеянный и на редкость бездарный генерал, не послушался разумных доводов Радко-Дмитриева и, вопреки здравому смыслу, продолжал слать подкрепления в другие места фронта. Получилось чудовищное по своей нелепости положение: немцы угрожали нашему Юго-Западному фронту на его правом крыле, а мы укрепляли левое крыло, которому никто не угрожал. Было очень похоже на то, что главнокомандующий Иванов старается помочь врагу разбить свою же русскую армию. Так оно и получилось: немцы, собрав достаточно сил, прорвали в намеченном месте фронт, в образовавшийся прорыв хлынули их крупные силы, преследуя остатки разбитой 3-й армии русских. Только тогда хватился главком Иванов, направил в прорыв подкрепление, но уже было поздно. Эта его попытка была равносильна тому, как пытаться двумя-тремя ведрами тушить пожар, охвативший весь дом. Началось отступление наших войск по всему фронту. Вновь отдали врагу с таким трудом завоеванные Карпаты, крепость Перемышль, и наши войска на всем протяжении Юго-Западного фронта откатились на Буг.
Все это уже назревало и разгорелось в мае и начале июня, а пока казаки Забайкальской дивизии, не подозревая ничего плохого, готовились отпраздновать победу над врагом.
В первое же воскресенье в Калиновке с утра состоялся парад. Аргунский полк в конном строю, при полном вооружении, с пиками и развернутым знаменем, промаршировал по улицам села.
День начинался жаркий, безветренный. В голубом поднебесье ни облачка, лишь на западе, у самой линии горизонта, грудились они, легкие, белые и курчавые, как молодые барашки. Улицы расцвечены народом: по-праздничному принаряженные парни, подростки, девушки в ярких ситцевых юбках и белых сорочках с расшитыми рукавами, переговариваясь между собой, любуются на казаков, лузгают семечки. Даже деды в полотняных рубахах, таких же портках и соломенных брылях повылазили из хат и, сидя на призбах[2]2
Призбы – завалинки.
[Закрыть], сосредоточенно дымят люльками, дивятся на проходящее войско. Мимо них сотня за сотней с песнями проходили стройные ряды конников. Над ними мерно колыхались пики, блестели на солнце металлические части оружия, начищенные толченым кирпичом стремена, наборы уздечек, нагрудники, золотом искрились медные головки шашек. В свежем утреннем воздухе разлит неистребимый, присущий кавалерии запах: смесь конского пота и кожаной амуниции.
Отдохнувшие за эти дни, бодро выглядели казаки, словно и не было за их плечами тяжелых боев, ночных атак, изнурительного сидения в окопах. Уже перед выходом на отдых полк пополнили прибывшими из запасных сотен молодыми казаками, а поэтому со стороны не было заметно, какой урон понесли аргунцы в людском и конском составе. О минувших боях напоминали лишь простреленное во многих местах полковое знамя, не снятые еще повязки у людей, перенесших ранение, да новенькие георгиевские кресты на гимнастерках некоторых казаков. Но казакам не забыть, какие бои и лишения пережили они совсем недавно; помнят они и тех однополчан, что сложили свои головы на чужой, неласковой земле. Об этом и думал теперь ехавший в четвертом ряду своей сотни Егор. Вспомнился ему весельчак запевала Зарубин, погибший в ночном бою под Рава-Русской. В этом же бою погиб и посельщик Егора Веснин. Двух немцев зарубил Веснин, когда шли они в атаку в пешем строю, но и сам остался лежать с ними рядом: прямо в сердце Веснину вошел вражеский штык.
Много аргунцев навсегда выбыло из строя: при переправе через реку Пеликалие утонул суровый с виду, но хороший для казаков есаул Белоногих; погибли казаки Стрельников, Решетников, из второго взвода Пичуев, Булдыгеров, а от урядника Резникова остался, на краю воронки от разорвавшегося снаряда, лишь один сапог с левой ноги да обрывок штанины с желтым лампасом. Много там было тяжких страданий, смертей, всяких ужасов, но сейчас все это словно отодвинулось куда-то, затушевалось, и повеселевшие от хороших вестей казаки как ни в чем не бывало подхватывают разудалый припев казачьей песни. В мощных звуках песни тонет звяк оружия, дробный топот копыт.
После парада казаков спешили и выстроили четырехугольником на площади около церкви. Командир полка произнес короткую приветственную речь, зачитал очередную сводку об успешном ходе военных действий и под крики «ура» поздравил казаков с победами на фронте. Затем отслужили благодарственный молебен, и на этом официальная часть праздника закончилась.
В этот день, по случаю праздника, казаков накормили отменно сытным обедом: жирными щами из свежего мяса, жареной бараниной с гречневой кашей – и выдали им двойную порцию водки.
Самое интересное в этот праздник началось после обеда на окраине села, где открывался вид на широкую, уходящую на север долину с речкой, заросшей ивами и кустами лозняка. Уж с утра все знали, что здесь начнутся массовые игры, состязания в беге, рубке, джигитовке и что победителям будут выданы призы: часы, отрезы сукна, пачки табаку и пр. Поэтому еще задолго до начала игр на бугре за околицей стали накапливаться шумные, пестрые толпы сельчан. Старики усаживались чинно в ряд на призбах крайних хат, на бревнах и прямо на земле, в тени плетней, которыми обнесены окраинные огороды. Молодежь грудилась отдельно, в нарядной толпе то тут, то там вспыхивали песни, слышался веселый говор, смех, треньканье балалайки и дробный перестук каблуков.
Казаки прибыли на игры в конном строю. По сигналу трубача большинство их спешилось, лошадей поставили на привязь. Вскоре возле хат, дворов и огородов выстроились длинные шеренги лошадей, привязанных к изгороди. На конях остались лишь те казаки, которые решили принять участие в джигитовке и других конных призовых состязаниях.
Играми руководил помощник командира полка, небольшого роста рыжебородый войсковой старшина Рюмкин.
Было объявлено, что игры начнутся с конных состязаний – джигитовки. В числе пятнадцати казаков своей сотни Егор также пожелал принять участие в состязаниях на своем Воронке.
Подтягивая Воронку подпруги, Егор обратился к Молокову:
– Ты, Дмитрий, удружи-ка мне своего Рыжка на один круг.
– Рыжка? – переспросил Молоков. – И на что он тебе?
– Я его спарю с моим Воронком и через обоих джигитовать буду, я им покажу, как наши работают.
– Ох, смотри, паря, не оскандалься! А Рыжка, что ж, возьми, мне его не жалко, только уздечку сниму с него, он и на недоуздке хорошо пойдет. – И, сожалеюще вздохнув, добавил: – Эх, жалко, станичника моего Кочнева убили, уж он бы раздоказал сегодня, понахватал бы призов.
– Всех, брат, не пережалеешь, на то она и война.
А на лугу уже выстраивались, равняли ряды больше сотни всадников. Рюмкин, картинно гарцуя перед строем на вороном скакуне, пояснял казакам:
– Пегвый пгиз, – войсковой старшина сильно картавил, – получит тот джигит, котогый без единой ошибки пгеодолеет все пгепятствия; сгубит десять лоз, один кгуг пгоскачет стоя, на втогом кгуге пгоделает ножницы, поднимет с земли тги пгедмета и последний кгуг пгоджигитует на обе стогоны. А тепегь слушать мою команду. Спгава по одному, – Рюмкин поднял правую руку, чуть помедлив, рубанул ею воздух, – ма-агш!
Правофланговый казак на кауром коне с места пустил его в карьер. Он легко преодолел все препятствия: насыпь, гробницу, яму, канаву, плетень. Перескочил он и последнюю, высоко на стойках подтянутую жердь, но каурый задел ее копытом задней ноги, уронил на землю. Казак обозлился, матюгаясь, хлестнул коня меж ушей нагайкой, повернул обратно. Стоящий позади Рюмкина полковой трубач, чернобровый, скуластый казачина Макар Якимов, махнул джигиту синим флажком влево, это означало: проштрафился, отъезжай в сторону.
С замиранием сердца следил Егор, как казаки один по одному отделялись от строя, полным карьером устремлялись вперед. И когда они, окончив все приемы, поворачивались лицом к строю, трубач Якимов махал им то синим флажком влево, то белым вправо. В последнем случае казак сразу же подъезжал к судейскому столу, получал призовой подарок.
Когда очередь дошла до Егора, он шумно вздохнул, слегка привстал на стременах, подобрал поводья и при слове «следующий» чуть склонился вперед. Рюмкин махнул рукой – ма-агш!
Вороной распластался в броском галопе, птицей перемахнул широкую канаву, легко взял второе препятствие, третье, четвертое. Перескочив последнюю жердь, Егор перевел коня на рысь, повернул к строю, глянул на трубача, тот сидел в седле не шелохнувшись.
– Значит, все идет по-хорошему, – довольно улыбаясь, вслух проговорил Егор и, заезжая на второй круг, чуть тронул вороного плетью – Держись, Воронко!
К началу второго заезда он снова разогнал вороного в карьер, на ходу перекинув стремена через подушку, встал в седле на ноги.
На последнем круге Егор решил показать, на что он способен. На джигитовку он пошел одвуконь, рядом с его Воронком шел заводной, рыжий, белоногий бегунец Молокова.
Чувствуя на себе сотни внимательных глаз, Егор крепко обхватил руками переднюю луку; спрыгнув с вороного на левую сторону, он пружинисто ударился носками о землю и, подхваченный встречной струей воздуха, перескочил через своего Воронка на рыжего. Новый прыжок направо, миг – и Егор снова на Воронке. Джигитовка Егору и на этот раз удалась хорошо; он птицей перемахивал через одного коня на другого, но с половины круга почувствовал усталость: руки от напряжения онемели, свинцовой тяжестью наливались ноги, а гимнастерка на спине взмокла от пота. Выбиваясь из сил, задыхаясь, сделал он последний прыжок, и, когда перевел коней на рысь, повернул обратно, трубач Якимов махнул ему белым флагом направо.
Уже подъезжая к судейскому столу, Егор увидел в толпе на пригорке хозяйскую сноху Мотрю, встретился с нею взглядом. Одетая в белую как снег льняную сорочку с рукавами, вышитыми черной и красной заполочью, и синюю рясную спидницу, Мотря стояла в толпе девчат. Сложив руки под грудью и лукаво сощурив карие глаза, она насмешливо смотрела на Егора, и чудилось ему, шепчет жалмерка:
– Гарный козак, гарный, тилько чего же ты до баб такий не смелый!
Но вот и судейская комиссия. За двумя в ряд поставленными столами разместились человек восемь офицеров. Посредине восседал сам командир полка – седоусый полковник Золотухин. Рядом с полковником его жена – моложавая, сероглазая блондинка в сиреневом платье и белой матерчатой шляпе-панаме. Она всего лишь неделю назад приехала к мужу в гости из Оренбурга, где у полковника был собственный дом. Справа и слева от полковника сидели: командир четвертой сотни есаул Шемелин, пятой сотни есаул Метелица и командиры других сотен.
Подъехав ближе, Егор спешился, держа Воронка под уздцы, встал во фронт и, глядя на полковника, отчеканил:
– Четвертой сотни рядовой Ушаков!
Полковник благосклонно посмотрел на Егора, улыбнулся в сивые усы:
– Молодец, Ушаков! Получай первый приз!
– Рад стараться, вашескобродие! – И, приняв из рук полковника приз – серебряный портсигар и фунтовую пачку турецкого табака, он вскочил на Воронка, отъехал в сторону.
Глава VIIIНа дворе невыносимая жара. Казаки только что вернулись со стрельбища, и у походных кухонь выстроились очереди служивых с котелками в руках. Повара в колпаках и белых халатах, возвышаясь над толпой, ловко орудуют ковшами, надетыми на палки, разливают по котелкам щи. Поварам усердно помогают дежурные по кухне, кладут в котелки казаков порции мяса, выдают нарезанный ломтями черный хлеб. То и дело слышно:
– Следующий! Сколько вас?
– Пятеро.
– Сыпь на троих.
– Мне на двоих с Ванькой Исаковым.
– Прибавь, Митрич, щей-то хоть.
– Проваливай! Следующий.
У Егора в руках полуведерный медный котел – выпросил у хозяев. Получив на свою «артель» щи и пять порций хлеба, он уже пошагал к дому, когда услышал звонкий голос:
– Егорша!
Остановившись, Егор обернулся и в толпе казаков увидел своего посельщика Подкорытова.
– Подожди меня, дело есть к тебе.
– Ну давай живее, а то щи остынут.
– Сейчас.
С тремя котелками в руках и кусками хлеба под мышкой Под-корытов догнал Егора, шагая с ним рядом, сообщил:
– Письмо я получил из Антоновки, от сестры, замужем она там за Андреем Макаровым.
– Видал я ее в Антоновке, даже заходил к ним раза два. Ну и что?
– Пишет, что учитель у них, Бородин по фамилии, загуливает к твоей Насте… Да еще казак какой-то там, Травников, с фронту пришел… – И не докончил, заметив, как посуровел, изменился в лице Егор.
– Ну! – выдохнул он охрипшим голосом и, шагнув вперед, загородил посельщику дорогу. – Чего замолчал? Выкладывай, что пишет про Настю!
– Да так просто. – Подкорытов уже пожалел, что сболтнул лишнее, обидел посельщика. – Чего ты уставился на меня, как кривой на зеркало?
– Не виляй хвостом, говори, раз начал.
– Чудак ты, ей-богу. Ну, пишет, что видели Настю с учителем, только и делов. Она, может, по делу к нему приходила, а бабы, знаешь, из мухи слона сделают.
– Хитришь, гад. Ну и хитри, черт с тобой. Я и без тебя обо всем узнаю, напишу Архипу.
Егор повернулся к поселыцику спиной, зашагал к дому. Подкорытов посмотрел ему вслед, сожалеюще вздохнул:
– И черт меня копнул рассказать ему про Настю.
Когда Егор пришел к себе в клуню, его «артельщики» уже сидели в ожидании обеда вокруг перевернутого кверху дном ящика. Егор поставил на ящик котел со щами, тут же положил хлеб и, не сказав ни единого слова, вышел из клуни.
– Скурвилась, подлюга, – со злобой прошептал он, опускаясь на бревно, что лежало около клуни, – схлестнулась, стерва, с учителем.
Из клуни выглянул Молоков:
– Тебя долго ждать будем?
– Не хочу я, ешьте.
– Что значит не хочу, заболел, что ли?
– Отвяжись.
– Здрасьте вам! Ишо и осердился чегой-то! Ну, брат, у нас на сердитых воду возят.
Голова Молокова скрылась за дверью, а Егор, пришибленный горьким известием, продолжал сидеть на бревне, подперев щеку рукой.
«А может, врут про Настю, наболтали бабы, – думал он, – могут и наврать, а может, и правда, дыму без огня не бывает. Баба молодая, красивая, тот гад уприметил ее и подсыпался», – скрипнул зубами, чувствуя, как защемило сердце. Невольно вспомнилось Егору, как Настя провожала его до станицы, как, не стесняясь посторонних людей, целовала и, целуя в последний раз, сунула ему в руку пятирублевый золотой. Эта монета и теперь хранится у Егора, зашитая в папаху.
«Провались ты и с подарком твоим, стервуга проклятая!» Егор шумно вздохнул и, вскинув голову, увидел Мотрю. С ведрами на коромысле она только что вышла из хаты.
– Мотря! – окликнул Егор жалмерку и, поднявшись с бревна, поспешил к ней.
– Чого тоби? – Мотря остановилась, удивленно вскинула брови.
– Вина мне надо сегодня, горилки или самогону там покрепче, понимаешь? Много надо, – он тронул рукою коромысло, глазами показал на ведро, – вот такое ведро, к вечеру сегодня, поняла?
Мотря согласно кивнула головой.
– Ну и закуски там какой-нибудь, хлеба житного, капусты, ишо чего-нибудь такого, понимаешь?
– Та на що тоби, чи свадьбу задумал граты, чи що?
– Эх, Мотря, – Егор горестно наморщил лоб, махнул рукой, – может, свадьба, а может, и похороны. Так сделаешь? Деньги? Есть, ты обожди меня здесь, я мигом.
Он крутнулся на каблуках, бегом добежал до сеновала и не более как минут через пять уже бежал обратно. Жадным огоньком загорелись карие глаза Мотри, когда увидела на раскрытой ладони казака золотую монету. Она ловко на лету схватила подброшенный Егором пятирублевик и, мгновенно спрятав его на груди, лукаво подмигнула:
– Добре, Грицю. Буде тоби всего богато.
* * *
Гулянку устроили в тот же вечер в клуне. Вокруг ящика, слу-жившего казакам вместо стола, сидело человек восемь, и среди них Подкорытов, урядник Каюков и полковой трубач Макар Якимов. На ящике перед ними стояло целое ведро самогона-первача, гора ломтей ржаного хлеба, в глиняной миске мелко порезано желтоватое сало прошлогоднего засола, а плетенная из бересты корзина доверху наполнена пучками зеленого лука и солеными огурцами.
– Пей, братва, веселись, душа казачья! – выкрикивал Егор, ковшиком разливая самогон в стаканы и кружки. Ему хотелось развлечься, забыться в пьяном угаре, но хмель не брал его, а черные думы душили по-прежнему.
По-иному вели себя казаки. По мере того как из ведра убывал мутноватый жгучий первач, они становились все веселее, бесшабашнее. Откуда-то появилась старенькая самодельная балалайка, и «подгорная», которую мастерски исполнял Подкорытов, сорвала с места Молокова. Он гоголем вскочил из-за ящика, подбоченившись, козырем прошелся до двери и, повернув обратно, выстукал каблуками залихватскую дробь. Тут уж не усидел на месте Макар Якимов. Скуластый, похожий на монгола, широкоплечий, тяжеловесный трубач с невероятной для него легкостью пошел по кругу, едва касаясь носками земли.
Против Подкорытова он топнул, широченной ладонью хлопнул себя по затылку, затем обеими ладонями по груди, по коленям и, ухнув, пустился вприсядку. Все сидящие вокруг «стола» словно ожили, задвигались, притопывая в такт балалайке ногами, подстукивали кружками, кто-то подсвистывал, кто-то подпевал:
Нынче времечко такое,
Видел немец казака,
Видел знамя боевое,
Испытал удар клинка…
Егор, обняв за плечи урядника Каюкова, злобно, с пьяной откровенностью хрипел ему на ухо:
– Схлестнулась, понимаешь… с учителем тамошним… с Бородиным схлестнулась…
Еле ворочая языком, Каюков мотал чубатой головой.
– Дурак ты, Егорка, дур-рак и уши холодные.
– Да ты слушай!
– Убиваться эдак из-за бабы, дур-рак!
– Убью ее, суку! Вот увидишь, зарублю!
– Руби ее, гаду! – Вскинув голову, Каюков выпрямился и, ошалело поводя осоловелыми глазами, запел:
Засверкала ша-а-ашка в казачьей руке-е-е,
Скатилась голо-о-вка с неверно-ой жены-ы.
Наконец охмелел и Егор. В голове у него шумело, мысли путались. Чувствуя приступ тошноты, он поднялся из-за стола, шатаясь, придерживаясь рукой за стенку, пробрался до двери. Выйдя из клуни, он добрел до колодца и, вылив на голову ведро воды, огляделся. Светало. С востока веяло ветерком-прохладой, на западе полная луна повисла над горизонтом, по селу распевали петухи, в саду высвистывал соловей, из клуни доносились пьяные голоса, казаки тянули старинную:
Ой да по широкою каза… каза-а-ачий по-олк идет.
В дальнем углу двора смутно белела маленькая хатка-мазанка, служившая хозяевам летней кухней, и тут Егор вспомнил про Мотрю. Дальше все произошло как во сне. Он помнил, как, скрипнув дверью, вошел в мазанку, вспомнил испуганный вскрик Мотри, а затем жадный порыв молодого, горячего тела жалмерки.
Ранним утром Мотря с великим трудом растолкала Егора.
– Вставай, Грицко, – ласково шептала она, целуя Егора, а рукой перебирала его еще мокрые колечки чуба, – вставай, любый, скоро ваша труба заиграе.
Егор только мычал что-то в ответ, мотал головой, поворачивался на другой бок.
– Вставай, – тормошила Мотря, – зараз маты проснется.
– Отвяжись.
– Вставай, кобеляка проклятущий! – уже сердито прикрикнула Мотря и, ухватив Егора за чуб, приподняла его с подушки. – Ты що, сказывся? Тикай, тоби кажуть, а то як возьму рогача…
Егор наконец проснулся и, сообразив, где находится, вспомнил обо всем происшедшем. Превозмогая головную боль, он рывком поднялся с кровати. Собрав с полу свои сапоги, портянки, он сунул их под мышку, направился к выходу, но тут его за рукав придержала Мотря:
– Подивись же на меня, Грицю. – Голос Мотри звучал просительно, ласково, она заглянула ему в глаза, добавила со вздохом – Ох, не чаю, як того вечера дождаты. Прийдешь, серденько?
Егор только крякнул в ответ, нахмурившись, отстранил Мотрю рукой, вышел.
А вечером, едва лишь стемнело, снова пришел Егор к Мотре и ушел от нее на заре. С той поры, таясь от товарищей, стал бывать у нее каждый вечер. Тяжелым, бесстыдным блудом с жалмеркой пытался Егор задушить то горячее, светлое, что было связано с образом Насти, и… не мог. Ночи с Мотрей пролетали как дурной сон, а в глазах по-прежнему стояла Настя, сердце изнывало в тоске по ней, в голову все чаще приходила мысль: может быть, Настя и не виновата, не всякому слуху верь. Он похудел, оброс бородой, стал угрюмым, неразговорчивым с товарищами, утратил былую казачью лихость, радение к службе.
Однажды вечером, выждав, когда его друзья завалились спать, он спустился с сеновала, направился было к Мотре, но во двор из хаты вышла старуха хозяйка. Егор подошел к воротам и, навалившись грудью на изгородь, задумался. Солнце уже давно закатилось, тихий теплый вечер надвинулся на село, на западе разгоралась заря. У самого горизонта она была светло-шафрановая с зеленоватым отливом, выше нежно розовела, а еще выше, там, где в струнку вытянулись темные тучки, заря окрасила их в багрово-красный цвет. Но Егор не замечал этой красоты, теснились в голове его тяжкие думы, тоскливо щемило сердце. Он и не слышал, как к нему подошел взводный урядник Погодаев, окликнул:
– Ушаков!
Вздрогнув от неожиданности, Егор поднял голову, в упор глянул на урядника:
– Чего тебе?
– Ты что это квелый какой-то стал?
– Отцепись!
– Ты со мной как разговариваешь?! – повысил голос Погодаев. – Я кто тебе есть? Лахудра чертова, под шашку захотел?
– Ну и ставь, черт с тобой!
– С тобой по-человечески, а ты дерзить, стервуга! Ты как отличился сегодня на стрельбе-то? И себя позоришь, и весь наш взвод, вить это на дикого рассказ, все пули за молоком послал! Шпарит в белый свет как в копеечку да ишо и сердится.
Погодаев умолк ненадолго, свернул курить и, подавая кисет Егору, при свете зари рассмотрел посеревшее, опухшее от бессонницы лицо казака. Уряднику стало жалко Егора.
– Заболел ты, что ли? – снова заговорил Погодаев, но голос его уже звучал по-иному, в нем слышались теплые нотки дружеского участия. – Али горе какое? Постой-ка, мне ведь кто-то рассказывал, Каюков, однако… невесту у тебя, что ли, кто-то отбил? Ты, значит, из-за этого и горюешь?
– Из-за этого, – признался Егор, тронутый дружеским тоном урядника. Он разоткровенничался и рассказал Погодаеву обо всем, что услышал про Настю.
Погодаев так и встрепенулся, когда Егор упомянул про Бородина, и глаза его так ошалело-радостно полезли на лоб, что Егор осекся на полуслове, заметив восторженный взгляд урядника.
– Бородин! Михаил Иванович? Да это ж мой бывший учитель! – воскликнул Погодаев и так хлопнул изумленного Егора по плечу ладонью, что тот еле устоял на ногах. – Ерунда все это, что ты мне наговорил тут. Чтобы Михаил Иванович позволил себе такое, ни за что не поверю, убей меня на месте, не поверю, это же прямо-таки голубь, святой души человек. Его в нашей станице все, от мала до велика, знают и уважают как родного, ничего, что он на каторге был за политику, а жена его, первейшая раскрасавица, и до сё в ссылке находится. Нет, не-ет, за Михаила Ивановича я голову положу на плаху, не дозволит он себе таких глупостев. Просто бабы наболтали, а ты нюни распустил, ду-ура ты стоеросовая. Я сегодня же напишу Михаилу Ивановичу, и вот увидишь, как бабы тебе мозги запорошили.
Порассказав про своего бывшего учителя, Погодаев попрощался и ушел, а Егор все еще стоял у ворот. От слов урядника у него словно гора свалилась с плеч.
«Правильно говорил Федот, – думал Егор, чувствуя, что в голове у него просветлело и стало легче на душе, – не может быть, чтобы Настя изменила мне. Моя она и ни на кого никогда не позарится. Какой же я дурак, оболтус».
С легким сердцем посмотрел он на белевшую в сумраке мазанку, где ждала его Мотря, и впервые за эту неделю не пошел к ней.
Взобравшись на сеновал, он лег рядом с Молоковым и, как в теплую воду, окунулся в глубокий, без сновидений сон.
Полк на рассвете подняли по тревоге.
Тра-та-та, тра-та-та – всколыхнули утреннюю тишину будоражливые трубные звуки боевого сигнала «тревога».
И по улицам села затопали казаки, устремляясь к сотенским коновязям.
Егор и его друзья кубарем скатились с сеновала, с шинелями и попонами под мышкой бегом через двор. Пробегая мимо клуни, Егор подумал: даже проститься не пришлось с Мотрей, ну да теперь уже не до нее.
На площади у церкви шум, топот ног, звяк стремян и оружия. Обозники спешно разбирали палатки, запрягали лошадей, грузили на фургоны кули, ящики, их поминутно торопил вахмистр на вороном коне. Размахивая нагайкой, он то и дело матюгался:
– Живо, живо…
Не прошло и получаса, как полк, сотня за сотней, на рысях выходил из села и, минуя сады, огороды, левады, взял направление на запад.
Егор, оглянувшись, отыскал глазами знакомую хату, сад, и там, в залитой молочным цветом темной зелени вишен, ему показалось, что он увидел Мотрю.
Казаки оборачивались на ходу, хмурились, недовольно ворчали:
– Кончилась лафа наша.
– Отошла коту маслена.
– Эх, ишо бы такого житья хоть с недельку.
Все дальше и дальше уходил полк. И уже не видно калиновских хат, все слилось в сплошное темное пятно. А на востоке, румяная, ширилась заря, над нею, причудливо раскиданные, розовели маленькие облачка, словно маки, искусно вытканные на голубом фартуке молодой украинки.
Но ни эта красота, ни свежесть майского утра – ничто не радует казаков. Грустно на душе у каждого из них оттого, что кончилась их легкая, праздничная жизнь в гостеприимной Калиновке, а впереди ждут новые походы, смерти и все те невзгоды и горечи, которыми до отказа наполнены будни войны.