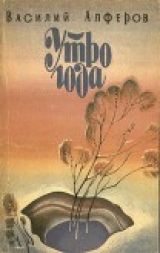
Текст книги "Утро года"
Автор книги: Василий Алферов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Два «чуда»
Первое «чудо» произошло весной, на самую пасху. Одна из улиц на Жареном бугре, вдоль оврага, стала оседать. Домишки опустились сначала на пол-аршина, а потом и больше. Раньше всех заметила это происшествие Арина Сурчиха, потому что изба ее ниже других присела на корточки и вот-вот свалится в овраг.
– Спасители-угодники! Светопреставление наступило! – кричала она на всю улицу. – Поглядите-ка, люди добрые, улица наша в преисподнюю проваливается!..
Весь народ поднялся на ноги: конец света начинается!.. Тут провалится не только одна улица на Жареном бугре, но может ухнуть в тартарары все Заречье.
Молился и старый и малый. Двое суток по всей улице на Жареном бугре ходили с иконами, кропили землю «святой» водой и слезами, просили бога смиловаться над зареченцами, отвести от них страшную беду и направить ее на каких-нибудь басурманов.
И что же? Бог, видимо, «пожалел» зареченцев, отвел от них «страшную беду»: ни один домишко на Жареном бугре больше уже нисколько не оседал.
Совершившимся «чудом» заинтересовались в уездном городе Сызрани. Вскоре оттуда к нам в Заречье приехали три ученых человека, как сказывал мне и Яшке дядя Максим. Эти люди прощупали, исследовали весь склон, по которому лепились домишки, и определили, что тут много десятков лет назад была свалка. От уплотнения навоза произошла осадка почвы, а вместе с ней осели и старые, покрывшиеся мхом избы.
Ученые люди сделали свое дело и уехали. А зареченцы после этого долго смеялись над Ариной Сурчихой и над «светопреставлением».
Второе «чудо» совершилось в том же году, осенью. Ни с того ни с сего на колокольне по вечерам стал кто-то плакать по-бабьи, заунывно. У церкви каждый вечер собирался народ. Сначала шли только старухи да ребятишки, а потом повалили все. Бабка Гусиха первая определила:
– Милые вы мои! Да ведь это пресвятая пречистая богородица плачет! Прогневили мы ее, должно быть, вот она, матушка, и заливается слезами.
Нашему зареченскому попу отцу Митрофанию в тот год здорово повезло. Весной было одно «чудо», осенью – второе. Дела его заметно поправились: во дворе появилась еще одна породистая корова, по счету третья, да три свиньи на коротких ножках. «Плачущая богородица» тоже принесет немалый доход. А то было совсем загрустил наш поп. «Село большое, а польза пустяковая – хоть перебирайся куда-нибудь в другой приход», – частенько жаловался отец Митрофаний.
Пользуясь случаем, когда народ толпился возле церкви, поп выступал с речью:
– Православные христиане! На наших глазах происходят чудеса господни… Вот матерь божия плачет, заливается. Воистину чудо из чудес. Господь царь небесный все видит! Он долго терпит, но придет время, обратит гнев свой на грешников. Тогда поздно будет просить об отпущении грехов своих. Поздно!
– Знамо, поздно! – вытирая глаза концом полушалка, громко выкрикнула из толпы бабка Гусиха. – Может, из-за таких вот непутевых, как Роман Сахаров да его сынок Орлик, мы все и страдаем, терпим гнев божий?..
Четвертый вечер у церкви толпились люди. Старушки надевали чистые сарафаны, старики – новые домотканые штаны и рубахи, мазали головы лампадным маслом, шептали молитвы. Каждый день поп совершал торжественное богослужение с выносом икон вокруг церкви.
На пятый день Роман Сахаров, договорившись со своим приятелем, церковным сторожем дядей Ваней, прозванным за свой чрезмерно высокий рост Иваном Верстой, пошел к церкви, неизвестно для чего захватив плохонькое свое ружьишко. Увидев Романа, мы с Яшкой спросили:
– На охоту, дядя Роман?
– Нет, к церкви.
– А ружье зачем?
– Ишь, любопытные… А вот и не скажу. Пойдемте со мной, тогда сами узнаете.
Мы, не раздумывая, пошли вместе с дядей Романом.
Подойдя к церкви, незаметно вошли в ограду и, поднявшись на паперть, свернули в боковую дверь. По узкой спиральной лестнице поднялись на колокольню, где, готовясь к перезвону, сидел Иван Верста и совал в свои широкие ноздри щепотки нюхательного табака.
– Эх, давай-ка, Ваня, и я побалуюсь! – протянув руку к табакерке, сказал Роман. – Говорят, что от него глаза светлеют и далеко видят.
Смеркалось. Вечерняя служба кончилась, но люди не расходились, а толпились около церкви, прислушиваясь, скоро ли опять заплачет матерь божия. Она каждый раз в это время плакала – иногда раза два или три принималась…
А мы вчетвером продолжали сидеть на колокольне. Нам с Яшкой так и непонятно было, чего здесь ищет дядя Роман. Вот он взобрался на несколько ступенек подставленной к стенке короткой лесенки и, прижав к плечу свое ружьишко, выстрелил в широкую темную пасть купола. Вслед за оглушительным выстрелом из черной дыры купола, ошалело шарахнув крыльями, стремительно вылетел здоровенный старый сыч. Пролетая над толпой людей, он, как бы нарочно, простонал громко и заунывно. А Роман, наклонившись, крикнул вниз:
– Вот вам и пречистая! Ловите ее за хвост…
Но старухи твердили свое:
– Пресвятая богородица оборотилась в птицу и улетела.
И говорили так убедительно, будто своими глазами видели, как богородица «оборачивалась» в птицу. А Романа Сахарова поп возненавидел с тех пор еще больше.
Прощай, детство!
Но вот пришел конец нашему детству. Осенью Яшку мать отдала в работники к зажиточному мужику Семену Гавриловичу Сухову, а меня, по настоянию матери, отец решил отвезти в город. В день расставания – это было в воскресенье – Яшка все время сидел у нас в избе. Мать с утра нарядила меня в чистую рубаху. Она была необыкновенно ласкова со мной, без умолку говорила, наставляла меня, чтобы я в чужих людях не баловался, слушался старших и доходил до дела. Мать суетилась у печки, и я видел, что она часто прикладывает к глазам конец фартука и тихонько плачет.
Мы с Яшкой то уходили во двор, то опять входили в избу. Пришла Яшкина мать, тетка Ольга, и, поздоровавшись, спросила:
– Здесь, что ли, мой-то?
– Здесь, Ивановна, здесь, – ответила моя мать. – Последний денек вместе, не наглядятся друг на дружку.
– В Самару, значит, решили? – усаживаясь на лавку, спросила тетка Ольга. – Нынче?
– Да, вечером, – тяжело вздохнув, ответила мать. – Может, и до дела дойдет.
– А то как же, – сказала тетка Ольга и начала рассказывать о том, на каких условиях она отдала Яшку в работники.
Мы с Яшкой опять вышли из избы и направились за огороды, к речке.
День стоял солнечный, тихий. Вдали, за выгоном, виднелись деревья с чуть пожелтевшими листьями. Над нами пролетела огромная стая воробьев и скрылась. Тоскливо и грустно было кругом.
Мы долго стояли молча, смотрели вдаль, на широкие просторы лугов, на Волгу. Все родное, близкое теперь казалось таким далеким, неприветливым.
Яшка вдруг отвернулся от меня и стал беспощадно срывать пересохшие метелки воробьиного проса. Он мял их в руках, потом безразлично бросал под ноги и втаптывал в рыхлую серую пыль.
– Взял да и не ехал бы в Самару! – промолвил Яшка после некоторого молчания. – Одному там пропасть можно.
– Да, «не ехал бы»! – сказал я. – Как тут не поедешь, когда и рубаха уже новая надета!
– А ты бы не соглашался.
Но тут я ничего не мог сказать Яшке, потому что мне и самому вдруг захотелось уехать в город. Будто угадав мое желание, Яшка сердито швырнул в сторону вырванную с корнем метелку воробьиного проса и дрогнувшим голосом сказал:
– Ну и поезжай, не больно жалко!
– И поеду, а тебе что! – любуясь новой рубахой, проговорил я.
Яшка тер ладошкой глаза и морщил свой маленький носик. Узкие, острые плечи его тихонько вздрагивали. Мне стало нестерпимо больно, точно меня кто уколол острой иглой. Я подошел к товарищу и, заглядывая ему в лицо, спросил:
– Зачем ты, Яш?.. Не надо.
– Это я так просто… глаза чешутся.
– А ты не чеши – болеть будут, – сказал я.
Но и у самого вдруг «зачесались» глаза, и я тоже стал тереть их ладошкой.
Послышался голос моей матери:
– Васярка, домой иди, а то на пристань скоро!
Яшка пошарил в кармане и, взглянув на меня, сказал:
– Вась, на, возьми себе этот ножичек. Мне мама другой купит… Может, и не увидимся больше никогда…
Это был тот самый маленький складной ножик с костяной ручкой, которым Яшка всегда хвалился и дорожил больше всего на свете.
А когда мы вернулись в избу, я подарил Яшке три свои удочки: одна из них была с крашеным поплавком, «самая счастливая».
На закате солнца мы с отцом отправились на пристань. Пристанщик Филипп Захарыч, большой любитель поговорить, поздоровался с отцом и спросил:
– В Самару, Григорьич?
– Да. Хочу сынка определить куда-нибудь.
– Ну, на ваканцию, значит!.. Дело хорошее. А сколько ему годков-то?
Отец помедлил с ответом, потом сказал:
– Васярке? Тринадцать годов скоро будет.
– Так, так… – И Филипп Захарыч завел с отцом длинный разговор.
Пароход пришел с большим опозданием – за полночь. Быстро подали трап.
Филипп Захарыч, погладив маленькую курчавую бородку, важно объявил:
– Кто до Самары, пожалте…
Отец взял меня за руку. Яркие электрические огни парохода до боли резали мне глаза. Я шел и засматривался на каждый предмет. Пароход казался мне необыкновенным, сказочным, хотя ничего сказочного в нем не было – грязный купеческий пароходик местной линии.
Не успели мы усесться в четвертом классе, на корме, как послышался первый гудок, за ним – второй и третий.
– Отходит, – сказал отец и сел на свернутый канат.
Корпус парохода дрогнул. Тяжело проскрипели кранцы, захлопали плицы колес по быстрой черной воде.
Отец встал и подошел к борту. Указывая на берег, он сказал мне:
– Смотри, сынок, смотри… – и крепко-крепко прижал меня к себе.
Я стоял и не мигая смотрел на родной берег, на удалявшийся дебаркадер, на догоравший костер, оставленный пассажирами.
В городе
В Самару приехали утром. Было еще рано, однако набережная кишела людьми. Тут были грузчики, кочегары, плотовщики, механики. В рваной одежде, небритые и непричесанные, они искали работу – поденную, рейсовую, постоянную, встречали пароходы, предлагали пассажирам свои услуги – за пятачок снести багаж. От Успенского спуска до Струковского сада по берегу тянулись лабазы, склады и пристани хозяев-пароходчиков. По одной стороне набережной лепились друг к другу ветхие тесовые харчевни, «обжорки», бакалейные и хлебные лавки. Толстые горластые торговки наперебой зазывали прохожих «откушать горячих щей», сваренных из мясных отбросов. В калачных рядах и за трактирными стойками – пузатые, при часах хозяйчики, стриженные под «горшок», с широкими, как лопата, бородами, – апостолы и царьки Двадцатого квартала. Возле трактира Парашина монотонно завывала шарманка, дремал в клетке желтобрюхий облезлый попугай, предсказывающий беды и счастье. Фокусники собирали вокруг себя большие толпы зевак, глотали аршинные шпаги, совали себе в нос кривые иглы, сопровождая свои «номера» неизменными выкриками: «Алле!» Под шарманку, под гремучий бубен пела осипшим голосом молодая женщина с восковым лицом, увешанная разноцветными стеклышками бус. Пела протяжно, заунывно:
Кари глазки, куда вы скрылись,
Мне вас больше не видать;
Куда вы скрылись-запропали, —
Навек заставили страдать…
Слышались гудки привальные, гудки отвальные. Над пристанскими воротами по всему берегу приколочены большие и малые вывески с надписями: «Буксирное пароходство Мешкова» или «Товаро-пассажирское пароходство сенгилеевского купца Флегонта Баукина, линия Самара – Казань». От спуска Заводской улицы шли конторы крупных пароходств: «Кавказ и Меркурий», «Русь», «Самолет».
Мы с отцом шли по пыльной, в ямах, улице, и мне становилось как-то жутко.
– Не останусь здесь! – плача, крикнул я и крепко ухватился за отцовский пиджак.
Отец забеспокоился и ласково сказал:
– Ну что ты, сынок, чего испугался? Это тут, на набережной, плохо, а там, в городе, хорошо. В воскресенье на Ильинку сходим. Там по праздникам бо-ольшущие базары бывают. Лимонаду из стеклянного кувшина попьем, на карусели покатаемся, петрушку-кловуна в балагане посмотрим… А сейчас вот в трактир зайдем, чайку попьем, позавтракаем и к дяде Егору на квартиру подадимся.
Желая задобрить меня, отец купил фунт ситного и полфунта колбасных обрезков. В трактире сидели долго. Отец любил чаевничать и с маленьким кусочком сахару выпивал по нескольку стаканов чая.
– Будешь при месте, сынок, смотри слушайся старших, уважай их да старайся скорее до дела дойти… С ремеслом в руках не пропадешь, – отхлебывая из блюдечка чай, говорил он.
– Боязно мне оставаться здесь одному, – сказал я.
– Ничего, привыкнешь, – уговаривал отец. – А ты думаешь, нам с матерью легко отдавать тебя в чужие люди? Нелегко.
Отец смотрел на меня грустными немигающими глазами. Я перестал плакать. Низенький сухощавый половой с желтыми от табачного дыма усами поставил на стол вновь наполненный кипятком чайник и спросил отца:
– Это твой сынишка?
– Да, мой, – почтительно ответил отец. – К месту куда-нибудь хочу определить.
– Ну что же, это неплохо, – сказал половой, взглянув на меня. – Только вот что скажу, паренек: город не любит растяп и плакс. Город, что боров – хрюкнет и съест. Уши не вешай, держись бодрее. Так-то вот.
Отец молча улыбался. А минутку спустя спросил:
– Сколько с нас, почтенный, за чаек?
Заплатив за чай, мы с отцом пошли в город к нашему земляку, мастеру по строительному делу Егору Фомичу.
Вечером Егор Фомич, немного подвыпивший ради нас, гостей, подошел ко мне, погладил меня по голове:
– Ты, Васярка, чего нос повесил? Иди вон с Петюшкой в биоскоп. Привыкай к городу, не будь мокрой курицей.
Не поняв, куда он меня посылает со своим сыном Петюшкой, я спросил:
– Зачем?
– Как это – зачем? – улыбнулся Егор Фомич. – Картинки смотреть. – И, вынув из потертого кошелька двадцать копеек, дал мне.
…Бойкий Петюшка, мой ровесник, повел меня в «Триумф». Купили детские билеты по двенадцати копеек и стали в фойе ожидать начала сеанса. Я удивленно смотрел на огромные зеркала, как на бездонные омуты, на хрустальные люстры и не заметил, как Петюшка куда-то исчез. Я перепугался, и мне сразу стало все немило. Но не успел я прийти в отчаяние, как мой новый товарищ опять стоял передо мной. Оказывается, он уходил в буфет. Подойдя ко мне, он самодовольно причмокнул губами и похвастался:
– Я купил ирисок… Иди и ты возьми.
– Зачем? – спросил я, не понимая.
– Сосать, – ответил Петюшка.
– А какие они?
– Сла-адкие! – И он тут же при мне положил себе за щеку коричневый квадратик конфетки.
Я потрогал в кармане оставшиеся от билета восемь копеек и вздохнул:
– Нет, я не возьму. У меня зубы болят.
Я, конечно, сказал неправду. Мне просто было жалко истратить деньги на какие-то ириски, которых я никогда не пробовал.
Но вот мы в зрительном зале. Наши места – около самого экрана. И когда мне Петюшка объяснил, что вот на этой белой стене будут ходить и ездить на лошадях «живые люди», то мне становилось и радостно и страшно. Радостно потому, что сидели мы близко, откуда, как мне казалось, можно лучше увидеть, а страшно оттого, что если и в самом деле будут ездить, то как бы не задавили нас.
Сидел я смирно. Изредка запрокидывал голову к потолку, где было бесчисленное количество электрических лампочек в матовых абажурах, напоминавших мне бычьи пузыри, которые мы, ребятишки, надували у себя в селе. В это время я чувствовал себя так, как будто мне оставалось жить всего несколько минут. Неожиданно появилась дрожь во всем теле. Прыгали колени, лязгали зубы. Петюшка сунул мне в руку ириску. Я сначала попробовал ее на язык, потом быстро положил в рот. Немного успокоился.
Вдруг погасли огни. В зале – темень непроглядная. Я ощупал Петюшку и зачем-то крепко уцепился за стул. На экране запрыгали надписи, потом появилась картина. Шла первая часть. Львы и тигры, разломав свои клетки, выбегали наружу. Но звери какие-то вялые, и глядеть на них мне было смешно. Я смеялся на весь зал, хотя смешного вовсе не было. Но это, видимо, был нервный приступ. Петюшка тревожно ткнул меня локтем в бок и прошипел:
– Не смейся, это еще не комическая.
Но я не унимался. Тогда ко мне, согнувшись, подошел контролер, строго погрозил пальцем и обещал «выбросить на улицу».
…А когда пришли домой, Петюшка заявил во всеуслышание, что он больше со мной ни разу не пойдет в биоскоп.
Дня через три отец определил меня в большой магазин готового платья мальчиком для побегушек – носить приказчикам из соседнего трактира кипяток в огромном медном чайнике, бегать за булками, отворять дверь богатым покупателям.
– Ну, сынок, прощай, – собравшись уезжать домой, сказал отец. Голос его дрожал. Он приблизил меня к себе, положил руку на плечо и поцеловал в лоб. – Живи тут… привыкай к делу. Слушаться станешь – бить меньше будут..
Пообещав отцу слушаться и привыкать к делу, я вынул из кармана маленький бумажный сверточек и сказал:
– Это передай Яшке… Тут пять ирисок.
– Игрушка, что ли, какая? – переспросил отец.
– Нет, конфетки так называются.
– Ну-у! – улыбнулся отец. – Ах вы, дружки-приятели. Передам, непременно передам.
И мы расстались.
Прошло около двух месяцев. За это время я посмелел, познакомился с городом, побывал на Ильинском базаре, где по воскресным дням под саратовскую гармошку и барабанный бой вихрем кружилась карусель, продавали в огромных стеклянных кувшинах лимонад и народу было так много, что нельзя поднять руку. А возле забора, во весь квартал, стояли и сидели одетые в лохмотья нищие, прося подаяние. Слепцы неумолчно пели о каком-то «втором пришествии Христа на землю, о страшном суде господнем» и о том, что «грешники будут вечно кипеть в смоле горящей, а праведники – блаженствовать в садах райских». Слепцов окружали прохожие, с умилением слушали их нестройное, с хрипотцой пение, вздыхали; а по окрайкам базара важно расхаживали в белых фартуках продавцы пирожков и чибриков. Вот к одному из пирожников подходит с двухрядкой в руках подвыпивший парень и спрашивает:
– Почем стоит твое кушанье?
– Один пятачок-с! – проворно ответил продавец. – С чем прикажете: с ливерком, с капусткой?
– Мне все едино, абы скусно и сытно было! – махнул парень рукой. – А согласишься ли ты, почтенный, накормить меня досыта и сколько за это возьмешь?
– Отчего же не согласиться! – ухмыльнулся в моржовые усы пирожник. – За полтину накормлю до отвала.
– А не просчитаешься? – крутил головой парень. – Я ведь жадный, могу и тебя вместе с лотком проглотить.
Пирожник весело затараторил:
– У меня, браток, слово твердое: сказал – что узел завязал… Платите полтинничек…
Получив деньги, пирожник обратился к толпе любопытных:
– Будьте свидетелями, уважаемые!
А парень, облизав губы, потянулся к лотку за пирожком. Но продавец остановил его:
– Виноват-с! Уговор дороже денег…
Продавец достал из лотка пирожок, откусил и начал жевать.
– Ну-с, ребеночек! – лукаво подмигнув, сказал он парню с двухрядкой. – Подходи поближе ко мне. Я буду жевать, а ты глотай на доброе здоровье… При всем полном обслуживании, как в сказке! Накормлю досыта, от своих слов не откажусь…
Толпа любопытных грохнула дружным смехом.
– Вот это ловко! – громче других смеялся и кричал низенький коренастый инвалид, притопывая деревянной ногой. – Потеха!..
Парень крепче прижал к себе двухрядку и в упор нацелил свой взгляд на пирожника.
– Ты что, почтенный, шутки со мной вздумал шутить? – спросил он.
– Никак нет-с, – улыбнулся пирожник. – Просил накормить, так изволь кушать.
– Значит, ты всурьез это? – наседал парень.
– Шутить не люблю-с, – продолжал улыбаться продавец.
– Тогда ты маловато взял с меня, обмишулился… На вот, получи еще, мошенник! – парень плюнул в моржовые усы пирожника и пошел прочь.
За церковью, между обувных и мануфактурных лавок, на фасаде одноэтажного кирпичного нежилого здания трепыхалось от ветра белое полотнище с крупной надписью:
Чудеса 20-го века!!!
А ниже, помельче, написаны подробности:
1. Девушка из Курляндии, в возрасте 17 лет, весит 18 пудов!
2. Девушка 23-х лет – нормального веса, изящна, неописуемой красоты, с бородой и усами.
3. Юноша-геркулес – 4 аршина в высоту!..
Заплатите за вход 20 копеек, и вы убедитесь, что это факт, а не реклама, подлинная правда, а не обман.
Меня больше всего удивила девушка с бородой и усами. Она, как и другие «чудовища», была изображена на красочном плакате во весь рост – с высокой пышной прической, в длинном черном платье и в маленьких золотых туфельках, как у царевны из книжки, которую мне приходилось читать еще дома, в Заречье. Вот чудо так чудо! Это не то что у нашей Сурчихи – усики чуть-чуть заметны, да на бородавке, около подбородка, три волоска торчат. У этой, что на картинке, бородища большая, черная, как у зареченского старосты Назара Чугунова. К нам бы ее, в Заречье! Пожалуй, никто бы не поверил. Сказали бы, что это мужик переодетый. А может, и вправду брехня, отвод глаз?
С высоких подмостков балагана, тут же поблизости, слышались прибаутки размалеванного клоуна, зазывавшего людей поглядеть и только за один пятак получить «все тридцать три удовольствия»…
От всех этих «чудес» у меня кружилась голова. Мне казалось, что я попал в какое-то «тридевятое царство». Здесь все соблазняло, все разжигало любопытство. Хотелось покататься на карусели и зайти в балаган, выпить кружку лимонаду и съесть румяный чибрик. Но в кармане у меня лежал всего-навсего только один пятак.
Я ходил по базару, одетый на городской манер. Меня, как и других мальчиков, поступивших в магазин раньше, приодели в тужурку и брюки из серого толстого сукна, потому что в деревенской одежонке неприлично было вертеться на глазах у важных покупателей.
Целых три года я должен был работать в магазине бесплатно, пока не произведут меня в ранг помощника младшего приказчика. Работать только за харчи и за тужурку с брюками да за кое-какую обувку. Конечно, три года можно было бы как-нибудь пережить, но явилась другая беда. С первых же дней мне не по душе пришлись все эти занятия – мести полы, быть на побегушках у приказчиков и переносить от них тычки и оскорбления, отворять двери покупателям, унижаться. И мне с каждым днем все больше и больше постылели мои занятия, противел магазин и его хозяин – мелочный и злой, противели юркие, верткие, как вьюны, приказчики и все господа покупатели – капризные и важные, на которых угодить стоило больших трудов. А когда лупоглазый закройщик, похожий на кощея бессмертного, надрал мне до крови уши за то, что я по ошибке купил ему в булочной не ту плюшку, которую он просил купить, мне стало совсем невтерпеж.
– Ты, свинячий сын, что мне принес? – сощурив левый глаз, наседал на меня закройщик.
– Булку, – ответил я.
– «Бу-улку!» – повторил закройщик, судорожно кривя губы. – Надо было купить солянку, а ты какую принес?
Не зная, что ответить, я молчал.
– На вот тебе, болван, другой раз будешь знать! – прохрипел закройщик и пальцами вцепился в мои уши.
Этого злого закройщика я так возненавидел, что готов был разорвать на клочки. Меня отец с матерью и то никогда не трепали за уши. Если, бывало, и провинишься в чем, отхлыщут ремнем и ладно. Но ведь то родители, а этот кощей – чужой!..
Закройщик трепал меня с остервенением потому, как мне объяснил потом один из магазинных мальчиков, что я не плакал и не просил у него извинения. Но я не чувствовал за собой большой вины и терпел, не хотел казаться сморчком, плаксой. Дома, когда мы с Яшкой рыбачили, я мог расплакаться о потерянном крючке, а вот здесь… откуда только терпение взялось!
Я пошел к Егору Фомичу и стал умолять его:
– Помоги мне, дядя Егор, уйти из магазина. Не могу я там больше оставаться…
Егор Фомич поглядел на меня и участливо спросил:
– Это почему же так скоро надоело тебе?
– Душа не лежит у меня к этому ремеслу, – ответил я.
– Ну, если душа не лежит, то дело понятное, – сказал Егор Фомич. – Против души работать – пользы не будет… А к чему у тебя душа лежит?
Этот вопрос застал меня врасплох, потому что я ни разу как следует не думал о том, какая бы профессия могла быть мне по душе. Помолчав минутку, я ответил:
– Рабочим куда-нибудь лучше… Может, у вас там, на постройке, где место найдется, – мне все равно, только бы не в магазине.
– Значит, хочешь каменщиком быть? – спросил Егор Фомич и пристально посмотрел мне в глаза.
– А чего они делают? – в свою очередь спросил я.
– Они, Васек, дома строят, – с заметной гордостью ответил Егор Фомич.
– Тогда согласен, – сказал я. – Только нельзя ли, дядя Егор, и моего товарища Яшку вместе со мной устроить? А то тетка Ольга отдала его в работники, а ему там тяжело.
– И здесь, брат, нелегко, – вздохнул Егор Фомич и, вынув из пятикопеечной пачки «Бабочка» папироску с длинным мундштуком, закурил. Выпуская синеватый дымок и чуть прищуривая глаза, он продолжал: – Ишь, как вы дружно живете – водой не разольешь. Да и молодцы… Хорошее дело сделали…
– Какое? – спросил я и удивленно поглядел на дядю Егора.
– Забыл? – посмеивался тихонько Егор Фомич. – Ну, раз вы с Яшкой народ такой твердый, надежный, то скажу: мне Орлик все передал, как вы по ягоды ходили…
– Значит, и ты, дядя Егор, с Орликом вместе? – спросил я, волнуясь от радости.
Уклонившись от ответа, Егор Фомич проговорил:
– Ну, что же с вами поделаешь – придется похлопотать. Пусть Яшка скорее приезжает в Самару. Пока у меня поживете, а когда устроитесь на работу да деньжонок станете немножко получать, то и уголок вам где-нибудь подыщем… Дружба, если она хорошая, настоящая, – все равно что мать родная. Вот так-то, земляк!..
Егор Фомич сказал, что мы с Яшкой станем работать и учиться мастерству каменщиков. Мне подумалось, что негодные люди, вроде закройщика, наверное, есть и на постройке. Но я уже теперь не так боялся, как с первого раза. Я знал, что буду вместе с Яшкой и дядей Егором. А Егор Фомич мне так же крепко полюбился, как и Орлик. Каждый из них согревал душу одним и тем же теплом, радовал сердце одной и той же радостью. И поэтому хотелось хоть немножко, хоть капельку быть похожим на них.
Яшка не заставил себя долго ждать. Получив известие, он тут же ушел из работников и все время торопил мать, чтобы та немедленно везла его в Самару. И вот поздней осенью, когда деревья сбросили с себя золотой наряд, тетка Ольга привезла его прямо к дяде Егору, как и было указано в письме. Вечером, за чаем, Егор Фомич сказал нам с Яшкой:
– Ну, вот вы и опять вместе… Держитесь теперь друг за дружку крепче да будьте смелее, а то вас и курица заклюет.
– Стосковался мой Яшарка по дружку своему вот так, что от еды отбился, – промолвила тетка Ольга, отхлебывая из блюдечка чай. – А как получили мы от вас письмо, ночи не спал: поедем да поедем скорее!.. Уж ты, Егор Фомич, не оставь, будь отцом родным – пособи им на дорожку-то здесь выбраться. Они у нас лучше, чем братья родные, – всю бытность вместе, каждую малость пополам делят, не ленивые, везде стараются копейку добыть да в дом принести…
– Раз взялся, то придется пособлять, – сказал Егор Фомич, дымя папиросой. – По трудной, но верной дорожке пойдут, будь покойна.
– Вот и спасибочко тебе большое, Егор Фомич! – сказала тетка Ольга, поднося к глазам уголок головного платка. – И от меня спасибочко, и от Григория с Дуняркой…
А мы с Яшкой и Петюшка, сын Егора Фомича, стояли у окна и смотрели книжку с разноцветными картинками. Яшка, соскучившись, держался за рукав моей рубахи и все время заглядывал мне в глаза. А когда Петюшка вышел, я сказал Яшке:
– Завтра все втроем не такие пойдем смотреть картинки, а живые!
– А где их смотрят? – удивился Яшка.
– В биоскопе.
– А я больно знаю, чего это такое…
Я вспомнил, что и мне был незнаком этот мудреный биоскоп, куда я впервые, как приехал в город, ходил с Петюшкой, и он заявил мне тогда, что больше ни разу не пойдет со мной, потому что я смеялся там, сам не зная над чем. Вспомнил и предупредил Яшку:
– В биоскопе надо смеяться не всегда, а только когда идет комическая картина… Все там сидят на стульях в темноте и смотрят. Эх и интересно! Не испугаешься?
– Ежели один, то испугался бы, а с тобой и не подумаю.
– Ну, смотри, а то Петюшка не любит, когда мешают смотреть картину. Он долго не ходил со мной в биоскоп, а теперь мы с ним дружим.
– А со мной он тоже будет водиться? – спросил Яшка.
– Конечно, будет, – ответил я. – Он о тебе уже знает… А дядя Егор, – шепнул я товарищу, – вместе с Орликом…
– А ты видел Орлика? – оживился Яшка.
– Видел, он к дяде Егору приходит, – ответил я. – Орлик выучил меня песню интересную петь: «Смело, товарищи, в ногу…» Я ее всю наизусть знаю.
– И я выучу, – сказал Яшка. – Тогда вместе будем петь, ладно?
– Ладно – согласился я.
Время шло своим чередом. Улетели в теплые края скворцы, задерживающиеся у нас дольше всех других перелетных птичек. А после того как озера покрылись тонким ледком, покинули наши места дикие утки. Умолкли пароходные гудки, по Волге плыло сплошное «сало», а на землю выпала первая пороша. Тетка Ольга уехала домой тут же, на второй день, потому что навигация закрывалась.
Мы с Яшкой уже работали. Вставали чуть свет, брали по горбушке ржаного хлеба, щепотки две соли и, поеживаясь, шли к месту постройки огромного мельничного склада за рекой Самаркой. Пиджачишки наши были на «рыбьем меху», все в заплатках, пришпандоренных вдоль и поперек белыми толстущими нитками деревенского изделия. Ветер насквозь пронизывал нас, делал горбатыми старичками. Зубы стучали до тех пор, пока мы не принимались таскать кирпичи.
Из дому уходили вместе с дядей Егором, а возвращались обычно вдвоем, потому что у дяди Егора были какие-то другие дела.
Работали мы прилежно, лезли куда надо и куда не надо, ко всему приглядывались да примерялись. Дядя Егор присматривал за нами, находил время сказать нам теплое, ласковое слово.
– Ребятишки вы смышленые, – говорил он. – Научитесь и будете неплохими каменщиками.
По воскресеньям к дяде Егору приходил Орлик, а с ним еще один человек – в очках, с землистым лицом, которого звали Тимофеичем. Этот человек, как мы потом узнали, работал печатником. Тоже хороший, обходительный, но говорил мало и почти никогда не улыбался, а только часто покашливал, поднося к губам левую руку, худую, бледную.
Самым оживленным и разговорчивым был Орлик. Он шутил с нами, подбадривал.
– Дела у нас с вами, земляки, большие будут! – говорил он. – Главное, духом не падайте. Трудно из непроглядной-то темноты и духоты, выбираться на вольный простор да к свету – ой как трудно! А идти надо. Идти смело, ничего не боясь, затем, чтобы вам никто и никогда не смел больше рвать уши до крови и чтобы не сутулиться в залатанных пиджачишках, а шагать прямо и дышать полной грудью…
В свободные от работы дни мы с Яшкой уходили за город, где стояли деревья и кустарники, запушенные инеем, и вдыхали чистый морозный воздух. Мы обращали свой взгляд в ту сторону, где вдали от нас стояло родное Заречье, где остались со своей неотступной нуждой наши родители. Мы взбирались на высокий холм и, обдуваемые всеми ветрами, посылали им и дяде Игнату из графского имения мужественные слова заученной нами песни: «Смело, товарищи, в ногу…»








