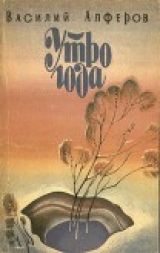
Текст книги "Утро года"
Автор книги: Василий Алферов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Находка
На Волге, в двух верстах от Заречья, стояла небольшая баржонка. С крутого берега в нее грузили на тачках швырковые дрова – разнолесье. Погрузка производилась спешным порядком, потому что полая вода день ото дня поднималась все выше и выше и широко разливалась по лугам, грозя затопить шагаровские дрова. Хозяин предупредил мужиков:
– Дрова должны быть погружены в три дня.
Это было в первой половине мая. Из нашего курмыша работали почти все мужики, кроме однорукого Матвейки Лизуна и дяди Максима, который в это время обычно ставил верши и вентери. Работали круглосуточно, делая передышку только во время обеда и ужина.
Мой отец наказал с дядей Максимом, чтобы я принес ему хлеба и пшена кружки три-четыре – варить кашицу. А когда мать приготовила харчи и уложила их в корзину, я тут же побежал к отцу. Через два глубоких ерика, залитых студеной мутной водой, меня перевез дядя Максим, собравшийся ехать на рыбалку, а там по высоким гривам я побежал к месту погрузки дров.
Проходя мимо Мочального озера, я заметил, что оно помутнело – полая вода лезла, напирала с Волги, проникла во все низины. Перешеек озера тянулся далеко и преграждал путь. Обходить его мне не хотелось, решил перебраться вброд. Выбрав место помельче, я благополучно перешел через узкий перешеек, потому что воды в нем оказалось всего только по колено.
Выйдя на берег, я вытер ноги о молодую, ярко-зеленую и шелковистую траву, потом, громко крикнув и пульнув вверх небольшой камень, спугнул ворону, сидевшую на самой вершинке толстой ветлы. Вдруг перед самым моим носом из дупла ветлы с шумом вылетела кряковая утка. От неожиданности я перепугался и чуть не выронил корзинку из рук. Но испуг тут же сменился непередаваемой радостью. Хорошо зная, что дикая утка вылетела из своего гнезда и что в нем обязательно лежат яйца, я со всех ног бросился к ветле и тут же запустил руку в дупло. Я не ошибся… вот оно, счастьице-то, – в моих руках, подвалило нежданно-негаданно! А ведь мы с Яшкой немало охотились за утиными гнездами, но безуспешно. Впрочем, два гнезда находили, но яйца в них были насиженные, и мы их не трогали. А тут – на тебе, свеженькие! Ой, да, кажется, много их! Ну-ка, пересчитаем: раз, два, три… целых восемь штук! Все, как одно, ровные, зеленоватые…
Бережно уложив яйца в корзину, я присвистнул и пустился рысью. А когда добежал до места, мужики собирались уже обедать. Отец спросил:
– Ты что, сынок, как долго? Совсем заморил меня.
– Утиное гнездо нашел! – ответил я громко, чтобы все слышали. – Вот они – свеженькие, восемь штук!
Отец заглянул в корзинку и проговорил:
– Да и вправду утиные яйца!.. Где это ты нашел их?
– Там, у перешейка Мочального озера, в дупле, – махнул я рукой.
Мужики окружили корзинку, глядели на мою находку, будто на диковину, и каждый хвалил меня.
А Роман Сахаров, подмигнув моему отцу, сказал:
– Ну, вот и хорошо. Сейчас мы их в котел, да и сварим, попробуем утиных-то…
– Как бы не так! – сказал я и уцепился за корзинку. – Варить ни одного яичка не дам.
– А куда ты их денешь? – спросил дядя Роман.
– Домой все отнесу.
– И один съешь?
– Не подумаю даже.
– Афанасьичу на крючки променяешь?
– Да нет! – сказал я. – Подбавим столько же куриных и посадим наседку. У нас пеструшка уже квохчет…
– Ну-у! – громко протянул дядя Роман. – Глядите-ка, мужики, на него – дело ведь придумал, а?
Мужики улыбались…
Когда я принес утиные яйца домой и посоветовал матери добавить столько же куриных и посадить на них пеструшку, она и слушать не хотела.
– Еще чего выдумал! – сердито сказала мать. – Где это видано, чтобы курица на утиных яйцах сидела?
Да, дело это, конечно, не совсем обычное. Но я не отчаивался, а настойчиво упрашивал мать, чтобы она согласилась посадить пеструшку. Целых два дня увивался около нее, старался ничем не огорчить, ничем не расстроить.
– Когда утятки вырастут, – загадывал я, – двух уток и одного селезня себе оставим, а остальных продадим…
Наконец мать начала сдаваться. Голос ее стал мягче, глаза повеселели.
– Больно рано загадываешь, сынок, – промолвила она. – Надо по осени считать. Да утиные-то яйца, может, дольше куриных высиживать надо?
– Совсем и не дольше, а тоже три недели.
– Откуда ты знаешь?
– Дядя Максим сказывал.
– Беда с тобой! – вздохнула мать. – Иди, устраивай гнездо пеструшке…
Ну вот, одно дело сделано. Теперь другая забота выплыла: корыто надо мастерить для утят. В этом деле мне помог Яшка. Корыто задумано мелкое, но широкое, похожее на бельевое. Мы долбили его почти столько же, сколько сидела пеструшка на гнезде. Потом вырыли яму и вровень с землей поставили туда корыто. Для пробы налили в него воды – вместилось чуть ли не целое ведро!
Когда вылупились цыплята и утята, мы их сначала немножко подержали в избе, в старых шапках, а как только они окрепли, выпустили вместе с квочкой ко двору. Их было тринадцать: шесть цыплят и семь утят. Три яйца оказались «болтунами».
Ну и потеха началась! Хоть смейся, хоть плачь… Цыплята бегали быстро, а утята еле-еле ковыляли, спотыкались. Одни послушно бежали за пеструшкой, рылись в земле, другие, ничего не признавая, тянулись к воде, пушистыми комочками скатывались в корыто с водой и блаженствовали там, как в маленьком озерце. А пеструшка вся взъерошенная, квохчет, беспокоится, бегает от цыплят к утятам и понять никак не может: что же это такое за оказия?
Так изо дня в день и металась пеструшка то туда, то сюда, до хрипоты квохтала, старалась свести утят вместе с цыплятами, но бесполезно. Утята не понимали куриного языка и продолжали преспокойно плавать в корыте. Зато спали под крыльями пеструшки.
Вся забота об утятах легла на мои плечи. Это цыплятам хорошо – за ними квочка ухаживает: то червячка отыщет, то букашку какую поймает. Да и сами цыплята не ленятся, целый день роются да что-то все клюют. А утята сами ничего не могут добыть. Они только и знают, что цедят воду да тычутся в края корыта своими широкими темно-зелеными носиками. Их надо накормить, сменить им воду, присмотреть за ними…
Прошел месяц. Квочка забыли не только утят, но и цыплят. Она рано бросила их и начала снова нестись. Утята росли быстрее, чем цыплята. Им уже тесно стало плескаться в корыте, и я решил проводить их на Сухую речку. Там им очень понравилось, и они целыми днями плавали в заросших травой баклушах, а вечером приходили домой – и прямо к корыту; это я их привадил – каждый раз подбрасывал им горстку пшена или мелкие кусочки хлеба.
Утята росли, кажется, не по дням, а по часам. Они уже давно оперились, и теперь стало заметно, что среди них три селезня и четыре утки. Маленьких утят никто не замечал, а если кто и видел, то безразлично махал рукой: «Баловство одно, ребячья забава!» Но сейчас каждый смотрел на утиный табунок с завистью, каждый расхваливал меня на все лады за предприимчивость:
– Ну и дошлый! Смотри, чего придумал, а! Целых семь голов вырастил! А наши галманы никогда ничего не смекнут.
А как-то вечером мать посоветовалась со мной.
– Которых, сынок, на племя-то оставим? – спросила она ласково. – По-моему, вот этих двух уточек – они малость покрупнее. А селезня – вон того, у которого грудка посветлее.
– Ну что же, – согласился я, – этих и оставим. Только селезню и уткам я другие названия придумаю.
– Это какие еще другие, сынок?
– Селезня Красавчиком будем звать, а уток… не знаю как, не придумал еще.
– Ладно, сынок, придумаешь. Чай, не к спеху.
Не скрывал своей зависти и Яшка. Моя находка с первых же дней взбудоражила его так, что он спал и видел утиные яйца. С обидой в голосе Яшка сказал мне однажды:
– Почему не взял меня с собой?
– Тебя нигде не видно было, – ответил я.
– Я дома сидел – пришел бы…
– Ну да, «пришел бы»!.. Надо было бежать скорее.
…А в конце сентября, когда по утрам на земле серебрился иней, а над водоемами клубился густой и белый, как вата, туман, наш утиный табунок пропал. Ушел, как всегда утром, на Сухую речку, и не вернулся ни к вечеру, ни на другой день, ни через месяц… Как будто его и на свете не было! Мать до того расстроилась, что даже захворала – дня три ходила согнувшись, будто иголку искала на полу, и стонала на всю избу:
– Ой, поясница ломит, моченьки моей нету!..
А Роман Сахаров подшучивал надо мной:
– Вот тебе и Красавчик!.. Говорил я тогда: давай сварим яйца, не послушался, ну и поминай теперь, как звали, твоих уточек.
Отец высказал предположение о том, как мог исчезнуть наш утиный табунок:
– Подсела, наверно, к нему стайка пролетных крякуш, побалакала и утянула его за собой в теплые края… Дичь она и есть дичь. Крылья надо было подрезать.
От последних слов отца у матери вдруг появилась дрожь во всем теле.
– «Крылья подрезать!» – протянула она нараспев, гневно сверкнув глазами. – Почему же ты раньше об этом не сказал?.. Эх ты, горе луковое, а не мужик!
Отец задумчиво глядел в окно и молчал. Послышался бабушкин голос:
– Э-э-хехе-хехе! – вздохнула она. – Так уж завсегда бывает: где тонко, там и обрывается.
Я изнемогал от обиды. Как это мне не пришло в голову подрезать крылья? Эх, дурья башка! Забившись в темный угол сарайчика, чтобы меня никто не увидел, я со злостью трепал себя за длинные вихры и приговаривал: «Вот тебе, вот, растяпа!.. Другой раз умнее будешь». А вот где находятся эти самые теплые края, куда улетают на зиму дикие утки, мне было совсем неизвестно. И я решил спросить об этом у Алексея Петровича: он учитель, про все знает.
На второй же день в большую перемену я обратился к учителю со своим наболевшим вопросом. Алексей Петрович пытливо посмотрел на меня и, подкручивая пожелтевший от табачного дыма ус, промолвил:
– Ладно, скажу, но только в классе, после перемены.
Перед началом урока учитель объявил всему классу:
– Ученик Полынин спрашивал меня, куда на зиму улетают от нас дикие утки. Может быть, кто знает, а?
Все молчали.
– А кто хотел бы знать об этом, кроме Полынина?
Класс зашумел потревоженным ульем. Все до единого подняли руки.
– Хорошо, – сказал учитель, покручивая ус. – Но пусть сначала Полынин объяснит нам, почему его заинтересовали дикие утки, а не другие какие-либо перелетные птицы.
Я вкратце рассказал обо всем: как весной нашел в дупле гнездо кряквы, как вырастил утят и как они осенью пропали.
– Отец мой после времени надоумил, – сказал я под конец, – что надо было бы крылья подрезать дикаркам, тогда они не улетели бы в теплые края.
– Понятно, – сказал учитель и велел мне садиться на место. – А теперь слушайте, – продолжал он. – Утки, как и все другие перелетные птицы, – наши гости. Они прилетают к нам весной: одни в конце марта, другие в апреле, третьи в начале мая. Прилетят, порадуют нас, выведут деток, вырастят их, а осенью – марш в теплые края. Куда же улетают кряковые утки? Улетают они от нас в октябре и зимние месяцы проводят в районах Черного и Каспийского морей, а многие из них улетают далеко-далеко – в Индию и Африку. Понятно?
– Понятно! – хором ответил класс.
Яшка, краснея от волнения, поднял руку. Учитель спросил:
– Тебе непонятно, Сироткин?
– Я про перепелку хочу спросить, Алексей Петрович: куда она улетает на зимовку?
– Перепелки улетают тоже далеко: в Индию и тропическую Африку. Небольшая часть их зимует в Закавказье.
– А серая куропатушка тоже в Индии зимует? – подняв руку, пропищал толстощекий Петька Марьин.
По классу прокатилось хихиканье. Смеялись не над тем, что Петька оседлую куропатку причислил к перелетной птице – этого многие не знали, – а над его изменившимся, каким-то особенно тонким, как у маленького котенка, голоском. Улыбнулся и Алексей Петрович. Он прошелся, окинул взглядом весь класс и, подойдя к Яшке, сидевшему на самой задней парте, спросил:
– Скажи, Сироткин, где, по-твоему, зимуют серые куропатки?
Яшка от неожиданности съежился, но веселые глаза его горели уверенностью.
– Зимуют у нас, у Крутого оврага, в бурьяне, – ответил Яшка. – Мы с Васяркой Полыниным много раз видели куропаток, когда петли ходили ставить.
– Молодец, Сироткин, садись, – сказал Алексей Петрович и продолжал: – Серые куропатки не перелетные птицы. Живут они в степях, на залежных полях, вблизи кустарников и бурьяна, и никуда не улетают. А зимой даже на гумнах в мякине роются да зерна хлебные отыскивают… А теперь скажу я вам вот что: любите природу, пристальнее приглядывайтесь ко всему, наблюдайте. – Учитель поправил очки, посмотрел в Яшкину сторону, потом в мою. – Вон у Сироткина с Полыниным какие глаза острые, – заключил он и начал диктант.
…С того дня у Алексея Петровича изменилось отношение к Яшке, и он пересадил его с задней парты на переднюю. Теперь мы снова сидели с ним вместе.
Орлик
Это тот самый Орлик, сын Романа Сахарова, а по-настоящему – Гурьян, который несколько лет назад скрылся из дому неизвестно куда. Он ушел, как говорил Роман, «искать счастья». Кличка прилипла к Гурьяну еще в детстве, и так крепко, что осталась, видимо, на всю жизнь. И, надо сказать, очень ему была кстати. В нем чувствовалось что-то действительно орлиное: он был сильным, ловким, смелым и решительным. И сейчас, когда стал взрослым, возмужал, его с полным правом можно было назвать орлом.
Орлик был среднего роста, плечист, с мягкими белесыми и вьющимися волосами. Глаза крупные, бирюзовые, проницательные. Парень вдумчивый, рассуждал дельно, любил помечтать. Редко ходил на гулянки, предпочитал оставаться дома, посидеть за книжками, которые ему давал анновский учитель Константин Сергеевич. И все поэтому говорили о нем с сочувствием:
– Парень какой, а?.. Картина, портрет писаный, а только вот поди ты – прячется от всех, сидит, как домовой…
А Орлик, затаив в глубине души мысль о какой-то неизвестной, но, как ему казалось; прекрасной жизни, отращивал крылья, чтобы потом взмахнуть ими и улететь. Так он и сделал. И возвратился в свое гнездо только спустя несколько лет.
Приехал Орлик душной июньской ночью на местном пароходе. А утром об этом уже было известно всему Заречью. Люди говорили кто во что горазд:
– Орлик воротился!..
– Когда?
– Нынче ночью.
– Целый?
– Говорят, хромой и бородой оброс.
– А болтали – в живых нет…
– С деньгами, наверно, приехал?
– Уж не без этого!.. Поди, хапнул как следует.
За эти пять лет Орлик резко изменился. Он отрастил небольшую окладистую бородку, которая очень шла ему и придавала солидный вид. А прихрамывал он оттого, что правый сапог сильно жал ногу. Денег же лишних у него не было.
Изменился Орлик не только внешне, но и внутренне: стал каким-то другим, не зареченским мужиком, а больше смахивал на того учителя, который давал ему читать книжки, хорошо сведущим человеком во всех житейских делах и, как говорил в шутку дядя Роман, «на три версты дальше своего носа стал видеть».
На завалинке у Романа Сахарова вечерами стало теперь еще многолюднее. Мужики с затаенным вниманием слушали рассказы Орлика о том, где он побывал, что поделывал и чего видел. Иван Верста с любопытством спрашивал:
– Ну, а как, Орлик, довелось тебе увидеть, в чем ходит счастье, или нет?
– Как же, довелось, – отвечал Орлик, улыбаясь. – Счастье, дядя Ваня, одевается богато, ест, пьет вдоволь, чего только душе угодно.
– Вон как! А пымать ты его не пробовал? – громко восклицал Иван и лез в карман за табакеркой.
– Пробовал, а то как же.
– Не обратал?
– Лягается, – шутил Орлик. – Одному трудно, а если взяться всем, то зануздать можно крепко…
Орлик, как он рассказывал, побывал во многих, поволжских городах. Из дому ушел в Сызрань, а оттуда, по чьему-то совету, махнул на пароходе в Ярославль. Здесь впервые на его плечи легла жесткая «подушка» – стал он крючником, приобрел широкие шаровары и красный кушак, научился ходить по пристанским мостикам вразвалку, широко расставляя ноги, обутые в легкие мордовские лапти-однорядки. А когда порядком натер плечи, потянуло поближе к родным местам.
И вот он приехал в Самару – тележную, пропахшую деревянным маслом. Два года таскал тюки и ящики на пристани у купца Мешкова, потом перешел к подрядчику Антонову. Но и у Антонова было не слаще. Подрядчик переманивал крючников водкой и обещаниями. А когда обманутые крючники подступали к нему и просили прибавки, Антонов смеялся:
– Прибавит бог веку доброму человеку. Работать надо, работать! А за мной не пропадет…
О чем бы Орлик ни рассказывал, все было для нас новым, никогда не слышанным. Да и рассказывал он увлекательно, интересно, смешил нас, ребятишек, пел разные веселые припевки, которые, дескать, помогают крючникам таскать тяжелые грузы. Рассказывая, он притопывал ногой:
Ай-да ну, молодчики,
Ай-да, разудалые!
Сунем мы, посунем,
Тянем да потянем,
Идет, идет,
Бери, пойдет!..
Тянули по мосткам жернова, машины, колокола и всякие другие тяжести. Малосильные, изнуренные, замертво падали на мостки, захлебывались кровью. Оборвется у него что-то внутри, он и упадет. Его оттащат в сторону, подальше от глаз, покроют рогожей, а ночью увезут в черном гробу далеко за город, схоронят где-нибудь на скотских кладбищах… А купцы и подрядчики все подгоняют да поторапливают… Идут товары вниз и вверх по Волге, прибывают из Астрахани и Саратова, из Нижнего Новгорода и Казани. Поступают товары из Сибири, из Ташкента да из Бухары… Грузчик тюки таскает, а купец барыши наживает. Покрикивает да словами подхлестывает:
– А ну, ходи живее – хозяину веселее! Товар лежит – у купца душа болит…
И ходят день-деньской грузчики в широких шароварах, похожих на бабьи юбки, меряют лаптями мордовскими мостки хозяйские, натирают спины тюками многопудовыми, подбадривают себя припевками да прибаутками. А Волга течет, не останавливается. Плывут по ней баржи груженые, плоты и беляны. Идут вверх и вниз пароходы пассажирские и пароходы буксирные разных хозяев. У каждого хозяина свои конторы, свои управляющие и приказчики, свои грузчики и свои порядки. Даже красят они пароходы каждый по-своему, чтобы по цвету знали, чей пароход идет… Все разное, только каторга одна и та же.
Сидят мужики тесным рядком на Романовой завалинке и шумно вздыхают. Здесь они все свои, все одного покроя. У каждого на уме одно: придет ли когда то светлое времечко, чтобы об этой нужде проклятой и помину не было? Слушают мужики Орлика, а потом, смотришь, и сами нет-нет да ввернут какое-нибудь словечко.
– Везде, похоже, не сладко, – болтая пустым рукавом, говорит Матвейка Лизун. – У каждого хозяина свои конторы, свои порядки… Ну, и карманы тоже свои, да широкие. В них, ой-ой, сколько полезет!.. А рабочему-то человеку – кукиш с маслом.
В разговор вступал дядя Максим. Но прежде чем заговорить, он оглядывался вокруг и, наклонившись близко к Орлику, негромко спрашивал:
– Ужели так никто и не делает им, толстосумам, никакого укорота?
– Сейчас укорот делается, – отвечал Орлик. – В революцию-то их как следует припугнули…
– А то, гляди-ка ты, – продолжал дядя Максим, – человек еле на ногах держится, в помощи нуждается, а его с ног сшибают, а потом увозят и зарывают рядом со скотом? Какой это порядок?
– Самый никудышный, – поддакивает Орлик. – Есть теперь такие люди – за рабочего человека горой стоят, в обиду не дают.
От его слов становилось легче, будто с плеч сваливалась тяжелая ноша. Но было непонятно, кто эти люди. А Орлик так и сказал: «Есть теперь такие люди». И только Роман понимал все. Глаза его горели огоньками радости и гордости за сына: «Молодец, Орлик, так и надо!» – будто говорили они.
Роман знал, что и Орлик принадлежит к тем людям, что «за рабочего человека горой стоят, в обиду не дают», но молчал, не говорил об этом даже своей Ульяне. Он слышал о сыне от прохожих людей, иногда останавливавшихся у него на ночлег. Они рассказывали ему, как Орлик стал старшим артели грузчиков, как перешел с Волги на механической завод Бенке, как участвовал в забастовках вместе с передовыми рабочими.
Завод, куда Орлик перешел из артели волжских грузчиков и где постиг сложное литейное дело, очень старый. Он был открыт задолго до революции пятого года. Завод небольшой, смрадный, душный. Работало здесь около трехсот человек. Много было подростков. От этой даровой силы хозяин имел немалую выгоду. Подростки учились ремеслу вприглядку, толком им никто ничего не объяснял, денег они ни копейки не получали. Мастера били учеников за каждую малость, а то и просто ни за что ни про что. Работа на заводе начиналась с шести часов утра и кончалась в восемь вечера… А если кто опаздывал на работу, того штрафовали на десять, а то и на двадцать копеек, тогда как самый высокий заработок рабочего был не более шестидесяти копеек в день.
Мы с Яшкой смотрели на Орлика во все глаза и думали: «Его, наверно, все рабочие в Самаре уважают и любят, потому что он, вишь, какой добрый да смелый, каждому может помочь, в обиду не даст!»
Приехал Орлик погостить, повидаться с родителями, поглядеть, как живут зареченцы. Много прошло времени с тех пор, как он покинул свое родное село, и увидел, что живут они все также, как жили в прежнее время. Только вот избы безлошадников еще больше покосились и хозяева их заметно постарели, а ребятишки подросли и не узнаешь, да у Карпа Ильича Табунова еще один амбар хлебный прибавился и новые хлебоуборочные машины появились с американской маркой «Мак-Кормик». А у маломощных крестьян нужды стало больше – на воз не покладешь.
Орлик часто беседовал и в более широком кругу, но только за Волгой, в островном лесу.
Мужики брали сети, бредень, провизию и поодиночке или по двое уходили в луга. Там, у реки, мы с Яшкой сидели в лодке, то и дело взмахивали удочками, ловили остробрюхих чехоней и с минуты на минуту ждали Орлика. А когда он приходил, ехали за Волгу.
…После вечерней ухи все усаживались вокруг затухающего костра на траве и беседовали до рассвета. Мы с Яшкой тоже не спали. Нам очень хотелось послушать о том, как добивается Орлик для всех бедных счастливой жизни. Роман затянулся крепким самосадом и промолвил, обращаясь к моему отцу:
– Ну, Григорий-богослов, сейчас вот спрашивай Орлика, как добиваться справедливости на земле… А то ты все меня одолевал…
Отец завозился, кашлянул и, поправляя в костре головешки, проговорил:
– Оно, знамо, справедливости нет никакой. Где ее найдешь? Это не пряник, в лавочке не купишь.
Орлик одобрительно сказал:
– Правильно рассуждаешь, дядя Гриша! Справедливости у нас нет, и ее нельзя купить, как пряник. А она должна быть. Вот они, – показал Орлик на меня и на Яшку, – обязательно доживут до того светлого дня, когда радость войдет в каждый наш дом…
Иван Верста, не расставаясь со своей табакеркой, причмокнул губами:
– М-да!.. Ребятишки, выходит, доживут, а мы-то Орлик, как? Может, хоть краешком захватим, взглянем на ту новую-то жизнь?
Дядя Максим заворчал:
– Ты, Иван, завсегда любишь перебивать. Дай человеку все высказать обстоятельно. После спросишь…
– Ну, после! – с обидой в голосе сказал Иван. – Тогда я и забыть могу.
– Это ничего, Максим Иванович, – сказал Орлик. – Пусть перебивает.
Иван Верста будто этого только и ждал.
– Башки бы им, мучителям, посшибать чертям на рукомойники! – крикнул он, тыча в нос щепотку табаку. – Вот и нашего Табунова тоже послать бы туда, где Макар телят не пас. Тогда и дышать стало бы легче.
– Так-то, дядя Ваня, настоящего счастья не добьешься, – сказал Орлик. – Табунову или кому другому голову свернешь, а на их место, как грибы-поганки, вылезут вдвое больше. Чертям тогда рукомойники некуда будет девать, – улыбнулся Орлик. – Тут надо глубже брать, под самый корень. А если мы начнем у дерева только ветви срезать да подравнивать его, оно гуще и шире разрастаться станет.
– Вот это верно! – ухватив себя за бороду, одобрительно воскликнул дядя Максим. – Волка, к примеру, завсегда надо старого вперед прихлопнуть, а выводок и голыми руками в мешок можно покласть.
Ивану Версте хотелось пожаловаться на свою собственную горькую долю, на то, что нужда измотала его, вытянула, сделала как будто еще длиннее. И вот, улучив момент, он начал исподволь:
– Надолго прибыл, Орлик?
– Да недельки две думаю пожить, – ответил Орлик, перебирая что-то в дорожном мешке.
– Эх, жалко! – покрутил головой Иван. – Ежели бы погостил еще немного, то как раз бы дыни с арбузами поспели. На бахчах а-яй как хорошо можно было бы покалякать!.. Там я полный хозяин. У меня, брат, сейчас два рукомесла: зимой церковь сторожу, чтобы святые угодники не разбежались, а летом вместе с Дорофеичем на бахчи перехожу, в шалаш… Куда же деваться? Землицу свою пришлось задарма хуторянам в вечность продать. Из силов выбился, хоть караул кричи. Да-а, – протянул Иван, – живем мы ровно кутяты слепые, тычемся туда-сюда, а ни с места. Народу надо открыть глаза, подбодрить его, направить на путь истинный…
– Вот-вот, – подхватил Орлик. – Именно открыть глаза надо каждому… А дорога у нас одна – к революции: царя по шапке, заводчиков, фабрикантов, помещиков и всех других богатеев – туда, как ты давеча сказал, – где Макар телят не пас. Ну, а фабрики и заводы – рабочим, землицу – крестьянам. Вот таким, как ты, Максим Иванович, Григорий Полынин, как вот Яшкина мать…
Мы с Яшкой встали и пошли на гриву за сухим хворостом, который после половодья лежал всюду большими кучами. В темноте Яшка дернул меня за рукав и спросил:
– Слыхал, что Орлик говорит?
– А то не слыхал! – ответил я, вытаскивая из кучи длинную хворостину. – Он в Самаре главным…
– А ты знаешь, что ли?
Я ничего не знал, но заключил только по тому, что раз Орлик говорит «царя по шапке», то, конечно, он не из простых.
– Тут и знать нечего, – сказал я. – И так видно.
– Эх, вот бы у Табунова всю землю отобрали! Тогда Микитка не стал бы нас дразнить кусошниками, – проговорил Яшка и, споткнувшись, грохнулся на кучу хрусткого хвороста.
– Гляди ты, тихонько – глаз выколешь, – сказал я. – А Микитке мы тогда за все бы отплатили: и за то, что дразнил нас, и за отнятый у тебя лосевый биток – помнишь, когда у Лизунова двора в бабки играли?
– Помню, – сказал Яшка. – И за то отплатим, как он тебе, Вась, прошлым летом репьи в волосы закатал…
Мы принесли по охапке хворосту, посидели еще маленько. Веки наши стали тяжелыми, будто оловянными, глаза начинали слипаться, и мы, свернувшись калачиком, заснули.
Ни одной поездки за Волгу не пропустили мы с Яшкой. Орлик похвалил нас за это и подарил книжку про гуттаперчевого мальчика.
– А купаться пойдем на Воробьиный мыс? – спросил нас как-то Орлик.
– Пойдем, – обрадовались мы.
– Плавать умеете хорошо?
– Большое озеро переплываем, – похвалились мы.
А Яшка добавил:
– И на спине умеем плавать.
– Во-он что! – тряхнул Орлик завитушками волос. – Тогда все в порядке.
…На другой день мы собрались на Воробьиный мыс. Это – самое излюбленное место для купанья. Тут, с мыска, больно хорошо было прыгать прямо в Волгу, а на береговом желтом вязком песке – лежать, валяться и поджариваться, как на сковородке. Но купались здесь только те, кто умел плавать, потому что течение быстрое и глубина большая – около самого берега с головкой!
Мы с Яшкой поджидали Орлика за нашим огородом и от нечего делать бросали мелкие камешки под горку, стараясь попасть в дубовую колодезную бадейку. Из Афанасьичева проулка вышла целая артель ребятишек. Было далековато, и мы узнали только Микитку Табунова, Сережку Мельникова и Тимошку Мухомора. Они спустились по узкой тропинке к Сухой речке и направились в луга. А из-за угла своей рубленой бани неожиданно вывернулся Петька Марьин с большущим ломтем пирога в руке. Увидев нас, он отбежал немного и злорадно провизжал:
– Кусо-ошники!
Яшка пульнул в него камнем и крикнул в ответ:
– Обжора, подавиться бы тебе!
– Ябеда! – не утерпел и я.
Петька издали обозвал Яшку «вареным», а меня – «отпетым» и прибавил ходу.
Когда мы с Орликом пришли на Воробьиный мыс, то увидели, что Микитка, Сережка, Тимошка и Петька Марьин жарились уже на горячем песке. Не будь с нами Орлика, не миновать бы кровопролития. Как бы мы ни храбрились, а вдвоем разве можно справиться с такой оравой? Пришлось бы нам с Яшкой идти домой с помятыми боками. Но сейчас все наши враги были тише воды, ниже травы. Они предусмотрительно перекочевали со своего места чуть подальше и с любопытством, во все глаза смотрели, как Орлик с разбегу нырял в воду и делал далекие заплывы. С волнением следили за Орликом и мы с Яшкой. Однако нам хотелось щегольнуть перед мальчишками, а особенно перед Орликом, показать свою удаль, свое умение. И, прежде чем прыгнуть в воду, мы вытягивались в струнку и громко кричали в один голос:
– Орлик, смотри!.. – И со счетом: раз, два, три – бросались в воду.
– Молодцы! – махал нам рукой издали Орлик и, шумно отфыркиваясь, плыл к берегу.
После нескольких прыжков и заплывов мы сделали передышку и улеглись на песок. Вдруг послышались истошные голоса ребятишек, среди которых резче всех выделялся голос Микитки:
– Петька Марьин то-о-не-ет!.. В суводь попа-ал!..
Орлика будто ветром сдуло. Он мигом очутился возле ребятишек и со всего размаха бросился в воду. Мы с Яшкой побежали вслед за Орликом и с крутого яра глядели, как Петька крутился в суводи и никак не мог из нее выбраться.
– А, дразнила, попался! – тихо проговорил Яшка. – Это тебя бог наказал…
Сначала Петька кричал, а потом смолк, стал захлебываться и с головой погружаться в воду. В это время подоспел Орлик и крепко ухватил Петьку за волосы. Сильным движением правой руки и ног Орлик разорвал воронку суводи и, сделав несколько толчков вперед, очутился на берегу. Но Петька был без движения.
– Мертвый он! – кричали Петькины товарищи.
– Нет, не мертвый, – спокойно сказал Орлик. – Хлебнул водички немного и перепугался. Сейчас мы его откачаем, он и оживет…
А когда Петька пришел в себя, то сперва стал дрожать, как в лихорадке, а потом плакать.
– Ну, брат, теперь не плакать надо, а радоваться, – сказал Орлик. – Одевайся и беги домой… Да смотри в суводь больше не попадай.
О происшествии на Воробьином мысе было известно всему Заречью в этот же день. Каждый говорил, что если бы не Орлик, то Петьку поминай как звали!
…А дня через три к нам в Заречье приехал урядник в своем плетеном тарантасе на рессорах. Он приехал по доносу старосты о том, что-де заявился Гурьян Сахаров, а по прозвищу Орлик, о котором нехорошие слухи идут как о смутьяне. Урядник приехал для того, чтобы на месте все выяснить и принять самые решительные меры. Но Орлика в Заречье уже не было.








