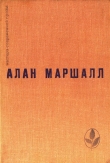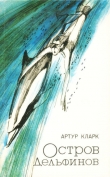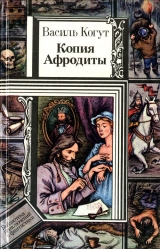
Текст книги "Копия Афродиты (повести)"
Автор книги: Василь Когут
Жанры:
Детские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
НЕПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Фамилию Журавского, названную старым учителем, Алеша запомнил. Оказалось, что он дальний родственник Сиси. Узнать его адрес было несложно.
Через неделю Люба встречала Алешку на столичном автовокзале. Не одна, а с подругой. Алешка в весенней плащевой куртке и в отутюженных брюках, без головного убора, с перекинутой через плечо сумкой вышел из автобуса важно, не спеша, протянул сестре руку и деловито поздоровался:
– Ну, привет!
– Как это тебя мать отпустила? – удивилась Люба, и насмешливая улыбка появилась на ее лице. – Ты же у нас еще маленький.
– Не издевайся.
– Любка, – заступилась подруга, – парень-то какой! Алеша и впрямь не был похож на себя. Он будто
вырос. Новая одежда и фасонная стрижка делали его солиднее.
Втроем не спеша шли к троллейбусной остановке. Алеша с любопытством провожал глазами беспрерывный поток машин, оглядывался на высокие и красивые здания, людей, которые куда-то спешили… В общем – круговорот, в котором того и гляди потеряешься. Это Алешке не понравилось.
– Тут всегда так? – спросил он у Любы.
– Что? – не поняла она.
– Беготня, спешка…
– Это еще что, – улыбнулась сестра. – Посмотришь, что в центре творится.
– Тогда не хочу в центр, – вдруг сказал Алеша. – Давай съездим в одно место.
– Так ты не ко мне?
Алеша протянул Любе старый конверт, и та удивленно уставилась на адрес. Но ничего не спросила. Подруга с ними не пошла.
Нужный дом нашли без труда. Поднялись на четвертый этаж. На соловьиную трель звонка дверь приоткрыла миловидная со снежной белизной волос женщина и спросила:
– Вам кого?
– Самсон Иванович здесь живет?
– Тут. Минуточку. Саму-у-сь! К тебе какие-то молодые люди.
А вскоре появился хозяин в полосатой пижаме. За массивными очками его глаза смотрели с любопытством.
– Слушаю вас, милые, – голос Самсона Ивановича тихий, с хрипотцой.
– Мы из Заречного. По делу, – даже не представившись, начал Алеша.
– По делу? Из Заречного? – удивился Самсон Иванович. – Земляки?! Пожалуйста.
– Спасибо.
Журавский провел гостей через коридорчик в гостиную, усадил в мягкие и удобные кресла, сам сел на стул за столом, заваленным книгами, газетами, журналами.
– Я, Самсон Иванович, специально приехал к вам, – Алешка назвался и рассказал о своем замысле, о встрече с Томковичем. Умолчал только о предсмертных словах Серафимы. Просил рассказать об истории села, колхоза, а заодно и о родственниках.
Самсон Иванович слушал внимательно, не перебивал, часто снимал очки, словно они мешали разглядеть лица гостей, затем снова прилаживал их на нос. Потом долго рылся в своих бумагах, разыскивал какие-то записи, документы, и наконец сказал:
– Серафима Мельник… Для меня это была самая загадочная фигура в деревне. Загадочная потому, что очень… – он встал со стула, просеменил в коридорчик, убедился, что его не подслушивает Анюта, – очень мне нравилась. А во-вторых, она ни с кем и никогда не дружила, почти не покидала пределы имения. Зато графу Войтеховскому подчинялась безропотно.
– Она была прислугой, – напомнил Алеша. Самсон Иванович прищурил близорукие глаза, повертел в руках очки.
– Вон как?! – и снова уставился на гостей, пристально рассматривая их лица.
На кухне зазвенела посуда, зашумела льющаяся из крана вода.
– История графа Войтеховского, молодые люди, не менее загадочная, – через минуту продолжил Журавский. – Видимо, воспоминания о родных местах, знакомых доставили ему большое удовольствие. – Это был мужчина лет сорока, с пышными рыжими усами, длинными бакенбардами, большими залысинами. Типичный шляхтич! Ходил гордо, в руках непременно – трость. Жену звали Зося. Высокая, худая, болезненного вида, всегда недовольная, злая. Из всей прислуги она особенно ненавидела Серафиму. Наверное, из зависти к ее красоте. Или на то были другие причины. Во всяком случае поговаривали, что граф Войтеховский содержал Серафиму как любовницу… А вскоре пани Зося умерла. При довольно странных обстоятельствах. Пошла будто попить из графского ключа и захлебнулась. Обнаружили ее уже мертвую в роднике.
«Снова о ключе, роднике. И снова о графском. Вероятно, – подумал Алеша, – это после смерти пани Зоей родник запустел. Кто же будет пить воду из ключа, в котором утонул человек?!»
– А где еще были родники в деревне? – поинтересовался Алеша. – Ну, какие-нибудь называли?
– Много их было. Особенно по берегу Случи, – Самсон Иванович призадумался и вдруг вспомнил: – Именные? Да, был Мельничий ключ. Напротив мельницы. Выложен камнями, всегда чистый и глубокий. Он больше был похож на колодец. Из него многие брали воду. Лечебная была, что ли? Говорили, что еще мать Серафимы лечила ею разные болезни. Серафима всегда следила за родником. Поэтому его еще называли Серафиминым…
Журавский оказался человеком разговорчивым. Он с упоением вспоминал о прошлом родной деревни, о бывших председательских буднях. Упомянул об Анастасии, о ее муже Тимофее, а затем снова заговорил о Серафиме. Видимо, воспоминания о родных местах, знакомых доставляли ему большое удовольствие.
– Накануне революции ваша прабабушка с графом ездили в Польшу и Италию. Зачем? Кто знает… Граф часто уезжал за границу. Но в тот раз, после смерти жены, впервые взял с собой Серафиму. Получалось, как в свадебное путешествие. Серафима вернулась совсем другой: гордой, нарядной, неприступной. Осенью семнадцатого года, когда назревала революция, граф исчез, оставив имение на Серафиму. А та, на удивление всем, вышла замуж за Семена Серченю, командира Красной Армии, квартировавшего несколько недель в Заречном. Сыграли скромную свадьбу. Брак не регистрировали. Серченя, как командир-большевик, идти в церковь отказался, а органов, закрепляющих гражданские акты, еще не было. Но самое удивительное то, что Серченя во всеуслышание заявил: отныне он не Серченя, а Мельник. Муж Серафимы вскоре погиб на Украине. От этого брака родилась Анастасия.
– Самсон Иванович, – улучив минуту, когда Журавский умолк, спросил Алеша, – чем во время войны занималась Анастасия?
– Не знаю. Я был в эвакуации.
Глава 7ВОСПОМИНАНИЯ
Однажды, когда сумерки сгустились над деревней и мать, уставшая от дневных забот, склонилась над книгой, Алеша тихо и незаметно подсел к ней, закрыл рукой страничку. Мать удивленно подняла голову.
– Давай поговорим, – попросил Алеша. – Я читал, что в семье в сутки разговаривают не больше тридцати минут. А ты со мной – и того меньше.
Антонина Тимофеевна отодвинула книгу.
– О чем?
– О бабушке.
– Разве мало тебе сказал Журавский? Я вряд ли что смогу добавить.
Алеша почувствовал, что голос матери дрогнул. Она заволновалась, на глазах выступили слезы. Мать почему-то возражала против его поездки в Минск. И это Алеше было странным.
– Журавский писал какую-то повесть о Серафиме, – сын почувствовал себя виноватым. – Правда, не закончил… Какой-то фактуры не хватило.
– Факту-у-ры, – медленно повторила мать. – Может, ума не хватило. И смелости…
Алеша закрыл мамину книгу и отодвинул на край стола.
– Почему смелости?
– Мне всегда казалось, что он – трус. А может, и подлец, – резко сказала мать. – У меня какое-то дурное предчувствие. Почему он стал писать о нас? И что он мог написать о Серафиме, если из нее трудно было вытянуть пару слов?
– Но ведь за всю жизнь что-то же сказала. Тебе, например?
– Рассказывала, – как-то неуверенно начала Антонина Тимофеевна. – Как ей хорошо жилось у графа. Какие вкусные обеды там готовили. Как вежливо и учтиво вел себя хозяин. Какая счастливая и беззаботная жизнь была у нее в то время. И все это говорила с сожалением, будто все время ждала каких-то перемен. Ты это хотел узнать?
Алеша думал. Ничего подобного бабушка ему не говорила, ничего не вспоминала. Тем более о своей беззаботной юности.
– А жизнь в действительности была несладкой у Серафимы, – продолжала мать. – Война – общее горе. Войну понимали даже грудные дети. Во время облав, когда матери убегали в болота или заросли с детьми, те не издавали ни единого звука. Их еще не успели научить самозащите, но они почему-то молчали. Тревога взрослых словно передавалась с молоком матери. Но вот война закончилась, все вздохнули свободно. А стало ли легче? – сделала паузу. – Вспоминаю, как мы, второклассники, ходили собирать колоски. Собирали их в мешочки, чуть ли не под счет. Потом несли на колхозный двор и сдавали, а себе не смели взять ни единого зернышка. А в каждом доме было голодно и холодно. Потом помогали взрослым выращивать кок-сагыз. Растение такое на болотах сажали, резину, говорят, из него делали. Искали гнилой картофель на прошлогодних участках. Из него пекли блины, чернее земли. Зато вкуснее, кажется, ничего не было. Да мало ли чего еще было. А ему, видишь ли, фактуры не хватило. Писать не было о чем! Кстати, и Журавского забрали в том же году, что и моего отца. Только месяцем позже. Но он каким-то чудом уцелел, остался жить в столице. Мы только теперь узнали, как делали «врагов народа». И чтобы тебе, сынок, стало яснее, скажу одно: в нашей деревне было арестовано и погибло в тюрьмах двадцать шесть человек, а в Великую Отечественную войну на фронтах – двенадцать. Из тех двадцати шести выжил один Журавский. Почему?
Думаешь, меня одну мучит этот вопрос? Нет. Об этом думают многие зареченцы…
Алеша побледнел. В его глазах появились льдинки, лицо стало напряженным. Многое из того, что говорила мать, он уже слышал и знал. Но о Журавском… И теперь он стал припоминать, как Самсон Иванович говорил осторожно, будто что-то скрывал. Мать его явно недолюбливала… За что? За то, что выжил, или на это есть другие причины?
– А какой тебе запомнилась бабушка?
– Я маленькая была, – сказала. – А мать мне помнится веселой. Часто смеялась, и тогда сверкал у нее золотой зуб. Мне всегда хотелось потрогать его. Он почему-то врезался мне в память точно так, как и фашистская консервная банка… Ладно, Алеша, мне готовиться к урокам, – Антонина Тимофеевна посмотрела на часы.
С работы вернулся отец. Сел с Алешей на скамейку под жасмином, попытался завести разговор. Алеша был рассеянный, отвечал невпопад, начинал злиться. Виктор Степанович это заметил, поднялся. Но сын вдруг попросил:
– Слушай, батя. Найди мне старую карту послевоенного колхоза. Еще лучше – довоенного.
– Ты думаешь, тогда были карты? – спросил отец.
– Не знаю… Мне очень нужно…
– Ладно, – ответил Виктор Степанович, – попытаюсь.
Глава 8ИЗ РОДОСЛОВНОЙ МЕЛЬНИКОВ. МАТЬ
«…Антонина Тимофеевна Мельник-Сероокая – моя мать. Родилась в Заречном в сентябре 1938 года. Моложе отца на шесть месяцев, а выглядит моложе на лет десять. Это потому, что очень следит за собой. Чистюля невыносимая. Из-за этого и нам нет покоя. Там не сядь, там не стань. В комнатах заставляет ходить в тапках. Трюмо в зале завалено мазями, духами и всякой другой дрянью. Лицо ее всегда чистое и нежное, прическа – длинная коса, уложенная кольцом на голове, глаза чистые, ясные, как у бабушки Серафимы. Мама очень красивая. В ее лице что-то классическое, греческое… Она очень боится старости. Не смерти, а старости…
Вышла мать за отца замуж в двадцать четыре года. После окончания института. В школе она заменила Томковича.
Самое интересное, о чем любит вспоминать, – как познакомилась с отцом. Ехала однажды в трамвае в час пик, и такая давка была, что не повернуться. Лицом к лицу к ней стоял парень, смуглый, кудрявый, чем-то похожий на цыгана. И вот на одной из остановок, когда трамвай резко тормознул, парень ткнулся губами в ее лицо. Специально ли, нечаянно, но мать вспыхнула, на следующей остановке выскочила из трамвая. Парень – за ней. «Девушка, я не хотел…» Тут же, на остановке, она отвесила ему пощечину: «Хам!» – «Добренько, девушка», – ответил парень. «Что добренько?» – не поняла мать. «Что хам», – снова спокойно ответил обидчик. Она улыбнулась, злость прошла. Так и познакомились.
Мать очень искусно умеет отчитывать человека. Не кричит, не грубит, но доводы ее железные. Слово за словом она так распечет отца, что тот поднимает вверх руки и, прав ли, не прав, всегда говорит: «Добренько!»
Кроме того, мать обладает каким-то особым чутьем семейного сыщика. Поэтому в разговоре с нею я всегда внимательно слежу за ее вопросами. Она их так каверзно может задать, что, упустив из виду ее способности, можно сразу попасться на лжи. Я обычно не вру. Но иногда приходится. Особенно когда вечерами задерживаюсь с Л.
Я уверен, мать уже догадывается о моей работе над родословной.
С большим усердием смотрит мать и за хозяйством. Часть забот ложится, конечно, на нас, но обязательно под ее надзором и руководством. В огороде нет ни одного сорняка, во дворе трава всегда подкошена, дом покрашен, забор – и тот выделяется какой-то чопорностью. Соседи порой подшучивают: «Вон, корова Серооких пошла – вся в Тоньку!» Корова наша и впрямь хорошая: черно-пестрая, небольшая, всегда чистая. И голову держит так, будто смотрит на всех свысока. В стаде она – лидер.
Мне кажется, что мать немного жестокая. Когда хоронили бабушку Серафиму, она не плакала. Только платком вытирала сухие и красные глаза, молчала, изредка распоряжалась, кому что делать. Последний разговор о бабушке Анастасии подтвердил мое предположение: не интересовалась она судьбой своей матери, ей это будто бы безразлично.
Она, например, за последние два года ни разу не съездила к Любе в Минск, не поглядела, как та живет, чем занимается. Настолько уверена, что Люба не позволит себе ничего плохого, что диву даешься. Хотя и в самом деле Люба – образец. С мамочкой – как пара сапог. Получается, что в нашей семье я – себе, папа – себе, а мать с Любой – себе. Но это только кажется. Мать своей волей так опутала всех, что и при желании не распутаешь.
В школе дети боятся учительницу Мельник. Не уважают, а именно – боятся. Сегодня даже странно, чтобы ученики боялись учителя. Но это так. Она не ругает, не бьет, не наказывает. Какой-то внутренней силой заставляет сидеть тихо и смирно, учить уроки, и получается, что успеваемость по истории – самая высокая в школе.
Мать за это хвалят, ставят в пример, даже звание «Отличник народного образования» присвоили…
В отличие от отца – не любит телевизор. Но очень много читает. Вообще, мать много работает, у нее, как и у отца, нет выходных, праздников, и отдыхает она только ночью, и то не больше шести часов.
Самое главное, что ее уважают в деревне. Избрали депутатом сельского Совета. Немного завидуют… Людям кажется, что матери все дается легко, просто. Кандидатуру ее выдвигали на должность директора школы, но она наотрез отказалась.
P. S. Мать умеет еще печь очень вкусные пирожки, торты и всякие сладости. Особенно ей удается пирог «негр в пене». А еще – консервировать и мариновать грибы и овощи. В деревне по вкусу могут определить: это работа Сероокой Тоньки. Все же – Сероокой!
Деревня Мельников не признала».
Глава 9ПО СТАРЫМ ЧЕРТЕЖАМ
Отец слово сдержал: разыскал старую карту земельных угодий послевоенного колхоза. Тогда он состоял из одной деревни Заречное. На карте сохранилось изображение русла реки, протекающей по территории колхоза, ее извилины, повороты, нанесены родники по обоим берегам. Они похожи на головастиков. Мельница на чертеже черным квадратиком перекрывает голубую нитку. На запад от нее отмечены два родника. На восток – длинная прямая линия, упирающаяся перпендикулярно в стены первых сельских хат. Что это могло быть? Тропинка? Дорога? Здесь раньше, да и теперь – сплошные заливные луга, озерца, ручьи. Старый чертеж настолько подробный, что даже крупные валуны и камни помечены. Похоже, что план снят с военной топографической карты.
После детального изучения плана Алеша вышел к водохранилищу. Вдали виднелся новый мост, дугой соединявший два берега. Раньше, чуть ниже этого, был старый, деревянный. Знаменитый мост! Во время войны танк Т-34 удерживал его целые сутки, отразив двенадцать атак фашистов. Танкисты погибли, но враг через мост так и не прошел…
Алеша не спеша шел по дамбе в направлении бабушкиного дома, сиротливо жавшегося к громадному ясеню и почти скрывавшемуся под его могучей кроной. Порыжевшие занавески закрывали изнутри маленькие окна, дверь была заперта, и в ней холодным глазком зияло отверстие для проволочного ключа. Вокруг дома поднялись сорняки, словно заживляли свежую рану. Алеша в дом не зашел, а только посмотрел на него. В груди защемило, стало тоскливо. Он отвернулся и направился к сирени.
Куст этот на плане обозначен тремя точками. Значит, когда составлялись чертежи, он уже был большой. Правее, метрах в десяти от мельницы – два родника. Один из них тот, который звали Серафиминым. Наверняка тот самый «мой», упомянутый ею перед смертью. Почему она вспомнила именно его? Какую тайну хранит он, давно затопленный водами, заросший камышами и осокой? Да и сохранился ли? Надо рискнуть. Взять лодку, поискать.
Вспомнив рассказ матери, Алеша стал осматривать сирень… Ту самую, которую Серафима посадила после смерти дочери. Она разрослась на несколько метров в ширину, а теперь была покрыта крупными цветущими кистями, ярко выделявшимися на фоне зелени. Над цветами летали шмели, бабочки. Несколько веток обломаны, и еще ободранная кора, не успев скрутиться, висела, словно клочки кожи на живом теле. Многие стволы сирени старые, покрыты зеленым налетом. Но рядом тянулись вверх молодые отростки, крепкие, ровные, как стрелы. Процесс жизни и обновления здесь не прекращался. Погибали старые, отслужившие свой век стебли, тут же поднимались молодые.
Внутри куста – прогалина. Здесь можно укрыться от дождя, спрятаться во время игр. Неужели теперь без присмотра погибнет и эта сирень, память о бабушке Серафиме?..
Алеша подошел к причалу, где крепилась низкобортная и густо просмоленная лодка, открыл замок, освободил от цепи, сел в нее. Плыл без весел. Загребал воду руками, направляя лодку по чистым, свободным от камыша, местам.
Солнце грело по-летнему. Но вода еще была прохладной. Алеша подплыл к мельнице, вытащил карту. Показалось, что легче всего определить место родника, ориентируясь на здание мельницы. Взяв против течения, он направил лодку в камыши. На вычисленном расстоянии увидел «окно» – чистое, не заросшее место. Таких «окон» в зарослях было много. Одни естественные, другие – сделанные рыбаками. Алеша разделся. Эх, была не была!
Прыгнул «солдатиком». Вода обожгла тело, но через несколько секунд он уже освоился и попытался достать дно. Озеро в этом месте было глубокое. У самых камышей Алеша ощутил под ногами скользкий камень. Вынырнул, вдохнул на полные легкие и снова нырнул – будто провалился в яму, в леденящую воду. Так и есть – родник! Значит, действует, живой! В несколько взмахов Алеша доплыл до лодки.
Что дальше? Возможно, он наткнулся не на тот родник, а на другой, тоже обозначенный на карте. Да и какой Серафимин, не просто определить. Значит, придется исследовать оба. Может, то и вовсе не родник, а вода еще на дне холодная. Но камень…
Он подгреб чуть дальше, стянул с себя майку и снова нырнул. Здесь, на глубине, вода была теплее. Значит, родник был все же там. Главное – он пульсирует, живет. Даже не убрали ограждения. Бабушка это знала.
Закрепив на берегу лодку, Алеша побежал домой. Мать, еще издали увидев его, накинулась:
– Кто же купается в такой холодной воде?
Чтобы как-то отвлечь ее внимание, Алеша предложил:
– Мама, давай перенесем бабушкину сирень к нашему дому. Старый дом все равно сносить будете. Хоть сирень сохраним.
– Можно, – согласилась мать. – Сирень красивая. Память о бабушке останется. Только не время сейчас – цветет.
– Пусть цветет. Там же есть молодые побеги.
– Хорошо, хорошо, только переоденься.
Алеша собрался было уйти, но, вспомнив о линии на карте от мельницы к хатам, спросил:
– Мама. А что раньше от мельницы к деревне тянулось через болото?
– Навесная дорога, – пожала плечами Антонина Тимофеевна. – Деревянная, метра полтора шириной. Крепилась тросами к столбам.
– Куда же она девалась?
– Растащили. Как и мельницу. Доски-то были крепкие…
Мать ушла в сторону магазина.
Алеша стал прикидывать, куда перенести сирень. Решил: лучше всего сажать под окнами со стороны озера. Здесь больше солнца, простора, а когда вырастет, украсит дом. Рассуждая так, зашел в комнату. И тут заметил старенькую сумочку, лежавшую на диване. Она всегда находилась в шкафу. В ней хранились семейные документы, награды, разные бумаги. Он никогда не рылся в сумочке, но сейчас, увидев, решил посмотреть. И почему она лежит здесь? Первое, что попало ему в руки, – старый, пожелтевший, сложенный вчетверо и протертый по краям лист. Алеша развернул его.
СПРАВКА
Дело по обвинению Мельника-Голоты Тимофея Игнатьевича 1914 года рождения – до ареста, 18 октября 1938 года, работал мельником в колхозе «Пограничник», дер. Заречное Рябининского района – пересмотрено военным трибуналом Белорусского военного округа 27 ноября 1957 года. Постановление от 14 декабря 1938 года в отношении Мельника-Голоты Тимофея Игнатьевича отменено и дело прекращено за недоказанностью обвинения. Мельник-Голота Т. И. реабилитирован посмертно…
Под документом стояла печать и фамилия выдавшего справку. Другой документ словно обжег Алешу с первых слов.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ
Гр. Мельник-Голота Тимофей Игнатьевич умер 8 сентября 1943 года.
Причина смерти – склероз сосудов сердца,
о чем в книге записей актов гражданского состояния
о смерти 1957 года ноября месяца 30 числа
произведена соответствующая запись за № 32.
Место смерти – нет.
Место регистрации – в Рябининске.
Заведующий…
Алеша всматривался то в один, то в другой документы. Почему он их не видел раньше? И почему мать о них ничего не говорила? Да, не говорила. И он обвинял ее в том, что она не предпринимала мер в поисках родных. А ведь не так! Предпринимала. Эти справки… Страшные, жуткие, непонятные… Умер дедушка 8 сентября 1943 года, а места смерти нет. Как же так? Причина смерти – склероз сердца. А говорили – дедушка мешки с мукой носил под мышками… Что-то все здесь не так. Неужели его расстреляли в сорок третьем, когда фронту позарез нужны были солдаты?
Алеша уже знал, что репрессированных расстреливали тысячами, без суда и следствия. В сорок третьем территория республики была оккупирована фашистами. Значит, дедушка был в других местах. Не в родных. Где?
Не долго думая Алеша взял документы и направился к Томковичу. Старый учитель должен помнить, знать, за что арестовали дедушку, где и как он погиб. В прошлый раз Томкович рассказал многое, но не все. Может, что еще вспомнит?
Приоткрыв дверь, Алеша оторопел. У Томковича сидела его мать. Учитель возбужденно что-то доказывал ей, она согласно кивала головой. Мелькнула мысль – уйти, но Томкович, заметив парня, поманил Алешу пальцем. Алеша зашел, присел на краешек стула.
– Мы с твоей матерью одно дело обсуждаем, – сказал Томкович, – думаю, не помешает и тебе.
– Продолжайте, Елизар Сильвестрович, – Антонина Тимофеевна исподлобья посмотрела на сына и снова повернулась лицом к Томковичу.
– Хорошо, – сказал старый учитель. – Ворошить старое раньше было не принято. Даже нам, историкам. Какой парадокс! Но сегодня можно вспомнить, поразмыслить. Что же получилось в том далеком тридцать восьмом? Журавский, будучи председателем колхоза, пытался скрыть падеж пяти коров и лошади на колхозном дворе. В то время падеж скота расценивался однозначно: вредительство. О случившемся кто-то написал донос. Арестовали сразу пять человек, в том числе и Тимофея. Пошли слухи, что он выдал на ферму по заданию польской разведки отравленную муку, от чего погиб скот. Выходило, что Тимофей был шпион, да не какой-нибудь, а скрытый под фамилией жены. Но никто не задался вопросом, почему из стада в сто коров погибло только пять? Журавского тоже забирали. Но месяца два спустя он приехал для передачи колхозных дел. Остался на свободе, да еще и работу ему в столице нашли…
– Сам Журавский вам ничего тогда не говорил? – поинтересовалась Антонина Тимофеевна.
– После того мы с ним виделись лишь один раз, – сказал Томкович. – Посидел он у меня, погоревал О случившемся, в грудь бил и клялся, что не виноват ни в чем, хотя его никто не упрекал. На том и расстались. Но, кажется мне, без него не обошлось.
– Мне тоже так кажется, – заметила и Антонина Тимофеевна.
Алеша чувствовал себя виноватым перед матерью. Ему прежде думалось, что только его беспокоила судьба предков, а оказалось, что и родителям она не безразлична. С одним только Алеша не хотел согласиться. Чтобы мать там ни думала, не Журавский донес на дедушку. Самсон Иванович выглядел при встрече искренним, ничего не скрывал. Да, жизнь тоже сложилась у него неудачно. Может быть, те пять коров и ему испортили ее. Но, будь виноват он перед семьей Алеши, не принял бы так радушно, не вникал бы в подробности их просьбы, наконец, не писал бы что-то об их родословной. Не может человек так искусно притворяться.