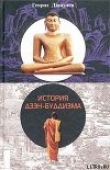Текст книги "Предания об услышанных мольбах"
Автор книги: Ван Янь-сю
Жанры:
Древневосточная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Обращаясь к сюжетам буддийских сяошо, мы предлагаем читателю, сколь-либо сведущему в классическом буддизме, отрешиться от прежних представлений и стереотипов. Классический, или ортодоксальный, буддизм и буддизм популярный, или низовой, – явления, требующие различных подходов. Буддизм образца сяошо разительно отличается от основательно изученного и в какой-то мере привычного для нас буддизма ученых трактатов, высокой книжности, философского буддизма.
* * *
Литература буддийского короткого рассказа, казалось бы, нисколько не приспособлена к изложению теоретических построений. В сюжетном ряду буддийских сяошо отсутствуют строгие религиозно-доктринальные рассуждения или апелляции к буддийской догматике. Массовому сознанию недоступно, безразлично и чуждо теоретизирование высокого философского уровня. Между тем в буддийских сяошо подспудно присутствуют и поддаются реконструкции те элементарные идеологические образования или базовые идеологемы, которые лежат в основе ментальности буддиста-мирянина и питают простонародный китайский буддизм: бессмертие души, загробное воздаяние, потусторонний мир. Обратимся последовательно к каждому элементу этой триады.
Классическому буддизму было чуждо понятие «души» как некой внематериальной субстанции, присутствующей при жизни и после смерти человека. В индобуддийской религиозно-философской традиции господствует представление об отсутствии души – анатма (букв.: «не-душа» ), опирающееся на теорию дхарм.
Однако этот строгий теоретический постулат был отвергнут стихией простонародного китайского буддизма. Попадая в культурно-идеологическую атмосферу Китая, буддийская традиция утрачивала непосредственную связь с категориями индийской культуры. Одной из идеологических основ простонародного китайского буддизма становятся представления о душе в том виде, в каком они существовали в традиционных китайских верованиях добуддийского периода. Согласно этим представлениям, сформировавшимся по меньшей мере к середине I тысячелетия до н. э., человек есть сочетание «небесной» субстанции, заключенной в душе хунь, и «земной» субстанции, заключенной в душе по. По возникает в момент зачатия, а хунь — при рождении; гармоническое же сочетание этих субстанций нарушается в период болезни, во время сна и, конечно же, в момент смерти. После смерти по вместе с телом уходит в землю и становится злым и опасным духом гуй, а хунь возносится на небо, превращаясь в доброго духа шэнь. Непосредственные реликты такого рода представлений прослеживаются и в буддийских сяошо. Один из сюжетов рассказывает о том, как одному мирянину поочередно то в облике голодного духа, то в образе небожителя являлся его умерший младший брат. Этот весьма любопытный сюжет содержит, по существу, полный комплект традиционных китайских представлений о душе. После смерти младшего брата его душа хунь-шэнь воспарила в небо и пребывает в райском блаженстве, а душа по-гуй, вероятно, не упокоенная должным образом (быть может, был нарушен обряд похорон), голодная, скитается в мире людей. Впрочем, не исключено, что сюда примешались и некоторые черты индийской мифологии, в частности, привнесенный буддизмом образ голодного духа-прета.
Простыми, но несомненно действенными средствами буддийские сяошо парируют любые попытки поставить под сомнение существование души и поколебать веру в ее бессмертие. Один из персонажей, в духе конфуцианского рационализма отрицавший бессмертие души («душа и тело после смерти полностью исчезают»), после смерти на короткий миг возвращается в сей мир, чтобы поведать своему другу: «Я только сейчас понял, что учение Шакьямуни не ложно. Душа существует после смерти, и я получил тому доказательство».
В сюжетном ряду буддийских сяошо душа предстает как некий внематериальный двойник человека, при жизни заключенный в его физической оболочке, а после смерти существующий от этой оболочки обособленно. В том, что речь идет именно о двойнике, то есть об аналоге тела, убеждают нас сюжеты хожений в загробный мир, а также эпизоды, рассказывающие о кратких визитах умерших в мир живых к родственникам или друзьям. В том и другом случаях с нарочитым постоянством упоминается, что ни обитатели загробного мира, ни визитеры с того света ничем не отличались от тех, кем они были при жизни. Еще более убедительны эпизоды, описывающие натуралистические подробности возвращения визитеров в потусторонний мир в свою уже тронутую тленом плоть, которыми по обыкновению заканчиваются сюжеты хожений в загробный мир.
Представление о душе тесно связано с культом предков – едва ли не важнейшим элементом традиционных китайских верований. Чужеземная религия (а в устах китайских критиков непременно «варварская») вряд ли могла рассчитывать на широкий приток китайских адептов, исключив культ предков из сферы своих интересов. По большому ряду коротких рассказов мы можем судить о том, что уже в IV—V вв. буддизм освоил эту важнейшую область китайской духовности. Монашество активно участвует в отправлении культа предков, а мирянин, озабоченный участью своих родственников в загробном мире, пользуется широким набором средств, сложившимся в простонародном китайском буддизме: пожертвования и участие в буддийских ритуалах, совершаемых во благо усопшим предкам, накопление религиозных заслуг для последующей передачи покойным, пожертвования монашеской общине, которые также могут быть переведены на счет усопших, и многое другое, что уже в VI– VII вв. обозначалось емким понятием «радения за усопших».
Прежде мы заметили, что в отличие от своего «светского» предшественника буддийский короткий рассказ пронизан откровенной дидактикой, насыщен отчетливо выраженным нравоучительным смыслом. В основе назидательного содержания буддийских сяошо лежат представления о загробном воздаянии.
Воздаяние становится объединяющей идеей всего сюжетного ряда буддийских сяошо, но свое предельное выражение находит в рассказах о загробном мире, уготованном всякому сущему. Посмертное воздаяние служит основным императивом строгой этической регламентации повседневной жизни мирянина и, судя по всему, аргументом в вовлечении и удержании паствы в сфере влияния буддизма.
Не следует думать, что идея загробного воздаяния в строгом значении и осознанном виде была имманентна китайскому религиозному сознанию и присутствовала в нем изначально. До прихода буддизма в китайских представлениях об участи умерших преобладал сословный принцип: чем выше статус при жизни, тем большие привилегии ожидают после смерти. При этом упокоение душ умерших вменялось в обязанность потомкам, призванным надлежащим образом исполнять ритуалы похорон и регулярных жертвоприношений. Буддизм успешно приспособился к культу предков, но не в ущерб принципу «личной ответственности» умершего (невзирая на его сословную принадлежность) за содеянное при жизни. Радения потомков способны изменить загробную участь их предка, но в ограниченных пределах – неизбежный компромисс буддизма в китайских условиях. Введение института загробного суда и внедрение идеи загробного воздаяния являют собой предельную степень трансформации китайского массового сознания под воздействием буддизма, отражают глубинные изменения, происходившие в китайских народных представлениях в III—IV вв.
В предисловии к своему сборнику Тан Линь из вполне понятных побуждений пытается отыскать истоки идеи воздаяния в письменной китайской традиции, приведя полтора десятка убедительных (или не очень) примеров из добуддийских времен от легендарного Шуня до династии Хань. Эти образцы китайской древности заставляют согласиться, что в китайском массовом сознании подспудно и, как правило, неосознанно присутствовала убежденность в том, что некая высшая сила – Небо как мировое начало – призвана восстанавливать справедливость: тотчас или по прошествии времени карать злодеяния и вознаграждать благие поступки. (Заметим, что в реальности древнего Китая она распространяется не только на злодеев и благодетелей, но и на их потомков в ближайших поколениях.) Эти убеждения несомненно прослеживаются как в приведенных Тан Линем, так и в других образцах китайской древности, но ни в малейшей степени не соответствуют идее загробного, посмертного, за гранью жизни воздаяния, каким оно предстает в простонародном китайском буддизме начиная уже с IV в. Ее средоточием становятся буддийские сяошо и, в частности, сборник Тан Линя «Загробное воздаяние».
Итак, участь умершего (будь то адские муки или райское блаженство, благоприятная или, напротив, неблагоприятная форма нового рождения) решается загробным судом посредством точного установления соотношения заслуг и прегрешений в предшествующей жизни. Так, в одном из сюжетов о загробном суде присутствуют «весы правосудия». (Образ, вероятно, зороастрийского происхождения.) Мера наказания и поощрения, избираемая высшим судом, всегда справедлива (суд располагает подробнейшим досье на каждого, кто предстает перед ним, учитывает как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства), но и чрезвычайно высока, поскольку статусы земного существования и существования потустороннего далеко не равнозначны. Буддийский короткий рассказ убеждает нас в том, что настоящая жизнь – лишь краткий мир в преддверии либо райских блаженств, либо адских мук и последующих рождений. Но тем более возрастает цена каждого поступка, совершаемого мирянином в этой жизни!
Идея загробного воздаяния коррелирует с индобуддийским понятием карма[9], требующим отстраненного теоретического осмысления, обладающим весьма сложным религиозно-философским содержанием, связанным с теорией причинности. В китайской простонародной ментальности карма утрачивает изначальное философское содержание и в некотором смысле воспроизводит универсальные представления об «участи», «уделе», «доле». По замечанию выдающегося отечественного буддолога О. О. Розенберга, в таком значении карма может быть сближена с учением о возмездии в других религиях мира. Но и в таком, весьма упрощенном, значении термин карма не вполне удовлетворял потребностям простонародного китайского буддизма с его ключевой идеологемой загробного суда. Наряду с понятием карма, а затем и с большим постоянством здесь применяется понятие «воздаяние» или «загробное воздаяние».
Еще одно идейное основание и последний из элементов базовой триады простонародного китайского буддизма заключают в себе собственно представления о потустороннем мире. Представления такого рода входят в древний добуддийский пласт китайских народных верований. Иной мир вписывается в китайскую картину мира как обитель духов и божеств, царство мертвых в противоположность миру живых. В сфере этих представлений господствует культ Неба как высшего направляющего начала, повелевающего судьбами живых и мертвых. Небо становится также и обителью внеземных небесных душ хунь тех умерших, кто принадлежал к высоким сословиям при жизни. К началу нашей эры окончательно утвердилось представление о подземном Желтом источнике, к которому устремляется душа покойного, точнее сказать, ее «материальная» земная субстанция по. Географическое местоположение иного мира, каким он предстает в китайском массовом сознании, довольно неопределенно (север, северо-запад, горы Куньлунь, Тайшань, Суншань, уезд на далеких окраинах Китая и т. д.) и сочетается с вертикальной моделью мира, расчлененной на небо, землю и подземное царство. При этом необходимо отметить, что в добуддийских представлениях о потустороннем мире вовсе отсутствуют этические основания, различающие местопребывание душ грешников и праведников.
Иной мир, запечатленный в буддийских сяошо, свободно сочетает в себе исконные китайские представления и заимствования из индийской мифологии. В добуддийском коротком рассказе на разные лады варьируется образ водной преграды или пограничной реки, разделяющей этот и иной миры. Этот архетипический элемент не теряет своего значения и в сборниках буддийских сяошо.
Безусловно китайского происхождения также представления о горах Тайшань и Суншань (совр. пров. Шаньдун и Хэнань) как об обители душ умерших. В этом значении образ запредельного мира приобретает вполне реальные географические очертания. Иногда в буддийских сяошо фигурирует некая безымянная гора с весьма приблизительным местоположением. Отдельные детали описания заставляют искать ее прообраз в горе Сумеру, которая воплощает идею мировой вертикальной оси в индобуддийской картине мира. Потусторонний мир простонародного китайского буддизма вобрал в себя и многие другие элементы некитайского происхождения: небеса Трайястримша, или Тридцать три небесные сферы, населенные божествами-дева; Дворец семи драгоценностей – обитель небожителей; колесо с крючьями, прикатившее с запада карать грешников, и т. д.
Иноземные заимствования существенно трансформировали образную систему традиционных китайских представлений о потустороннем мире. Главные же трансформации произошли в самой основе или структуре этих представлений. Идея загробного воздаяния, лежащая в основе популярного китайского буддизма, определила дуализм потустороннего мира, выразившийся в противопоставлении рая и ада. Взамен прежней структуры потустороннего мира, ставящей посмертный удел в зависимость от сословной принадлежности при жизни, отныне в китайском массовом сознании господствует дуальная структура, опирающаяся на буддийские моральные ценности.
Преисподняя с неизбежностью ожидает того, чьи грехи перевешивают религиозные заслуги: только испытав на себе отмеренные ему адские мучения, грешник удостаивается последующего рождения. В этом значении ад и уподобляется рядом европейских исследователей чистилищу средневекового христианства, но с одной существенной поправкой: буддийское «чистилище» в отличие от христианского служит промежуточным звеном между прошлым и будущим рождениями. Такое уподобление если и правомерно, то только потому, что в мифологизированном сознании буддиста-мирянина это промежуточное звено приобретает гипертрофированное, самодовлеющее и едва ли не главенствующее значение.
Для обозначения понятия, которое мы переводим как «ад», «ады» или «преисподняя», в буддийском коротком рассказе употребляется сочетание диюй (букв.: «земная или подземная тюрьма, узилище»), которое остается наиболее употребительным начиная с первых веков китайского буддизма по настоящее время. Отдельные эпизоды позволяют предположить, что в сознании необразованного буддиста-мирянина значение термина диюй воспринимается в буквальном, прозаическом значении, прямо заимствованном из земной реальности.
Китайское народное сознание легко усвоило классическую символику буддийской инфернальной мифологии: черный цвет и железо в качестве основных элементов семантики доминируют и в китайских картинах ада. Наконец, в представлениях китайского мирянина об аде прочно запечатлелись и те мифологемы – холодные ады, меченосные древеса, кипящие котлы, огнедышащие одры и амбары, адские птицы, кровожадные псы и т. п., которыми изобилуют буддийские канонические сочинения – сутры.
Райские картины появляются в сюжетах загробных хожений в основном для контраста и не так часты, как картины ада. Основное предназначение этих сюжетов состоит в том, чтобы предостеречь мирянина от неверия и дурных деяний, повергнуть паству в ужас перед близкой перспективой адских мучений. Тема рая выдвигается на первый план в немногих сюжетах райских видений, даруемых праведнику свыше либо достигаемых в состоянии религиозного экстаза.
Итак, рай предстает в народном сознании полной противоположностью ада, чему соответствует обширный набор семантических оппозиций: верх – низ, небеса – подземелье, свет – тьма, добродетель – порок, блаженство – страдание, наслаждение – мука, божество – обитатель ада, изысканное – грубое, драгоценные металлы – железо и олово, волшебная музыка – шум и грохот, чарующее пение – вопли мучеников, благоухание – дурной запах, тепло – холод и т. д.
Основная оппозиция «верх – низ» обусловила преимущественно вертикальное построение потустороннего мира с раем, или «блаженными небесами», в его высших стратах и адом, или «подземным узилищем», – в низших. В представлении китайского неофита буддийский рай устойчиво ассоциируется с небесными сферами.
Буддийская религиозно-философская традиция изначально не приемлет идеи рая, или потусторонней обители душ умерших праведников, удостоившихся вечного блаженства. Высший религиозный идеал буддийской доктрины – нирвана выстроен на иных религиозно-философских основаниях и уподобления раю явно не выдерживает. В простонародной же ментальности категория нирваны неизбежно замещается образом рая, который, собственно говоря, и становится высшим религиозным идеалом мировоззренческого комплекса простонародного китайского буддизма.
В сюжетах, относящихся к началу V в. (так, по крайней мере, датируются происходящие в них события), содержание представлений о рае приобретает окончательную определенность и четкую направленность. Отныне рай предстает в образе западной (иногда юго-западной) небесной Страны счастья – Сукхавати (она же: Страна благости, Мир покоя и радости, Страна вечной жизни), обитатели которой пребывают в вечном и сладостном блаженстве под покровительством Будды беспредельного света – Амитабхи. В преобладании такого рода идей в китайской системе представлений о рае, конечно же, не заключено ничего неожиданного. В рамках одного из основных и наиболее популярных течений буддизма – школы Цзинту, или Чистой земли, а затем дальневосточного амидаизма эти идеи остаются религиозным идеалом китайцев и их восточных соседей вплоть до настоящего времени.
Коллекция буддийских сяошо сохранила свидетельство о том, что в воображении буддийского адепта существовал образ и иной райской обители. Мирянин, чудесным образом исцелившийся в совсем юном возрасте, ушел в монахи и долгие годы трудился на религиозном поприще, «постоянно устремляя свои помыслы на рождение в небесах Тушита». Уже в начале V в. в китайском народном сознании сосуществовали представления о рае будды Беспредельного света – Амитабхи и будды Благоволящего – Майтреи.
* * *
То обстоятельство, что в большом ряду буддийских коротких рассказов в том или ином контексте приводятся названия буддийских сочинений, позволяет нам с довольно большой степенью приближения воссоздать канон простонародного китайского буддизма на период IV—V вв. Выясняется, что базовую литературу простонародного китайского буддизма составляют произведения раздела сутр-проповедей, исключая разделы виная-устава, а также шастр-трактатов. Наиболее привлекательными, доступными и авторитетными для буддиста-мирянина оказываются произведения, приписываемые Будде Гаутаме и в силу этой принадлежности более других заслуживающие определения канонических. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что сутры простонародного китайского буддизма уже раннего периода в основном принадлежат к традиции Махаяны с ее четко выраженной прозелитической направленностью.
Итак, полагаясь на довольно частые упоминания сутр в буддийских сяошо. удается установить круг наиболее популярных и почитаемых буддийских текстов, составляющих своего рода канон простонародного китайского буддизма раннего периода: «Сутра лотоса сокровенного Закона» («Саддхармапундарика-сутра»), «Сутра Владыки всепрозревающего» (« валокитешвара-сутра» ), «Махапраджня-парамита-сутра», «Сутра доблестного сосредотсчения-самадхи» («Шурамгама-самадхи-сутра»), «Сутра украшений Страны счастья» («Сукхавативьюха-сутра»), «Махапаринирвана-сутра», «Сутра об алмазной праджня-парамите» («Ваджраччхедика-праджня-парамита-сутра»), «Сутра о величии Цветка» («Аватамсака-сутра» ), «Сутра царя морских драконов» («Сагаранагараджапарипрччха-сутра»), «Сутра совершенного и истинного погружения в самосозерцание». (Если дополнить этот список сутрами, которые реконструируются по инфернальным сюжетам буддийских сяошо, то и тогда он не составит более двух десятков названий.)
Вместе с тем очевидно, что и сутры, обладавшие довольно сложным доктринальным содержанием и насыщенные непривычной для китайцев лексикой, вряд ли были доступны массовой аудитории, тем более ее непросвещенной части. Устная буддийская проповедь в Китае с самого начала была приспособлена к запросам и возможностям любой аудитории. Со временем в процедуре проповеди стал принимать активное участие чяндао-сказитель, призванный возбудить внимание и восстановить интерес у усталых слушателей. Выясняется, что темы повествовательных фрагментов, вводимых сказителем, – пришествие духов-вестников смерти, картины земной темницы-ада, истолкование причин и следствий людских поступков – полностью совпадают с тематикой буддийских коротких рассказов. (От утверждения о том, что буддийские сяошо использовались в устной проповеди, останавливает только то обстоятельство, что прямые указания об этом отсутствуют в китайских письменных источниках.) Несомненно, фигура чандао-сказителя и институт буддийской проповеди в целом должны рассматриваться в качестве опосредующего и интерпретирующего звена, которое и обусловливает восприятие широкой аудиторией доктринальных идей, заключенных в сутрах.
* * *
Частые упоминания божеств в сюжетном ряду буддийских сяошо позволяют воссоздать пантеон простонародного китайского буддизма первой половины первого тысячелетия нашей эры. Стихия простонародного буддизма не приемлет строгой упорядоченности, законов жесткой иерархии. Поэтому и наша реконструкция учитывает соподчиненность божеств не в полной мере и окажется поэтому в известном смысле произвольной.
Будда Шакьямуни – Шицзямуни занимает центральную позицию в пантеоне раннего китайского буддизма низовых форм. Но если среди ревнителей учения его почитают прежде всего как Первоучителя, открывшего миру Четыре благородные истины и Путь к спасению, то в среде основной массы верующих он определенно обожествляется, приобретает устойчивые признаки божественной персоны. Сама конфессиональная принадлежность буддиста-мирянина определяется краткой словесной формулой «чтил Будду», «поклонялся Будде», «уверовал в Будду». Отсутствие таковой конфессиональной принадлежности маркируется теми же терминами, но, конечно же, с противоположным знаком: «не чтил Будду», «не веровал в Будду». Всесилие Будды непререкаемо для правоверного мирянина; профан же, усомнившийся в могуществе божества, а тем более посягнувший на него, горько раскаивается в своем неверии.
Бодхисаттва Авалокитешвара – Гуаньшиинь ранее неоднократно упоминался в связи с персонально посвященным ему классом сюжетов, к обзору которого мы и адресуем нашего читателя. Не будет лишним напомнить, что бодхисаттва Милосердия является если не самым почитаемым, то определенно самым популярным божеством в пантеоне раннего китайского буддизма.
Небесный Император – Тянь-ди фигурирует в единственном эпизоде, указывающем на то, что эта божественная персона занимает главенствующее положение в запредельном мире, причем осуществляет свою верховную власть, сообразуясь с буддийскими установлениями. Согласно индобуддийской традиции, Небесный Император является верховным властителем Тридцати трех небес – Трайястримша и однозначно идентифицируется с индийским Шакрой (Индрой). По традиционной же китайской версии Небесный Император отождествляется с высшим божеством китайского пантеона – Шанди – Верховным Владыкой. Единственный эпизод, лишенный точных указаний по идентификации божественной персоны Небесного Императора, не позволяет с уверенностью принять ту или иную версию. Но даже если правомерна вторая из них, то Небесный Император, или Верховный Владыка, приобретает несомненные буддийские признаки, становится божеством буддийского пантеона.
Всеблагой – Пусянь восходит к индобуддийскому прототипу Самантабхадре (другое имя: Вишвабхадра) – бодхисаттве, олицетворяющему первоосновы и истинность учения Будды и покровительствующему почитателям «Лотосовой сутры». Традиция Всеблагого – Самантабхадры также тесно связана с «Аватамсака-сутрой» и «Сутрой золотого блеска». В иконографии Всеблагой изображается на белом слоне, его непременный атрибут – лотос.
Будда Амитабха – Амитофо, или будда Беспредельного света, он же Амитаюс или будда Вечной (Беспредельной) жизни — центральное божество культа Страны Высшего счастья, или Чистой земли, провозглашенного в Трех сутрах: «Сутра украшений Страны счастья», «Амитабха-сутра», «Сутра созерцания Вечной жизни». Согласно давней и до настоящего времени преобладающей в буддологии точке зрения, образ Амитабхи несет на себе следы внебуддийского происхождения, содержит определенные элементы иранского влияния. Разумеется, эта точка зрения активно опровергается в апологетической, особенно японской, литературе, посвященной культу Чистой земли – наиболее популярному направлению буддизма на современном Дальнем Востоке. Персональные упоминания Амитабхи – Амитофо в коротких рассказах связаны с благостными видениями буддийских адептов, а также с райскими картинами, представшими им во сне или в состоянии религиозного экстаза.
Бодхисаттва Всемогущий – Махасатхама – Дашичжи тесно связан с культом Амитабхи и Страны Высшего счастья – Чистой земли. Согласно трем каноническим сутрам школы Чистой земли, Махасатхама персонифицирует всепроникающую мудрость будды Беспредельного света и наряду с Амитабхой, а также Авалокитешварой входит в число Трех божественных персон Западного рая. В иконографии Всемогущий изображается справа от будды Беспредельного света, в то время как Владыка всепрозревающий занимает позицию слева.
Майтрея – Милэ, что означает Благожелательный, Благоволящий — бодхисаттва, обитающий на небе Тушита, чтобы через многие грядущие космические циклы-кальпы (что, впрочем, не исключает и сиюминутных мессианских ожиданий в определенной среде буддистов-мирян) явить себя миру в качестве нового будды. Майтрея фигурирует в большом ряду сочинений Махаяны: «Лалитавистара», «Саддхармапундарика», «Вималакирти-нирдеша» и другие сутры; начало культа Майтреи в Китае следует вести с появления в III в. перевода персонально посвященной ему «Сутры о сошествии Майтреи» (санскр. «Майтрея-вьякарана-сутра» ).
Мать бесов Харити-Гуйму принадлежит двум традициям. Одна из них восходит к древнекитайской мифологии, где Гуйму предстает бесовкой, утром рожавшей, а вечером поедавшей своих детей. Другая традиция связывает образ Матери бесов – Харити с индийской мифологией, интерпретированной в буддийском духе. Якшиня Харити была матерью многочисленных детей-якшасов, питалась же человеческими детьми. Дабы спасти младенцев, Будда обратил ненасытную якшиню: он спрятал младшего сына Харити под патру. Не отыскав любимого сына ни на небесах, ни на земле, Харити стала взывать к милосердию Будды, и тот обещал вернуть сына при условии, что она навсегда откажется от поедания человеческих детей. Так была обращена в веру Харити, ставшая отныне богиней-дарительницей и покровительницей детей.
Царь исцеления Бхайшаджьяраджа – Яован, также: Сарвасаттва-приядаргиана, или Взирая на которого, радуется все сущее — старшее из божеств, исцеляющих болезни. Его функции не ограничиваются только целительством. Кроме устранения уродств, он дал обет превращать женщин в мужчин в следующем рождении, наставлять на путь просветления, помогать верующим пищей, одеждой, препровождать на небеса и т. д. В традиции «Лотосовой сутры» Царь исцеления выступает ближайшим сподвижником Будды Шакьямуни, совершившим в предшествующих рождениях великий религиозный подвиг посредством акта самосожжения.
Царь мертвых Ямараджа – Яньлован в простонародном китайском буддизме раннего периода ограничивает свои функции лишь главенством на загробном суде, не распространяя их (либо распространяя лишь номинально) на подземное царство иного мира. Отсутствие четких номинаций персоны, главенствующей в загробном суде, исключая единственный эпизод из сборника Лю И-цина «Подлинные события», позволяет предположить, что в раннем китайском буддизме культ Ямараджи еще не оформился окончательно, не достиг своего расцвета. Прочную позицию в пантеоне и верховную единоличную власть в подземных сферах потустороннего мира Ямараджа обретает в китайском буддизме только с VII в., о чем свидетельствует сборник Тан Линя «Загробное воздаяние». В иконографии Царь мертвых изображается сановником в парадных одеждах, небольшого роста, тучным и с черным лицом.
Четыре небесных владыки Чатурмахараджа – Сы тянь ван восходят к индийской мифологии и являются в образе повелителя слонов – на юге, драгоценностей – на западе, лошадей – на севере и людей – на востоке. В китайском буддизме они приобретают титул китайских правителей – ванов, при этом один из них – Владыка Востока – трансформируется в правителя Китая.
Всевидящий Випашьин – Вэйвэй, другое имя Вибхаша, или Всечасный — первый из семи будд, предшествовавших Будде Шакьямуни.
Великодрагоценный – Прабхутаратна — один из будд древности; в «Лотосовой сутре» повествуется о нем и его покрытой балдахином ступе, испускающей сандаловый аромат.
Кашьяпа-Цзяшэ — один из десяти ближайших сподвижников Будды Шакьямуни, отмеченный мудростью и приверженностью монашеской аскезе; хранитель таинств Учения.
Пиндола—Виньтоулу — архат-Хранитель Закона, причисляемый к главным ученикам Будды. Патрон китайского буддизма и его адептов; активный персонаж ряда буддийских сяошо, во исполнение своей миссии способный чудесным образом перемещаться во времени и пространстве.
Змей озера Гунтинху — один из наиболее популярных персонажей китайских легенд II—VII вв. – фигурирует и в ряде сборников буддийских сяошо. Благодаря удачному местоположению его владений на торговых путях, божество местного значения (ныне оз. Поянху в совр. пров. Цзянси) приобретает поистине всекитайскую популярность. Народная фантазия наделяет змея чудовищным обликом, необозримыми размерами и несокрушимой силой; иногда переносит его местоположение ближе к столице – Цзянькану. Буддийская молва связывает происхождение озерного чудища с воздаянием за прегрешения в прошлом рождении и, судя по всему, ассоциирует с индийским драконом – нага. Чудище смиряет свою несокрушимую мощь пред буддийской проповедью, а в другом эпизоде передает в дар на изготовление сутры поднесенные ему пожертвования.
Итак, буддийские сяошо отражают этап становления пантеона китайского простонародного буддизма. Отметим, что большинство из почитаемых в этой традиции божеств имели свои индобуддийские прототипы, но последние подвергались определенной трансформации, будучи перенесенными на китайскую почву. Народное сознание стремилось сделать эти инокультурные персонажи более понятными, как бы подбирая в автохтонной семантике все те элементы, которые бы «подходили по смыслу», тем самым объясняя неизвестное через знакомые образы. Есть явные признаки и встречного движения. Исконные китайские божества и персонажи нативной мифологии приобретают отчетливые буддийские свойства, в итоге сменив конфессиональную принадлежность. Так складываются элементы того причудливого образования, которое обычно именуется китайским религиозным синкретизмом.