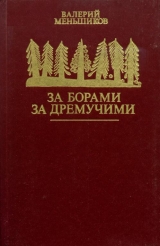
Текст книги "За борами за дремучими"
Автор книги: Валерий Меньшиков
Жанры:
Природа и животные
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Могила там, что ли? – выдыхает мне в затылок Рудька, и я невольно отодвигаюсь от опасного места.
– Сам ты – могила! – горячо шепчет Валька.
– А может, это… как его… склеп? – не унимается Рудька. – Куда богачей хоронили. Я слыхал как-то…
– Слыхал – не слыхал! Собака лает – ветер носит, – сердится Валька. – Шурник это, верней всего, подземный ход от трубы к стекольной печи. Здесь же завод раньше стоял. Доставай пешню. Да не шумите вы на весь поселок!
Мы, не сговариваясь, перешли на шепот. И мне кажется, что улицы деревенские затихли и завод примолк – все насторожились, пытаются разгадать нашу тайну.
А кирпичи на удивление отскакивают от кладки легко, целехонькие – нет у них изнутри известковой зацепы.
Штук пятнадцать сложил я кучкой на дне ямы, некогда поднимать их наверх.
– Все! – Валька наконец откладывает в сторону колотушку, припадает к пролому, пытаясь разглядеть что-то там, внутри.
– Не видать ни черта. Темно, как в могиле.
Сказал и осекся. Под землю лезть, о чертовщине лучше не заикаться. Мало ли что.
– Серянки с собой есть?
Нет как на зло ни единой спички. Ни у меня, ни у Рудьки. Да и откуда им взяться. Дед трутом да кресалом пользуется, у бабки в загнетке угли под золой от растопки до растопки тлеют, а спички она от нас в сундуке прячет.
– Ладно, попробую так. – Валька ужимает плечи, будто складывает себя вдвое, вихляя бедрами, с трудом протискивается между кирпичными зубцами. Мелькнули перед нами его грязные пятки, и он исчез, будто нырнул в речной омуток.
Страшновато за Вальку. Не побоялся, полез вперед руками, а вдруг там свились в клубок змеи. Ведь сам видел, как прошлой осенью, на змеиное сдвиженье, ползли сюда, на пустырь, две смолевой расцветки гадюки. Хотя сейчас им чего здесь делать, по первовесеннему теплу расползлись по ближним лесам.
Знобит меня как при простуде. Что там делает Валька? Почему не подает голос? Может, приключилась с ним беда, нужна наша помощь? И окликнуть боязно, вдруг кто в ближних домах услышит.
Я припадаю к дыре, трусь щекой о Рудькину щеку. А вдруг и правда увижу золотое сияние, коснусь ладонями тяжелых искристых монет?
Внезапно Валька из пролома протягивает свои черные, как обгоревшие сучья, руки.
– Подсобите…
В четыре руки мы вытягиваем его наверх.
– Ход там какой-то. Я шагов двадцать ощупью прошел, на завал наткнулся. Тут без огня не обойтись.
– Может, и правда клад там упрятан? Куда же еще заводчику его деть?
– Разевайте варежку шире… Царевна спящая там в гробе хрустальном лежит, вас дожидается. Хозяин-то когда убег, завод целехоньким оставался. Дошло?
Валька старше нас всего на два года, но он ходит в школу, довольно бойко читает книжки и рассуждает по-взрослому. Через него и мы узнали все буквы, хоть с задержкой, но разбираем слова на плакатах, прибитых к заводскому забору.
– А если там дезертир этот таится, Павлушка Абрамов, что с госпиталя на фронт не явился? – то ли нас, то ли себя пугает Рудька.
– Скажешь тоже! Кругом голодуха, а он бы выжил в подземке. Может, блинками его кто кормит?
– А куда же он тогда делся?
– А мне почем знать. Я у него в дружках не хаживал. Тайга вон вокруг немеряна.
– Валька, а может, кого из больших парней позвать? – гнет свое Рудька.
Совсем по-чужому глянул на нас Валька. Глаза злые, мечутся в них зеленые огоньки. Циркнул презрительно сквозь зубы:
– Тоже мне, сороки. Разнесите по всему поселку. Если сдрейфили, так и скажите: я для такого дела посмелей кого подыщу. Только потом не скулите. А из винтовочки я и сам постреляю.
– Из какой еще винтовочки? – разом насторожились мы.
– А из такой… – Валька вывернул из кармана своих потрепанных брюк позеленевший остроносый патрон. – Я его там, – он показал рукой на лаз, – в темноте ногой ущупал. Хотел вас порадовать, да, видать, не в коня овес.
Но коли так, какие могут быть сомнения. Есть в подземке патроны, как не быть винтовочке. Мы бы с ней горя не знали, на любого зверя пошли. Набили бы мяса, по мешку оставили родным – ешьте, а сами на фронт. Если ты при винтовке – кто откажет!
Переметнулись мы с Рудькой взглядами: не дай бог раздумает Валька, готовы хоть к черту на рога – заворожил нас зеленый патрон.
– Коли там винтовка, я на все согласный, – поперед меня вылез Рудька, и даже плечом в сторону оттер.
– И я согласный.
– Тогда клятву дадим, что никому не проболтаемся даже под пыткой об этом подземном ходе.
– Землю будем есть или крапивой жалиться?
И что накатило на Рудьку, кто его за язык тянет? Может быть, и словами обошлось бы, а коль напомнили, теперь-то уж выберет Валька самое суровое испытание, от которого не уйдешь, не открутишься.
– Я думаю, земля всего надежней.
И вот стоим мы на дне ямы, прижавшись друг к другу плечами, бубним дружно в три голоса:
– Даю священную клятву земле, воде, огню и небу, а также погибшему на войне солдату, что никто не узнает о нашей тайне.
Мы сосредоточенно давимся, хрустим зернистым песком, не смахивая со щек слез. Приметил я, что прихватил Рудька из-под ноги щепотку земли поменьше нас, да промолчал. Мне уже все равно, лишь бы скорей проскочил в горле тугой колючий ком. С крапивой клятва намного легче, поплюешь на обожженную руку или смочишь ее из собственного краника – глядишь, и утихла зудливая боль.
– Ну вот… – Валька вытер с губ грязную накипь. – Теперь ни гугу. Иначе сухота привяжется и ноги в тростинки превратятся, как у Кольки-хромоножки. А сейчас… Валерка, я вроде у вас фонарь видел?
– Есть, «летучая мышь»… Бабка зимой с ним корову доит, а сейчас он в амбаре висит. Только вот керосин… Она бутыль в кладовке запирает, боится, как бы дом не спалили.
– А это на что? – Валька вытащил из своего бездонного кармана гнутый ржавый гвоздь. – Чик-чирик – и раскрылся твой замок. Понял?
Понять-то я, конечно, понял, а вдруг застанет меня кто за этим делом – воровство в нашем доме не в почете.
– Я прихвачу из дома штык. – Валька будто не заметил моих сомнений, а может, специально мне и были предназначены эти слова. Плоский, похожий на кинжал штык хранили в Валькином доме как память о деде, когда-то тоже воевавшем с германцем, и если кто одалживал его у них до войны – забить бычка или поросенка, – то нес при возврате на жареху лучший кусок мяса.
– Налью керосину, не сомневайся, – заверил я друга, и Рудька заерзал, задергал плечами: все вроде стараются для общего дела, а он как бы в стороне.
– Я, может, что поесть придумаю и воды в графин налью. Во фляжку бы, конечно, лучше, но нет у нас ее.
Мог бы и не говорить про фляжку, о которой он давно мечтает. Может, никогда не будет ее в Рудькином доме. Пропал безвестно отец, не подворачивает к их калитке почтальонка Кланька Сысоева. А фронтовые трофеи (память о четырнадцатом годе!), подобные Валькиному штыку или нашему ранцу из мохнатой телячьей кожи, лишь тогда случаются в доме, если возвращается с войны хозяин.
– С графином ты хорошо придумал. С ним понадежней, воды побольше входит. А то подземка… может, она подо всем поселком петляет. – Валька неожиданно строжает голосом (командир, да и только!) – На все сборы – не больше часа, встречаемся здесь, у лаза.
Помог мне Валькин гвоздик. Щелкнуло что-то в замочке, и выскочила из гнезда дужка. Налил я керосина полкринки – незаметно вроде – и заткнул бутыль деревянной пробкой. Хорошо, бабки дома нет, никто мне не мешает. Сейчас вот лампу заправлю и…
Но, видать, верно присловье: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Углядел меня в амбаре брат Генка. И керосин вот он, в испоганенной криночке. А для чего, спрашивается, фонарь нужен, когда солнце в зените? Понял я, что Генку по кривой не объедешь, хитрован еще тот! Ты еще и рта не раскрыл сказать задуманное, а он уже про то знает. Пришлось про подземку все выкладывать, не сказал только про винтовку. Вот тебе и «ни гу-гу». Зря, выходит, землей давился, разболтал про нашу тайну. Как теперь в глаза друзьям глядеть буду?
– Ладно. – Генке вроде и неинтересны мои признания. – Найдете что, меня не забудьте, а я пойду искупаюсь.
С предосторожностями пробирался я на пустырь. Валька с Рудькой уже сидели в яме и тихим свистом оповестили меня об этом. Валька снял тряпицу с «летучей мыши».
– С керосином?
– Заправил. Гвоздок помог.
– А я что говорил!
Сказать бы ему сейчас про Генку, да не поворачивается язык. Осерчает, не бывать мне тогда в подземке, не стрелять из винтовки.
Сижу на земле, набираюсь решимости. Что ждет нас там, во мраке подземного перехода, в который сейчас предстоит спуститься? Какие опасности? Но Валька, он протягивает мне свой штык – заиграли на широком лезвии солнечные зайчики, отяжелела от рукоятки ладонь.
– Засвечивай, Рудик, фонарь – и в путь-дорогу! – Валька подмигивает нам и уверенно опускает в пролом ноги.
И вот над нами лишь голубой осколок неба. После слепящего солнца глаза с трудом привыкают к густому сумраку. Валька вывертывает фитилек фонаря, оранжевый язычок почти касается стекол, свет раздвигает в стороны темноту – а может, и глаза уже обвыкли? – и я осторожно разглядываю наше временное пристанище. Стоим в какой-то узкой галерее – раскинь руки, и коснешься стенок – с полукруглым сводом. С моей стороны галерея забита до самого верху землей и обломками кирпичей – без лопаты здесь делать нечего. Зато за Валькиной спиной видны четкие очертания хода. Что скрыто в его непроницаемой темноте? Невольно я касаюсь ладонью холодных кирпичей, ощущаю застывшие смолевые потеки. Что-то тревожит меня, не дает сделать первый шаг. Может быть, этот нависающий свод, близко сошедшиеся стенки – привычная человеческая боязнь ограниченного пространства и нехватка свежего воздуха?
Как же преодолеть себя, где найти мужество, чтобы добровольно направить себя в эту узкую каменную могилу?
Валька поднимает фонарь, черным глянцем загораются стенки. Ход невелик, с обычное деревенское окно, и Валька, согнувшись, едва вмещается в него, почти полностью заслонив от нас свет. Я как привязанный следую за ним. Рудька сопит позади. Ему потрудней нашего: и ход для него пониже, и темнота погуще. Все натянулось во мне струной. Вот сейчас, сейчас ЭТО должно решиться, что-то произойдет, и мы приобщимся к чему-то важному, неизвестному, которое было скрыто до сих пор под землей, в кирпичной оболочке этого хода. Ведь случается же с другими, находят в самых неожиданных местах потайки со старинными монетами и различными украшениями. А здесь все-таки подземка…
«Ну давай, давай!» – про себя приторапливаю я Вальку. В центре связки я чувствую себя надежно, и, когда ход немного расширяется, выглядываю из-за Валькиного плеча. Неяркий свет выхватывает из темноты кусок свода, на черном глянце кирпичей вспыхивают зеркальные искорки. Неожиданно я влипаю в напряженную Валькину спину, негромко чертыхаюсь. Фонарь выпадает из его руки, желтые тени проскальзывают по прокопченным стенкам. Смутно мелькнуло впереди что-то белое, и в тот же миг какая-то неведомая сила отбросила меня в сторону, и я упал лицом на кирпичную осыпь, не успев напугаться и не понимая, что же произошло.
Прямо перед собой я увидел огромный темно-восковой череп – неземными зелеными огнями полыхнули пустые глазные впадины, ощерились в жутком оскале длинные зубы.
– Ма-а-а-а! – Непроизвольно родившийся крик, казалось, вывернет наружу все мои внутренности. Что было дальше, я не знаю. Как не помню и того, кто из нас первым, а кто последним выскочил наверх. А может, и все мы единой пробкой вылетели на поверхность из узкой горловины лаза, обдирая плечи об острые кирпичные изломы…
Остановились мы лишь у школы. На завалинке сидел Генка, привалившись к бревенчатой стене. Он лениво щурился на солнце и посасывал папиросный окурок.
– Чего это вы, будто с цепи сорвались?
– Да так, – первым опомнился Валька. Дышал он тяжело, запалил себя бегом, на целые слова не хватало дыхания. – На спо-ор с ре-ки бе-жим…
– Оно и видно. Такие чистенькие. Рожи-то чернее сажи.
– А ч-ч-че-го это т-т-та-ам бы-ло? – Сильнее обычного заикается Рудька. Шедший подземным ходом последним, он, вероятно, и не видел то, что явилось нам с Валькой, а когда мы, сминая друг друга, ринулись обратно, то и его повергли в бегство. Сказанное Генкой, видать, прошло мимо Рудькиных ушей, или он все еще живет недавним непонятным ему ужасом и не соображает, где находится и с кем говорит.
– Где там? – вкрадчиво переспрашивает его Генка.
– Ну т-т-т-ам!
Мы с Валькой молчим. Стоит перед глазами жуткое видение – череп скалится… Действительно, что же это было? Может, и правда потревожили покой какого-нибудь мертвеца? Ведь видели же мы однажды неясные подрагивающие тени на ночном кладбище. И хотя мать объяснила мне, что в любых костях, в том числе и человеческих, есть особое вещество – фосфор, которое в темноте лучится зеленоватым светом, увиденное такое однажды уже никогда не забудешь.
– Эх вы, кладоискатели, – не выдержав, внезапно хохочет Генка. – Лошадиного черепа испугались!
– Так это ты… подстроил? – теперь до меня доходит, почему Генка так быстро смотался из амбара. Что стоило ему по свежему штабельку кирпичей отыскать лаз, набить перепревшими зелеными гнилушками валявшийся на пустыре череп и подложить его в подземный переход? А потом нежиться на теплой завалинке в ожидании интересного зрелища – бегущей в страхе нашей ватаги…
– Фонарь-то, конечно, там бросили? – не унимается он.
– Там… – мнется Валька, – не знаю, как и выпал.
– Ладно, пошли, повидаемся с черепушкой. Фонарь все равно выручать надо.
Сердимся мы на Генку и не сердимся. Прошел страх на свету, под жарким солнышком, вместе со смехом моего брата.
– Вы про подземный ход никому не говорите. В прятки будем играть, спрячемся – с собаками не сыщут. Да и мало ли для чего он пригодится.
Генка – кремень, а может, и покрепче кремня. Что услышал – вместе с ним и умрет. И потому мы уверены: подшутил он над нами, а о случившемся позоре никто не узнает. А секретом с братом почему не поделиться.
Каменную галерею с небольшим боковым ответвлением на этот раз мы исползали всю из конца в конец, каждый кирпич в четыре пары рук пощупали. Среди кирпичного крошева и стеклянных осколков нашли лишь одну зацепку к старинной тайне – ржавый винтовочный затвор. Кто обронил его здесь – теперь не узнаешь. Может, и правда был этот теплый подземный ход между трубой и ванной печью старого завода кому-то надежным убежищем в годы гражданской войны и бандитского мятежа, кто знает. Камни об этом не расскажут.
СВОЙ ОСТРОВОК В ТАЙГЕ
Издавна соседствует в наших палисадах пахучая черемуха с сибирской яблонькой-дичком, называемой всеми ранеткой. Выйдет кто из сельчан в жизни на собственную дорогу, первым делом смастерит себе домик, а для души, для сердечной радости обязательно принесет из леса, сизоватый гибкий прутик с комочком материнской земли, любовно обиходит его перед окном. Весной, по первому теплу вдруг полыхнет в садочке белое пламя и пойдет гулять по поселку из края в край. Черемухи полно во всех ближних и дальних лесах. Встретишь ее и на покосных еланях, и в тенистых затравеневших низинах, но больше всего это неприхотливое дерево прижилось по берегам Ниапа. Возвратные заморозки – зимняя отрыжка – часто губят буйно расплеснувшийся цвет, осыпают его до поры, и потому не каждый год урожайный на сладко-терпкую ягоду, впустую простаивают черемуховые рощи. Но если повременит ночная остуда, из нежно-молочного цвета дружно брызнет зелень завязавшихся плодов. Пройдет неделя, другая – и самое время собираться в лес, искать будылье, резать трубки для своей забавы – стрельбы крепкой ягодой.
Кто посадил черемуху в нашем садочке, я не знаю. Но, видать, давно это было, еще в бабкину молодость, потому что поднялась она выше крыши, и верхние ветки покоятся на тесовом настиле. Ствол дед обиходил – срезал ножовкой нижние сучья, чтобы не застили свет, и по черным кочерыжкам, как по ступенькам, я легко забираюсь на раскидистую вершину.
Снизу меня не приметишь, а мне с верхотуры видна вся улица, по-весеннему нарядная, солнечная – у каждого дома, подобно нашему, свое цветущее облачко.
Воздух, кажется, дрожит от гудения пчел, ос и другой разной летучей мухоты – откуда только и берутся в таком количестве? – их неспешная работа идет буквально в каждом цветочке. Налетает теплый ветерок, тревожит черемуху, она подрагивает, шелестит каждым листочком, и нетающие снежинки, медленно опускаясь, припорашивают землю.
Мне хорошо здесь, в ароматном закутке, в мирном соседстве с пчелами, и, пока я лениво думаю, чем бы сейчас заняться, на улице появляются мои друзья. Рудька, высокий, костлявый и потому какой-то нескладный, торопливо что-то объясняет Вальке, размахивая при этом руками. А тот идет молча, на плече – лопатка, на которой покачивается небольшая корзинка. Невысокий, крепенький, как набирающий силу гриб-боровичок. Разговорить Вальку трудно, он всегда в каких-то своих думах, но мы-то знаем – без затей он не может, и если что-то придумает, всем будет в удивленье. Еще вчера мастерили мы ходули, да такой пугающей высоты, что вставать на деревянные подставы, приколоченные посередине жердинок, приходилось лишь с забора. «Подросшие», учились ходить, задевая плечами урезы тесовых крыш, падали на землю, сбивая ладони и коленки…
А друзья уже рядом с нашим садочком, таюсь я наверху – сейчас их удивлю-напугаю, но Валька задирает вверх свою кудлатую голову, кричит вполголоса: «Слазь живее…» И как только усмотрел меня в мешанине цветов и листьев, не глаз – востроглаз!
Спускаться – не залазить, шурх-шурх по стволу, сучьям, и мои босые ноги касаются земли.
– Бабка где? – спрашивает Валька.
– Морковку в огороде расплевывает.
– Тогда руки в ноги и – поехали.
– Ку-да?
– На кудыкины горы. – Валька молчит, испытывая мое терпение. – Землянку ладить будем, понял?
Сказал он мне это, я и рот разинул. Где? Какую землянку? Зачем? Но Валька предупреждает мои вопросы:
– Для себя будем строить. Кому же еще…
И вот уже тропим мы незнакомый мне лес, все дальше и дальше удаляясь от поселка. Вверху, в хвойных вершинках, путается солнце. Желтые подрагивающие нити пронизывают дневную сумеречь леса, тянутся к земле, высвечивая яркие пятна на рыжем хвойном подстиле. Солнце в незнакомом лесу всегда бодрит, отгоняет страх. С ним не заблудишься. По всем приметам где-то впереди нас поджидает река, никак не миновать нам ее.
– Сейчас уж недалеко. Я тут такое место надыбал… – как бы подгоняет нас идущий впереди Валька. Лопата у него – штыком вперед, корзинку давно передал Рудьке. Лишь я налегке, как сиганул из садочка, и был таков. Идем мы бездорожно, но ходко, а потому молчим, при быстрой ходьбе не до разговоров.
Бор уступает место тенистой прохладной низине, заросшей черемухой и разным черноталом, и кажется, нет этому буйному засилью конца и края. Старые корявые стволы, густо увитые хмелем; темная обестравленная земля, будто изъеденная гарью, заваленная сучьями, вытолкнувшая на поверхность клубки змеиных корней – отживает свое, умирает черемуховая роща. Что случилось с ней? Вымокла ли от застойных весенних вод или сгубил ее нутряной, внезапно полыхнувший торфяной пожар? А может, и подошло время уступить место свежему, подросту, который она сама же и родила, а теперь губит, заслоняя живительное тепло и свет.
Общение с мертвым лесом всегда в тягость, хочется скорее выбраться на светлые места, к теплому янтарному сосняку, к птичьим песням, унять в себе ощущение беспричинной тревоги. И потому невольно торопишься, ускоряешь шаг, с опаской посматривая, куда поставить ногу Но всему бывает конец: пробрызнуло впереди солнце, засветились восковым румянцем стволы – довольно крутой подъем вывел нас к опушке хвойного леса, под ногами засеребрился, похрустывая, молодой курчавый мох.
– Приехали! – Валька смахнул рукавом пот с лица, лопата полетела на землю. – Тут нас и с собакой не сыщут. Пускай бродовские утрутся. Мы-то про их земляночку все знаем, а они… Разве в такую глухомань сунутся? Там, – он показывает рукой назад, откуда мы только пришли, – не пролезешь, разве по нужде какой, а здесь – река…
И правда, река – вот она, совсем рядышком, катит неспешно свои воды, а я-то и не приметил. Да и как приметишь, когда из низины карабкались мы вверх, к светлому сосняку, и больше зыркали себе под ноги, опасаясь ядовитых после зимней спячки гадюк.
– Может, купнемся? – предлагает Валька.
– Вода-то, поди, еще о-е-ей, – нерешительно соглашается явно взопревший Рудька, но я уже машинально тяну с себя рубаху.
Что нам донная остуда, купались мы и до черемухового майского цвета, поверху-то вода все равно прогрелась, напиталась жарким солнышком.
Голышом с разбегу бросаюсь в омуток, выкинув вперед руки – а ну как где-то там, внизу, притоплены невидимые бревно или коряга. Тело мое стремительно уходит вниз, и, едва коснувшись пальцами песчаных наносов, я переламываю себя в поясе, переворачиваюсь, отчаянно рвусь к светлым проблескам над толщей воды. На какое-то мгновение я смят, раздавлен, напуган. Тысячи иголок разом впиваются в меня, тугие обручи сжимают грудь и сердце… Сердце, оно колготится где-то у самого горла, вместе со мной рвется из плена этой страшной купели. Пробкой, ошпаренный ледяным кипятком, я вылетаю на поверхность, и первый же глоток воздуха непроизвольно рождает во мне испуганно-ликующий звук.
То же самое, видать, пережили и мои друзья. У Рудьки глаза, что старые медные пятаки, нижняя челюсть беззвучно дергается, никак не может остановиться. Лишь Вальке все нипочем, он стремительно подгребает к берегу, по крутому песчаному откосу которого змеятся отполированные водой до черноты корни. И только тут я замечаю – по рыжевато-синей глинистой проточке, разъевшей береговой дерн, сверху струится светлая нитка воды, подпитывает омуток. Теперь понятно, почему так обжигающе холодна и без того непрогретая речная вода.
Мы цепляемся за упругие канаты-корни. Рудька с Валькой, что ранние пупырчатые огурцы, мелькают перед моим лицом посинелыми задницами, я невольно хохочу, но смех больше похож на громкую икоту. И вот мы наверху, какой-то бес поселяется в каждом из нас, подстрекает к безудержному веселью – мы бегаем вдогонки меж деревьев, цепляемся друг за друга, шлепаем по запретным местам, никого не стыдясь, да и кого здесь стыдиться, кто здесь нас видит в таком безлюдье.
А островок наш – иначе его не назовешь! – этакой сопочкой взбугрился над тайгой. Как и когда удалось реке отслоить от высокого правого берега такой вот кусок земли, зачем было ей точить щебенистый суглинок, пробивать себе новую дорогу? А погибающая черемуховая роща, похожая отсюда, сверху, на иссохшую старческую руку, видать, и есть бывшее русло Ниапа, заиленное неплодородным песчаником, подтопляемое весенним многоводьем. И эта черная подкова надежно отгородила наш островок от остальных приречных лесов, от случайного глаза и, конечно же, от вечных наших недоброжелателей, бродовских пацанов. И это больше всего радует нас. Мы здесь хозяева.
Усталые от беготни, валимся на теплую землю, усмиряем в себе азарт. Звонкая тишина оглушает, дышится легко, в полную грудь. Пряный запах идет от земли. В теплом мареве колышутся травы, кажется, что растут они на глазах, наполняются соком, распускают цветы, выметывают липкие листочки. И я чувствую это каждой частичкой своего тела. Все входит в меня волнующим радостным чувством, хочется приласкать каждую травинку, обогреть в ладони мураша, сказать что-нибудь нежное лежащим рядом друзьям. Что я без этого леса? Без шороха листьев, мелодичного скрипа стволов, без чистых слез родничка и солнца над головой? Вот плывет над вершинками облачко, а куда? И где прольется оно дождем или истает в жарких лучах? Или вот эта, заблудившаяся в сосняке береза. Кто занес сюда ее семечко? Ветер ли, птица?
– Валька, а ты какое дерево больше любишь?
– Рябину.
– А я березу. Сок у нее больно вкусный.
К березе, пожалуй, все относятся с уважением. Сколько пользы от нее человеку. Дрова – для большого жара, веники для здоровья, деготь – сохранить обувку, а чага – от любой нутряной болезни.
– Ну, ладно, помлели на солнышке и хватит, не лежать сюда добирались. – Валька поднимается первым. Он выбирает чистое место между соснами, и я понимаю его без слов: копать рядом с деревьями нельзя, повредишь корни – усохнут, растеряют зеленую иглу. Дернину Валька нарезает большими кусками, подбивает их лезвием лопаты снизу, а мы с Рудькой осторожно, за уголки ладонями подхватываем каждый пласт и складываем штабельком в сторонке. Дерн нам сгодится, когда будем ладить крышу…
– Вроде в самый раз. – Валька приценивается к темному прямоугольнику вскрытой земли.
– Не маловата будет? – спрашивает его Рудька.
– Тебе что в ней, телиться?
Как-то непривычно видеть черную рану на груди цветущей поляны, но мне интересно, что будет там, за слоем перепревшей рыхлой земли – песок, глина или скрипучий галечник? Пока идет песок вперемешку со ржавой глиной. Валька с присыпочкой наполняет корзину, я отношу ее к берегу. Плетеная дужка впивается в ладонь, но я терплю. Следующая очередь нести корзину Рудьке, и пока он обернется, ладонь моя отойдет. Землю мы ссыпаем в речку. Вода в ней ненадолго мутнеет, рыжие космы, постепенно исчезая, тянутся по течению.
За один день втроем землянку не сделаешь, надо не только выкопать яму, но и заготовить сухостойных жердей, укрепить ими стенки и лаз, вкопать столбы с матицей, настелить потолочное перекрытие и обдернить его, сколотить стол и нары. Но мы и не торопимся. Лето только набирает силу, все наши лесные походы еще впереди. Главное, что у нас есть тайна, с которой всегда живется интересней. Будем здесь рыбалить, варить уху, жарить на костерке грибы, любоваться рекой и лесом.
Рубаха на Вальке потемнела, прилипла к телу, и он тянет ее через голову. – Держи!
Я ловлю влажный тряпичный ком, встряхиваю его. Сейчас наброшу рубашку на сук, мигом ветерком подберет, подсушит солнышком. Спина у Вальки крепкая, отсвечивает золотистым пушком, и, когда он поднимает полную лопату земли, под кожей вспухают тугие катыши. Смотреть, и то любо. Я незаметно от друзей сгибаю в локте руку, напрягаю ее до боли, но моя синюшная кожа будто прилипла к костям, ничто под нею не бугрится и не катается. «Ничего, были бы кости, а мясо нарастет», – утешаю я себя бабкиными словами, надеясь на что-то доброе, хорошее в своей будущей жизни, которое обязательно должно случиться. Вот только возвратится отец, и тогда… Тогда на столе под полотенцем всегда будет лежать хлеб, подходи в любое время и отрезай, сколько хочешь. Почему-то отца я всегда представляю сидящим за столом, на котором попыхивает наш ведерник-самовар, синими осколочками сверкает в вазочке сахар, а в тарелке горкой навалены пшеничные ломти.
Дальше этого мое воображение не продвигается. Отец, сахар, хлеб…
– Валька, а ты когда-нибудь видел гору хлеба?
– А что тут такого, – дернулся на его грязной шее кадык, – и ты в любое время посмотреть можешь.
– Это где же? – Рудька опустил на землю корзину.
– Да в пекарне…
– Тьфу, – сплюнули мы разом с Рудькой.
В пекарню путь посторонним заказан, здесь каждая буханка десятками глаз учтена и сосчитана. Мне об этом и бабкой и матерью не раз говорено было, чтобы не смел даже неподалеку крутиться. Расположена пекарня сразу за школой, в просторной избе с коваными решетками на окнах. Большую часть помещения занимают печь, огромное корыто для замеса теста и похожий на нары стол, колдовал за которым высокий костлявый Никифор Грядкин – катал, мял и укладывал в промасленные формы серые мучные сбитни. Выпеченные хлеба, похожие на рыжеватые кирпичи, отдыхали на том же самом столе, потом их взвешивали на весах и складывали в хлебовозку – деревянный ларь с замочком, установленный летом на телеге, а зимой на санях. Когда хлебовозка подъезжала к магазину, там уже всегда толпился народ. Продавщица изнутри открывала задвижку, и в стене образовывалось небольшое оконце.
– Раз, два… шесть, – считала она громко уже учтенные и перевешанные вместе с пекарем буханки. Стоящие в очереди старухи и подростки невольно шевелили губами вслед этому счету. Хотя чего там… Каждый и так знал, какой кусок определят ему весы на карточки от этой общей выпечки.
Отовариваться хлебом у нас, как правило, ходил кто-нибудь из взрослых, нас бабка старалась не вводить в искушение. Да и мы понимали: намаявшись в очереди, надышавшись до боли в желудке хлебных запахов, трудно не соблазниться и не отломить от семейного пайка хотя бы крохотулечку. Ну, а где малость… В общем, добром магазинные поручения кончались редко.
– Ты чего размечтался, давай-ка в яму. – Валька протягивает мне лопату. Внизу прохладно, земля отдает сыростью. Песок уже подчистился, пошла глина, плотная, жирная. Теперь копаем втроем, подменяя друг друга. Я уже с головой ушел в яму, с трудом выбрасываю сочные ломти глины на травянистую бровку.
– Может, хватит? – спрашиваю Вальку.
– Не-е, еще на штык возьмем. Не конуру строим.
А время на свежем воздухе, за работой летит быстрокрылой ласточкой – не заметили, как солнце прокатилось по небу и опять в леса нырнуть приготовилось. Прохладный сквознячок сочится меж сосен. Горят ладони, ноют плечи, да и лопата – чуть зацепишь глины побольше, кажется неподъемной. Я жду – сейчас меня сменит Рудька, но он неожиданно появляется на краю ямы без корзины, и по его взволнованному лицу я понимаю: что-то случилось. Предупреждая мои вопросы, Рудька торопливо шепчет:
– Там-м плывет кто-то…
Через минуту мы припадаем в траву рядом с Валькой, который лежит у самой кромки берега. Он прикладывает палец к губам. Я осторожно отгибаю ветку смородины. Впереди, в лучах закатного солнца серебрится, переливается чешуйками речной прогал. И там, у самого поворота – лодка, а в ней, согнувшись, сидит человек. С каждым гребком он приближается к нам, и я узнаю его. Макся Котельников! Зачем он здесь? Мне кажется, что Макся держит под прицелом своих глаз береговые кусты, чутко прислушивается к лесу – вон как ворочает своей цыганистой башкой, будто опасится чего-то. Хотя кого ему бояться, взрослые все в поселке, на работе, это нас затащило в такую даль.
Непонятен мне Макся. Наш, деревенский, но как бы и чужой всем. Война незаметно сблизила людей. А может, просто каждый из них по одиночке боится бороться с собственным горем, вот и тянутся все друг к другу душой, чтобы выговорить свои надежды, отболеть сообща беды, отголосить похоронку.
Страдания взрослых созвучны и нашим сердцам, оставляют на них свои зарубки, но для нас страшней всего другое – голод, который, особенно в долгие зимы, накидывает петлю на весь поселок. Ведь мы растем, и наши желудки, чем их не набивай, постоянно требуют пищи. Но даже в такое время, когда до сытости далеко в каждом доме, сельчане не растеряли своей гордости и христарадничать в открытую никто не решается. Такое падение – до сумы – презирается. Зато примечал я другое. Как бабка, улучив свободную минуту, перекрестившись на иконы, заворачивала в тряпицу что-нибудь из съестного и отправлялась на улицу. И я догадывался, куда. К вырытой на краю поселка землянке, где ютилась семья приезжих, прозванных нами вотяками.








