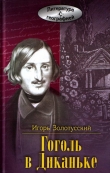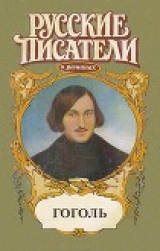
Текст книги "Совесть. Гоголь"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Однако от такого рода соображений становилось ещё тяжелей. Что-то слышалось близкое и в то же время враждебное для его «Мёртвых душ», которые он в обиду давать не желал.
Его лицо становилось непроницаемо-хитрым, как бывало всегда, когда он усиливался скрыть свои мысли. Он заставлял себя казаться таким же непринуждённым, как его гости, однако голос внезапно ему изменил, прозвучав с оттенком лёгкой насмешки, не подходившей ни к Шекспиру, ни к «Мёртвым душам», вообще ни к чему:
– И вы не желаете вырабатывать своего отношения к русской действительности, к «давлению времени», как выразились вы, то есть Шекспир?
Тургенев пояснил всё так же светло и невинно, поворотившись к нему:
– Я хочу её прежде понять.
Он спросил неожиданно горячо:
– Понять? Для чего?
Тургенев не отводил своих детски невинных пронзительных глаз:
– А для того, чтобы понапрасну не противопоставлять действительной жизни своих добрых чувств и хотений.
Да, эта мысль бессилия наших чувств и хотений перед неизмеримой действительностью была ему страшно близка, однако он понимал эту истину как-то иначе, тогда как в устах Тургенева эта мысль звучала однозначной и непререкаемой истиной, так что от этой непререкаемости и однозначности становилось невыносимо, и он тотчас поспешно напомнил себе, что Тургенев, как докладывал всезнающий Анненков, получил в детстве прекрасное воспитание и по этой причине естественность тона могла быть всего-навсего светской привычкой, тогда как он почему-то хотел, чтобы Тургенев хитрил, даже издевался над ним. Тогда опровергнуть все эти измышленья о том, что прежде надо понять действительность как она есть, было бы просто, ещё было бы проще эту горчайшую истину выставить ложью.
Он спросил, прищурив измученные глаза:
– А потом?
Тургенев переспросил, немного растягивая слова:
– Что же – потом?
В этой лёгкой паузе послышалась как будто немая насмешка над ним, и он с раздражённым высокомерием изъяснил:
– Ну, вот когда вы наконец поймёте её?
Тургенев чуть приподнял широкие брови, однако ответил бесстрастно и просто:
– А потом можно, разумеется, действовать, сообразуясь с её, а не с нашей собственной волей.
Что-то облегчающее заслышалось в этом ответе. Он тоже звал действовать, однако сообразуясь именно с нашей собственной волей. Его аргументы были испытаны. Спор мог бы доставить одно удовольствие ощущением своей правоты:
– Смею уверить вас, молодой человек, вы не в той стороне хотите отыскать свою истину.
Взглянув со вниманием, Тургенев с живым интересом спросил:
– В таком случае где же искать?
Он собирался ответить почти равнодушно, однако властная нота против воли послышалась в пресекавшемся голосе:
– А в себе, в душе нашей содержится всё, что ни надо для действованья на благо себе и другим.
Тургенев возразил с неожиданной грустью:
– В сравнении с необъятной природой душа человека ничтожно мала. Самая жизнь наша лишь красноватая искорка в мрачном немом океане. Какую же истину эта малая искорка способна из себя внести в океан?
Он подхватил с торжеством:
– Именно так, океан вечности мрачен и нем, в одной душе человека сотворился истинный свет.
Тургенев прищурился, негромко спросил:
– Вы имеете, конечно, в виду нашу совесть, добро, понятие справедливости, так?
Чувствуя, что этот вопрос задан ему неспроста, он гадал с лихорадочной быстротой, не приготовлен ли заранее у этого молодого философа, кажется, даже магистра, сильный, сокрушительный, быть может, ответ, и такая догадка распаляла в нём новый задор.
Он подтвердил с каким-то снисходительным торжеством:
– Именно эти свойства имел я в виду. С этим-то вы, надеюсь, не станете спорить?
Тургенев поднял глаза, которые показались печальными, и тонкий женственный голос прозвучал приглушённо:
– С этим я спорить не могу и не буду, однако же, правду сказать, быть совестливыми, добрыми не всегда зависит только от нас. Нередко мы становимся злыми – такими нас делает наша злая действительность.
Он чуть не вскрикнул в ответ:
– И вы предлагаете покориться злому в действительности?
Рот Тургенева решительно сжался:
– Нет, я не предлагаю ничему покоряться, нисколько, я предлагаю, обстоятельно, верно изучив действительность, познав её, приобрести истинную свободу во всех наших действиях.
Он не совсем понимал:
– То есть вы хотите сказать, что надо быть то добрым, то злым, смотря по тому, к чему нас принуждает действительность?
Тургенев задумался на мгновенье и кивнул головой:
– Если хотите, выразиться можно и так. Во всяком случае, именно так происходит с нами на каждом шагу.
Он вскричал:
– В таком случае нет и не может быть ни зла, ни добра, а между тем несомненно наличие и того и другого!
Тургенев возразил рассудительно, хладнокровно:
– Добро, или вот ещё красота, или принципы восемьдесят девятого года – всё это вещи условные. Китаец смотрит на эти вещи совершенно другими глазами. Да и европейцы никак не придут к единому мнению, что именно принять за добро, справедливость и красоту. Какая уж тут несомненность!
Он всё это, конечно, предчувствовал, недаром же перебирал журналы, выходившие в русской земле, однако в действительности эти новые мнения выходили куда пострашней, чем виделось ему из его прекрасного далёка, и всё усиливался, нарастал, всё давил его страх за себя, за свой неоконченный труд, за смысл и даже самую надобность творчества, так что руки опускались писать. К чему его муки, если отрицается несомненность добра, справедливости, красоты? Для того чтобы убедить человека в его полнейшем ничтожестве перед железным лицом обстоятельств? Доказать, как мы бессильны что-нибудь совершить в сравнении с вечностью? Да лучше и вовсе ничего не писать! Однако он писал и писал, писал об ином, и до отчаяния становилось понятно ему, что всё то, что он, истязая себя, по буковке, по словечку, по мысли вытаскивал из себя, чтобы дать вечную жизнь второму тому поэмы, Тургеневу останется навсегда непонятным, не примется, даже осудится, изругается им самим и теми, кто с ним, а с ним Некрасов, Достоевский, Дружинин, Гончаров, Григорович[55]55
Некрасов Николай Алексеевич (1821 – 1878) – поэт, писатель, автор многочисленных стихотворений, поэм, рассказов, очерков, водевилей; в 1847 – 1866 гг. редактор-издатель журнала «Современник».
Достоевский Фёдор Михайлович (1821 – 1881) – писатель, автор многочисленных широко известных повестей и романов.
Дружинин Александр Васильевич (1824 – 1864) – литературный критик, журналист, поэт-переводчик; в 1859 г. по его инициативе создано Общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным.
Гончаров Иван Александрович (1812– 1891) – писатель, автор очерков «Фрегат «Паллада» (отд. изд. 1858), известных романов «Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859) и «Обрыв» (1869).
Григорович Дмитрий Васильевич (1822 – 1899) – писатель, автор повестей «Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847), романов «Рыбаки» и «Переселенцы» (1850-е гг.), рассказа «Гуттаперчевый мальчик» (1883) и др.
[Закрыть], кто-то ещё, с кем так неловко повстречался он в Петербурге, там целое поколение, за судьбы которого после каждого слова этого молодого философа становилось всё беспокойней, ибо в юных душах нестройно, неслаженно, зыбко, не ведают истины, а от него истину принять не хотят, чего-то ищут, куда-то идут, а куда, а зачем? Что отыщут они в земных дебрях нестройных блужданий? Придут ли к тому, что открыто и завоёвано им, что одно способно одушевить на подвиг жизни, на мучительство творчества, на высшие порывы души? Не угаснут ли, как и до них угасли бессчётные искры? Не в бездну ли ведёт целое поколение этот соблазнительный путь?
И чувство вины перед ними терзало его, и дерзость рождалась писать и писать, лишь бы всех убедить, не вяло, томительно, робко, выцарапывая словцо за словцом после тоскливых и долгих раздумий, писать стремительно, яростно, густо, как однажды писалось в придорожном итальянском трактире, во всю свою мощь, во весь размах наболевшего сердца, чтобы огнём своих строк опалить и увлечь за собой эти отворотившие от истины души, и уже предчувствовалось в немилой тоске, что недостанет в тех строках огня и размаха, чтобы это приземлённое поколение опалить и увлечь.
Он заторопился по возможности твёрдо сказать:
– Я нахожу вашу душу в смущении. Как вам помочь и возможно ли помочь вам, я не знаю. Знаю лишь, что от Бога свет, не смущенье. Все события, в особенности чрезвычайные и нежданные, всё то, что вы именуете стечением бессмысленных обстоятельств, суть к нам обращённые Божьи слова, которые наш долг вопрошать до тех пор, пока не допросимся, что означают они, чего ими требуется от нас. Без такого рода запросов к себе никогда не сделаться душе совершенной. Беда, что за тысячами хлопот, которые поиздёргали нас отовсюду, нет у нас времени переворачивать всякое происшествие во все стороны да со всех углов оглядеть. Иначе голос истины был бы слышен везде и повсюду, и потому это непременно надобно делать в те немногие миги, когда душа слышит досуг и способна хотя бы несколько часов прожить жизнью углубленья в себя, иначе ум наш поневоле привыкнет к односторонности, научится схватывать только то, что поворотилось к нему, и впадать беспрестанно в ошибку. Но если уметь переворачивать происшествия и со всех сторон оглядывать их, непременно откроется дорога добра, которая всегда и повсюду указана Богом. Нас делает лучшими самая мысль о добре.
Тургенев с оттенком лёгкой усталости возразил:
– В необходимости переворачивать со всех сторон происшествия действительной жизни мы с вами согласны вполне, что же касается Бога, то мне о Боге трудно судить. В самом деле, я думаю о Нём слишком мало. Я весь прикован к земле. Жизнь, действительность, её случайности и капризы, её привычки и мимолётную красоту я обожаю. Чем размышлять всё о Боге, я предпочитаю созерцать торопливые движения утки, которая влажной лапкой чешет себе затылок на краю лужи, или длинные блестящие капли воды, которые медленно падают с морды неподвижной коровы, только что напившейся из пруда, куда она вошла по колено. Мне трудно понять, какое всё это имеет отношение к Богу.
Он так и увидел эту синюю лужу с клоками плывущего белого облака и кургузую птицу, которая только выбралась из воды с утятами и, вся ещё влажная, тёмная, избочась, красной лапкой тянулась к чёрным пёрышкам кокетливо изогнутой шеи, а вслед за ней увидел деревенский вырытый пруд с тремя крутыми и одним пологим истоптанным берегом и корову, застывшую не то в полуденном сне, не то в немом удивлении, и эти длинные капли, блестевшие под лучами жгучего солнца, и ощутил, какой могучей силы художник сидел теперь перед ним, и сделалось больно при мысли о том, что вся эта редкая сила таланта распылится бесследно по ветру нашего трудного переходного времени или бесследно уйдёт в немую землю, если вовремя не отыщется единого, прочного стержня в этой грустной душе, а он уже слышал, что именно грустная эта душа появилась на свет, и он с горечью, с сожалением не то спросил, не то сказал утвердительно:
– И вот ради истинной, как вы говорите, свободы вы не желаете иметь убеждений и решились пройти по жизни без всякой веры.
В голосе Тургенева вновь заслышался холод:
– Я всего лишь не связываю себя своими предубежденьями.
Я лишь повёртываю их со всех сторон и по возможности правильно, логично, от причины к следствию делаю выводы.
Щепкин уже докурил свою небольшую сигарку, напустив в комнату вонючего дыма, но всё ещё держал оставшийся кончик вверх угасавшим огнём, точно свечку, и синяя струйка, мелко и часто дрожа, поднималась над ним.
Он тоскливо взглянул на артиста, не в силах вымолвить последнего слова, которое разрешило бы спор, и тут Щепкин, словно ощутив на себе его ищущий взгляд, возмущённо воскликнул:
– Господи, Тургенев, да как же без всякой-то веры? Жутко ведь без веры-то жить!
Тургенев невозмутимо ответил:
– Беда моя, точно, может быть, в том состоит, что мой ум не находит никаких оснований для веры.
Он спросил, поспешно наклоняясь к Тургеневу, ожидая чего-то:
– И вы называете это свободой?
Тургенев кивнул ещё невозмутимей:
– И называю это свободой. И, кстати сказать, не представляю себе художника без такого рода свободы.
Он произнёс сдержанно, возмущённо:
– Художнику, я полагаю, нужен талант. – Тут ему захотелось смутить, оборвать своего собеседника, и он повторил напористо, громко: – Талант, и желательно высшего качества, а ваша свобода сама по себе, свобода от своих убеждений – это слишком уж мудрено.
Он хотел бы с насмешкой прибавить: «Как ваши колени, пошедшие треугольником», – да вовремя вспомнил, что об этих дивных коленях сообщил ему Щепкин, оборвался и решительно смолк.
Тургенев помолчал выжидательно, не прибавится ли чего, и заговорил осторожно, как говорят с больными или с детьми:
– Талант себе дать невозможно. Талант либо есть, либо таланта нет никакого, так не о чем и рассуждать. Если же талант всё-таки есть, то мне представляется, что это не всё. Без образования, без свободы в обширнейшем смысле этого слова – в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям, даже к народу своему, к своей истории и к эпохе – без этого воздуха дышать невозможно. Пушкин это понимал превосходно, недаром сказал: дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум. А не то сам себя загрызёшь, когда не по-твоему выйдет.
Ах, Пушкин, эта мысль ему была тоже близка, и он жадно спросил:
– Так, по-вашему, и грызть не надо себя, если вышло не так?
Тургенев тоже спросил:
– Ну, сгрызёшь себя, а толку-то что?
Он качнулся, обхватил себя за плечи руками и очень тихо сказал:
– Так что же делать тогда, если не по-нашему вышло?
С долгим вниманием поглядев на него, Тургенев посоветовал тоже тихо, точно понял его:
– Делайте дело своё, а то, что не по-нашему или по-нашему вышло, перемелется всё.
Поднявшись порывисто, он сделал несколько решительных, крупных шагов, уходя от Тургенева, ощущая, что хотел, что необходимо было ему именно эти слова услышать в ответ.
Именно делать дело своё как можно лучше, значительней и спорей, делать, какие бы сомненья ни воздвигались уму, а уж после судить результат, может, и перемелется в самом деле тогда, – в этой философии жизни проступало что-то безоглядное, что-то надёжное, даже красивое, какой бы туманной или зыбкой ни представлялась она, и, пожалуй, сам Тургенев нравился ему всё больше и больше, несмотря ни на что, лишь во многом соглашаться с ним было нельзя, никакой свободы он себе позволить не мог, он держал себя в железных руках и всё-таки не справлялся со своими пороками, а при свободе-то, а? Да при свободе пороки и вовсе бы одолели его!
Он повернулся, однако в кресло не сел, а стоял, заложив руки в карманы.
Давно уже он не спорил ни с кем, убедившись в безнадёжности всякого спора, раздоры и распри одни, а с Тургеневым спорить хотелось, но не враждебно, не зло, а как-то сердечно, тепло, словно и такие споры в жизни бывают. Как знать!
От этого желанья он становился всё разговорчивей. В голосе по привычке, усвоенной со времён «Выбранных мест», поневоле проскальзывали чёрствые нотки учительства, так свойственного ему, с головой ушедшему в воспитанье себя, но эти нотки тут же становились ему неприятны, и он, недовольный собой, смягчал эти неприличные глупые тоны, но увлекался всё больше, всё чаще говорил как учитель, возвышая до сухости голос, налегая на плавное круглое «о», размеренно выговаривая каждое слово, точно катил колесо:
– Дай Бог вам добиться до вашей свободы, если она не в помеху вашей душе. А талант у вас есть, не позабывайте, однако: всякий талант – Божий дар. Бог дал – Бог и возьмёт. Без воли Бога всё-таки шагу ступить невозможно.
Щёки Тургенева вновь загорелись, глаза посинели и сделались влажными, расслабленный голос чуть приметно дрожал:
– Вы заставляете меня испытывать счастье. Хотя и неловко выслушивать похвалы, которых не заслужил, но радостно слушать, что удалось, хотя бы отчасти, выразить пером то, что желалось сказать.
От этих синих осчастливленных глаз и дрожавшего голоса он ощутил прилив вдохновенья, шагнул вперёд, не ведая, куда бы приткнуть себя, и с просветлённым лицом заговорил на любимейшую тему свою:
– Мы обнищали в нашей литературе, вам её должно обогатить! Главное, не спешите печатать. Обдумывайте, обдумайте хорошенько тысячу раз. Пусть повесть спервоначалу создастся у вас в голове, тогда лишь возьмите перо, марайте, марайте, ничем не смущаясь. Пушкин свою поэзию марал беспощадно, его рукописи едва ли кто и поймёт, так уж нам ли с вами стесняться.
Слушая с горячим вниманием, Тургенев подхватил с восхищением, с сиянием глаз:
– Его рукописи я видел у Анненкова: они вызывают благоговенье!
Он присел на диван совсем близко к Тургеневу, в увлечении рассуждая с собой, что Тургенев человек прекрасный, вот только голову себе заморочил какой-то странной идеей свободы, захваченной, должно быть, у немцев, которые хоть кого заморочат, только слушать начни, и заговорил, желая спасти его дельным советом:
– И помните: душа творца должна быть безупречной! Воспитывайте себя беспрестанно. Все мы вообще слишком привыкли к резкости, когда делаем попрёки другому, и в то же время слишком уж снисходительно попрекаем себя, если попрекаем.
Он взмахнул потеплевшей рукой, чтобы с дружеским чувством опустить её на большое колено Тургенева, да не осмелился вдруг на такой жест, который мог показаться фамильярным, развязным, провёл рукой по своим прямым волосам, обтекавшим уши плавной волной, поправил складку на галстуке и с взволнованной искренностью продолжил свою мысль:
– Я очень чувствую, что и я, говоря это вам, говорю, может быть, слишком самоуверенно, дерзко. Что делать, природа человека уж такова, она везде перельёт, всё доведёт до излишества, беспристрастие ей невозможно, и, даже защищая самую святую середину, природа человека непременно покажет своё увлеченье.
Щепкин тем временем грузно поднялся, тяжело протопал к столу на отсиженных, должно быть, ногах, поискал, куда бы девать давно загасший окурок сигарки, сунул его в начищенный Семёном подсвечник, раскрыл какую-то книгу и присел в стороне.
Проводя Щепкина взглядом, Тургенев откликнулся с дружеской теплотой:
– Да, всякий человек сам себя воспитать должен. Без этого порядочных людей не бывает. Надобно ломать себя беспрестанно. Главное же – уберечь себя от этих крайностей увлечения, сломить в себе эти излишества нашей природы. И то сказать: сам не сломишь себя – так и не страшно уже ничего. – И, взглянув на него простодушно и прямо, твёрдо прибавил: – Только, я думаю, нельзя ломать себя беспрестанно, чего доброго, сломаешь совсем.
В этом взгляде на излишества нашей природы и даже в мысли, направленной против крайностей увлечения, такой близкой ему, вновь почудилось кое-что, словно бы затаённая преднамеренность, точно бы намёк на него.
Опустив голову, задумавшись над этой мыслью в особенности, с каким-то неприятным ему напряжением разглядывая руку Тургенева, точно надеясь по этой руке прочитать, куда и с какой целью забирается молодой человек, он просидел неподвижно с минуту, однако такой искренней, такой простодушной представилась эта белая большая рука, лежавшая на добротном сукне тёмно-серых осенних, уже довольно поношенных брюк, что никакой затаённости просто быть не могло, а всё что-то холодное, неприятное, скользкое продолжало слышаться в тёплой дружеской речи, всё как будто и то, да не то, словно бы мелочь какая-то, дрянь, да выходило наоборот, словно бы что-то важное, даже опасное почуял своим цепким умом и предостерегал от чего-то, да прямо в глаза не пожелал или постеснялся сказать, однако же сломать себя он не боялся, даже напротив, ему представлялось всегда, что он слишком мало и снисходительно выламывает дурное в себе, стало быть, имелся, возможно, иной, тайный смысл, недоступный ему, и человек этот представал то коварным, то мудрым, и эта неясность суждения в особенности их разделила, а хотелось бы сблизиться крепче, расположить, настроить на свой внутренний лад и задать важнейший вопрос, давно томивший его среди одиночества.
Он вдруг возгорелся собственным пафосом:
– А главное, главное – больше задушевности и прямоты. Писать лишь о том, что продумал, прочувствовал, без этого всё, решительно всё, что написано, станет похожим на ложь, хоть бы и выхватить всякое слово из гущи действительности.
Бросив книгу на стол, Щепкин с шумом откинулся на спинку высокого стула, внимательно вслушиваясь в их разговор, видимо, заинтересовавший его.
Вздрогнув от неожиданности шлепка, произведённого этим броском, с невольным беспокойством оглянувшись на Щепкина и на книгу, крышка которой приподнялась и с лёгким стуком опустилась на место, он исподтишка успел взглянуть и на своего собеседника.
Припухлые губы Тургенева саркастически улыбнулись:
– Так и пишу-с, даю-с вам честное слово.
Он так весь и потух от неожиданной выходки. И стыдно и больно стало ему. С тоскливым чувством вины обругал он себя, что понапрасну затеял и эту ненужную встречу, и этот препустой разговор, и свой смешной в таком случае тон, и эти неуместные советы свои, как и что нужно писать.
Он бы хотел извиниться да и кончить на этом, однако какие же могли быть гут извинения? Ещё одна глупость вышла бы, пожалуй, приклеясь к другим.
Он смешался и поспешно искал, как бы выбраться из этого гадкого положения.
Слава Богу, Щепкин вновь потянул из кармана сигарочницу, и он вдруг строго спросил, решительно не понимая, с чего бы на ум взбрело такое:
– Михайло Семёныч, что за сигары у вас?
От растерянности, должно быть, или оттого, что был сердит на себя, тон вопроса вылетел какой-то стариковский, ворчливый, так что он обомлел и застыл, не зная, куда девать себя от стыда, тогда как Щепкин деликатно ответил:
– Семирублёвые, тяжелы, верно, с непривычки тебе.
Он изумлённо следил, как Щепкин неловко совал сигарочницу обратно в карман, не попадая в него, покраснев, и попросил, едва не заплакав при этом:
– Что вы, курите, курите!
Тургенев с добродушным спокойствием на лице продолжал:
– Если работа не доставляет мне удовольствия, я прекращаю её. Если повесть меня утомила, так непременно утомит и читателя. Уж лучше не портить её.
Он вздохнул с облегчением. Противоположное желание тотчас овладело им. Он не хотел уже писать стремительно, жарко. «Мёртвые души» в самом деле ужасно утомили его. Возможно, он слишком устал. Надо бы отложить тетради на время, передохнуть, чтобы приняться за труд с удовольствием, очень неглупый молодой человек, однако каким образом отдохнуть в холодной Москве? Что за веселье таскаться на бесконечные обеды и ужины, на аршинных стерлядей, на сотенную уху? Что за польза уму слышать один и тот же, на года растянувшийся спор: Европа Россию спасёт или Россия Европу, опять же, спасёт? Где рассеяться от своих томительных, иссушающих мыслей? От кого заразиться охотой труда, когда прилежания, истинной страсти к труду не слышно ни в ком?
Щепкин маялся, без цели и смысла оглядывая несвежие стены и потолок, тут и там покрытые пятнами сырости.
Он вдруг болезненно и капризно сказал:
– Да курите же, Михайло Семёныч, что это вы!
Щепкин, словно позабыв улыбнуться, настороженно поглядел на него и послушно запустил руку в карман сюртука, он же оглянулся растерянно на Тургенева, ощущая, что кругом виноват.
Помрачневший Тургенев заговорил, высоко пустив свой тонкий, как у женщины, голос:
– Да что вся наша искренность в нашем российском болоте! С любовью... э, что ж с любовью... «Бежин луг» писал я с восторгом, а из цензуры получил весь в крови: чернила, чернила, чернила! Конец изъяли совсем! И какой конец, чёрт возьми! Помчался я к цензору, объяснялся и каялся, большей частью, разумеется, каялся, а цензор мне этак любезно признался в ответ: «Вы, говорит, хотите, чтобы я не марал, да посудите-ка сами: я не вымараю и лишусь трёх тысяч в год, а вымараю – кому какая печаль? Были словечки – нету словечек, а дальше-то что? Миру от этого, уверяю вас, ничего, а мне семейство надо одеть, накормить. Бог с вами, как же мне не марать!» Вот-с... без конца и печатаю... А в конце-то вся суть-с, искренность, так сказать, вся-с.
Саркастическая улыбка всё ещё тлела в уязвлённой душе. Его подмывало спросить, что же это внутренняя свобода от собственных убеждений не помогает творцу небольшого рассказа от этих вздоров, да они оба были писатели, ведал и он это горькое чувство, которое взбухает в душе при одном виде красных чернил, зарезавших твои лучшие строки, как случилось несколько лет назад с капитаном Копейкиным, и ещё горше, грустнее стало ему.
Он попытался заговорить примирительно:
– Меня тоже не совсем пропускают в печать. Вот всего Копейкина переписывал заново. Что же делать? В общем-то, слава Богу ещё. И в цензуре, правда сказать, есть свой прок для нашего брата. Цензура, по крайней мере, приучает к терпению, развивает сноровку, учит отыскивать надлежащие слова, в котором и мысль-то своя и к которому красным-то цветом никак прикоснуться нельзя, ни с какой стороны. Ведь, таиться к чему, порой все мы пишем сплеча – вот цензура и учит нас премудрости змия.
Собственные слова его поразили, хоть не первый раз он высказывал их. Истинны были они, ни малейшего звука дурного не обнаруживал он в них, однако, выговаривая каждое слово, он вдруг угадал, что толковать о цензуре именно в эту минуту, именно с этим человеком совершенно нельзя, слова о внутренней свободе неожиданно оборотились к нему своей другой стороной, напоминая ему, что о свободе трактуют лишь там и тогда, где и когда торжествует неволя, а чем больше неволи, тем острее стесненье ранит чуткую душу поэта. Он испугался, что навек оттолкнул Тургенева своими словами о мудрости змия, глядел на него не мигая, ожидая неминуемого поношенья, расправы, так что каждое мгновенье безмолвия делало его ожиданье нестерпимым. С сокрушённым сердцем он твердил про себя, что промах его непростителен, что в конце концов молодой человек оскорбится, впрочем, и пусть, да сам-то он как же, угадав человека, не сумел соразмерить с этим знанием безотчётно вылетевших речей? Что в этот раз изменило ему? Нервы ли только? Или самая эта способность видеть этого человека насквозь? А тут ещё этот пристальный взгляд, который был неприличен и выдавал его с головой, а он никак не мог отвести от Тургенева пристальных глаз, что делал всегда, скрывая досаду, растерянность, оплошность или вину. Всё в нём до того напряглось, точно в этот миг решалась судьба. А тут ещё лицо Тургенева на мгновение сделалось льдистым, что-то как будто презрительно скользнуло в посеревших колючих глазах, а в курчавой бородке мефистофельски дрогнули губы, так что нельзя уже было не понимать, что стрела угодила в нестерпимое место, после такого рода меткой стрельбы пощады не ждут, и это он сам оттолкнул от себя человека, сам ещё одного врага из какой-то надобности нажил себе, но в тот же миг лицо Тургенева стало обыкновенным, спокойным, пропала куда-то презрительность, словно померещилась ему от испуга, лишь голос взметнулся, срываясь на первых словах:
– Я ещё могу допустить стих поэта: «Да, мы рабы, но рабы, которые негодуют вечно...»
Он хотел в гневе вскрикнуть: «Нет: я не раб! Это самая живая действительность сделала меня мудрым, как змий!» – однако Тургенев уже отвёл равнодушно глаза, точно оканчивал разговор, и он не мог не понять, что молодой философ не расслышит его, что бы он ни сказал, и заставил себя промолчать.
Тургенев тоже сидел с таким видом, словно ничего более не ждал, а ждал только случая встать и уйти, уйти навсегда, и такого рода молчанье уязвляло глубже, чем оскорбленье и брань.
Он вспыхнул, попросил, но не так безразлично и тихо, как хотелось бы ему:
– Что же вы, продолжайте, прошу вас.
Тургенев посмотрел испытующе, тень колебания прошла по лицу, однако победила деликатность или что-то ещё, и сделалось вдруг очевидно, что Тургенев продолжать не намерен, главным образом для того, чтобы не сказать лишнего и не сделать неприятности хозяину дома.
Это разволновало его совершенно. Пальцы с лихорадочной быстротой отбивали дробь на мелко дрожащем колене. Глаза умоляли ответить хоть что-нибудь. Уж лучше оскорбленья и брань, в которых всегда отыщется правда и польза, эта деликатная снисходительность ни на что не годна, а Тургенев тем временем передвинулся в самый угол дивана, закинул ногу за ногу и улыбнулся застенчивой улыбкой, точно прощенья просил за своё почтительное молчанье, однако эта улыбка, это молчанье, эта большая нога, вздёрнутая чуть не до самого носа, раздражали его, и он свистящим шёпотом внезапно сказал:
– Ваши друзья меня обвинили в отступничестве за мою последнюю книгу, я знаю. Я даже согласен, что впал в соблазн, прежде времени выпустив её. Я написал эту книгу в болезненном состоянии, я не соразмерил тогда, что уже можно сказать, а о чём говорить ещё рано, ибо для сознания истины общество пока не готово. Однако ж отступничество! Где оно? В чём? Я одно и то же думал всегда!
Он следил, как Тургенев полуприкрыл свои небольшие глаза, сцепил пальцы рук, обхватил ими большое колено, как плотно сдвинулись пухлые губы, как лицо сделалось будто суровым, худым, растерянно помолчал и вдруг вскочил, как пружина, с дивана:
– Да вот, я вам прочитаю!
И проворно выскочил в соседнюю комнату, слыша за спиной тишину, от которой, пролетев почти половину пространства, вдруг поворотился круто назад, подскочил на цыпочках к двери и приник ухом к крохотной дырочке для ключа, успев-таки расслышать щепкинский шепоток:
– Никогда таким его не видал. Всё большей частью молчит, точно сыч, а тут, подите-ка, разговорился на диво.
Затем охнули пружины дивана, и другой голос лениво сказал:
– А всё-таки гадко, точно писем к калужской губернаторше начитался.
Щепкин проговорил удивлённо:
– Женщина-то она образованная, как не поймёт!
Другой голос отрезал с брезгливостью:
– Скверная баба. Послушать её, так все эти Жуковские, Пушкины, Гоголи только о том и мечтали, как бы ей угодить либо прийти от неё в восхищенье. Понимает она только себя, то есть с собой носится, точно с писаной торбой.
Он так и отпрыгнул от двери, уже зная всё наперёд, так что и знать ничего более не было нужно ему. Медленно воротился он с томом «Арабесок» в руке, безучастно раскрыл на нужной странице и вяло выдавил из себя:
– Я тут о преподавании всеобщей истории.
Щепкин выдул облако дыма и сделал внимательное лицо. Тургенев деликатно молчал, однако не взглянул на него.
Он забубнил, нехорошо выговаривая слова, запинаясь:
– «Цель моя – образовать сердца юных слушателей той основательной опытностью, которую развёртывает история, понимаемая в её истинном величии, сделать их твёрдыми, мужественными в своих правилах, чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могли поколебать их, сделать их кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками великого государя, чтобы ни в счастии, ни в несчастий не изменили они своему долгу, своей вере, своей благородной чести и своей клятве – быть верными отечеству и государю...»
Он поглядел вопрошающе, склонив голову набок, держа раскрытую книгу перед собой.
Тургенев близоруко щурил глаза, всё ниже склоняя раньше времени седеющую голову, скрывая, может быть, изумленье, даже едва ли не стыд за него, тяжёлая прядь волнистых волос сорвалась широким крылом, рассыпалась и заслонила лицо.