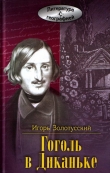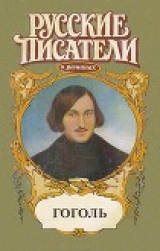
Текст книги "Совесть. Гоголь"
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Аксаков рассмеялся простодушным старческим смехом и со своей обыкновенной горячностью подхватил:
– Вот и отлично, вот и прекрасно! Я в Москве один только день, ужасно необходимо достать денег, а к вечеру непременно домой, и вы в Абрамцево, к нам, уж раз обещали. Поотдохнёте у нас, развлечётесь, в лепёшку для вас расшибёмся. Все вас в Абрамцеве любят и ждут непременно. Константин наговориться не может об вас!
Это-то и было сквернее всего, что не наговорятся и расшибутся в лепёшку, однако неловко было отказываться на столь горячий призыв, к тому же начала работы пока не предвиделось, в самом деле, можно было бы позволить себе поразвеяться после тяжкой дороги туда и назад.
Он согласился, мигом собрался, поехал.
Всё семейство шумно обрадовалось, что он вновь появился в Абрамцеве. Его затеребили вопросами. Константин так нещадно кричал от восторга, что даже у Веры Сергеевны пошла трещать голова, о его собственной голове даже нечего говорить.
Он всё же держал себя крепко в руках, полушутливо повествовал о своих дорожных происшествиях, намекнув даже на плачевные колебания, в какую сторону направить стопы.
Все изумлялись, как не расхворался он окончательно где-нибудь на грязном постоялом дворе, без ухода, в вонючей каморке, брошенный чуть не в навоз.
Дивясь, с какой прытью они схватились обсуждать именно то, чего с ним не случилось, непритворно страдая притом за него, он уверял не без оторопи, в надежде поскорей успокоить их, что, кроме поразгулявшихся без присмотра нервов, серьёзного не приключилось решительно ничего, а нервы в самом деле капризны, точь-в-точь как у беременных дам, да только подсыпал стружек в огонь.
В тот же миг с волнением самым горячим кинулись его уверять, что выглядит он нездоровым, ужас как исхудал, переменился, страшно глядеть, что при его расстроенных нервах, при его болезненном духе и что-то в этом роде ещё... громко и долго, не упомнить всего.
Он отговаривался, пытаясь даже шутить, что, мол, беременность скоро пройдёт, лишь бы сладить с «Мёртвыми душами», которые пришло самое время родить.
Его зауверяли ещё горячей, чуть не с пожаром в широко раскрытых глазах, что «Мёртвые души» совершенно готовы давно, готовы до самой последней черты, и припустились ходить за ним так, как ходят за тяжким больным, ни на минуту не оставляя в покое, так что ни одного блюда к завтраку, к обеду и к ужину, разумея его капризный желудок, не заказывалось без долгого и подробного обсуждения с ним, против ноли воскрешая в памяти изобретательства Петуха, а он, потеряв аппетит, почти не ел ничего, и становилась для него каждая трапеза истинной мукой, три раза в день, хоть криком кричи, хоть на край света беги. Ни одна прогулка не затевалась без всестороннего выяснения всех извилин его самочувствия, тогда как он жаждал одной тишины. Ни один вист, вечерами у Аксаковых обязательный, точно это служба или молитва была, не устраивался уже без того, чтобы раз десять не предложить ему участие в партии, тогда как ему было совсем не до карт. Ни одна его попытка поотсидеться молча в сторонке не обходилась без громогласного вторжения Константина, который приходил в восторг от всякой когда-нибудь им сочинённой строки, и к концу дня, переходя из рыси в галоп, непременно доходил до экстаза, тогда как он жаждал позабыть обо всём, что прежде писал.
Он с изумлением, даже с опаской поглядывал на этих вечно перебудораженных добряков, а добряки в своей взбудораженности не примечали ничего обременительного для молчаливого гостя и своей беспокойной заботой о нём не дозволяли додумать о том, ради чего он воротился в Москву, а потом заехал сюда.
К тому же дом был посторонний, чужой, и он не осмеливался прятаться в нём от хозяев, как прятался в доме Талызина, а намекнуть на ненужность и утомительность всех этих крикливых забот считал непристойным, уехать же прежде трёх дней представлялось незаслуженным оскорблением для таких гостеприимных, радушных друзей.
Он терялся среди суеты и туго соображал, что есть, о чём говорить, в какую сторону выбраться на прогулку и в каком часу отправиться спать. Его глаза были влажны почти постоянно, принуждённо звучал его изредка взлетающий смех.
Тут и решили в один голос всё, что он чрезвычайно стыдится внезапности своего возвращения, тогда как он просто-напросто не мог придумать, каким образом поделикатней выскользнуть из тесных объятий, уже слишком горячих, повязавших его по рукам и ногам.
Наконец он отбыл и эту повинность. Сергею Тимофеевичу стиснул покрепче обе руки, долго глядел на него своим внимательным, изучающим взглядом и едва слышно сказал, лишь бы избавиться от дружеских проводов чуть не до самой Москвы:
– Ну, прощаемся мы ненадолго.
В дом Талызина он явился как встрёпанный, на другое же утро с каким-то желчным остервенением встал у конторки, однако работа и тут не пошла, ускользнув от него, точно мышь от кота.
Вероятно, за время стольких дорог он изрядно отвык от пера, необходимо стало поосмотреться и воротиться не только к себе, но и в себя.
Но сидеть без работы он не умел и сделал так, чтобы брат Александры Осиповны[44]44
...брат Александры Осиповны... — Арнольди Лев Иванович (1822 – 1860) – брат (по матери) А. О. Смирновой-Россет.
[Закрыть] упросил его что-нибудь почитать.
Натурально, он согласился, хоть и не сразу, на уговоры и от этой проделки вошёл в прекрасное расположение духа, повторив несколько раз, что, мол, и ловок же он. По счастливой случайности, будучи проездом в Москве, его посетил Оболенский[45]45
Оболенский Дмитрий Александрович (1822 – 1881) – товарищ министра государственных имуществ и член Государственного совета; родственник А. П. Толстого.
[Закрыть], родственник графа Толстого, судейский чиновник, молодой ещё человек, с которым он, помнится, года два тому назад возвращался из Калуги.
Он с удовольствием пригласил и чиновника.
Оба явились, как было назначено, ровнёхонько в восемь часов, точно дожидались с брегетом в руке у ворот, и поместились против него на диване, из почтения к любимому автору несколько мешая друг другу сидеть.
Он не без торжественности извлёк на свет Божий свой старый портфель, уселся за стол, вынул тетрадь со много раз читанной первой главой, которая могла быть для молодых людей поучительной, и начал чтение голосом тихим и плавным, как и должно было представить зачин, а после зачина вдруг поднял голову, встряхнул волосами и продолжал голосом торжественным, громким, и уже беспрестанно переменял тон и оттенки в продолжение всего чтения.
Окончив же, выждав минуту и сложив тетрадь, он прямо спросил:
– Ну, скажете что?
Оболенский, получивший в судейском ведомстве привычку трактовать решительно обо всём без смущенья, на зависть владевший собой и даже имевший апломб с претензией на решимость суждений, без промедления отвечал, что всего более поражён был художественной отделкой этой главы и что ни один пейзажист не производил подобного впечатления на него:
– Меня в высшей степени поразила гармония речи. Тут видно, как вы прекрасно воспользовались местными названьями разных трав и цветов, которые, по словам Александра Петровича, с таким тщанием вносите в книжку. Иногда же, кажется, вы вставляете звучное слово единственно ради того, чтобы произвести эффект гармонического.
Что за притча, всё это он уже слышал не раз. Молодые люди, только ещё начинавшие жить, в том самом возрасте, когда с особенной силой, с тревогой, иногда и с мольбой задаются вопросы о жизни, о её таинственном смысле, о назначении человека на грешной земле, тоже увидели художественную отделку да гармонические эффекты, а более не увидели ничего, это печальное обстоятельство необходимо было учесть, и он отозвался, что рад, однако хотел бы от них услышать иное, тут же передал им в руки тетрадь и попросил почитать в тех местах, где ещё не сделал поправок, надеясь всё же кое-чем зацепить за живое хоть их. В самом деле, почитав, меняясь тетрадью друг с другом, они призадумались, брат Александры Осиповны вдруг спросил о наставнике, в которого юношей с такой страстью влюбился Тентетников:
– Что, вы знали такого Александра Петровича или это ваш идеал?
Наконец послышалось важное замечание, он сильно задумался и после длительного молчания ответил:
– Да, такого я знал.
Молодость всё же брала своё. Оболенский заметил, что наставник, в самом деле, представляется каким-то идеальным лицом, оттого, может быть, из деликатности поправился тотчас, что говорится о нём уже как о покойном и в третьем лице. Замечание показалось удивительно верным и дельным. После нового раздумья он с ним согласился вполне:
– Ваше замечание справедливо, однако же после он у меня оживёт.
В самом деле, во время чтения он ясно увидел, что в лицах его всё ещё не довольно жизни и живости, которые в искусстве романа были важнее всего.
Ранним утром он стоял уже у конторки и начал прямо с того, на чём остановился в пути:
«Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты, новые книги и журналы и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и образованью всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездействие своё прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное, минувшее время и представал вдруг, как живой, Александр Петрович... Градом лились из глаз его слёзы, и рыданья продолжались почти весь день...»
К его немалому изумленью, смысл и слово выступали в этом месте стройно и ладно, главное же, в прямом соответствии с нашей природой, способной и закиснуть ни с того ни с сего, из-за каких-нибудь вздоров, и воскреснуть, что, впрочем, продвигалось куда потрудней, к тому же оказалось брошенным и зерно возрождения, и не в чём-нибудь чрезвычайном, а вполне прозаически, в тайной зависти к преуспевшим прежним товарищам, что и приключается с нами чуть не на каждом шагу, поскольку самолюбие свойственно всем, и переправить он отыскал нужным одно лишь «образованье всемирное», на место его поставив «дело всемирное», чем именно была увлечена нынешняя молодёжь, да вычеркнул продолжительные рыданья в самом конце, показавшиеся ему неестественными в таком молодом человеке, и кинулся далее, не успев подумать о том, что и далее как на грех замешались они:
«Что значили эти рыданья? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни? Что не успел образоваться и окрепнуть начинающий в нём строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный заранее в борьбе с неудачами, не достигнул он до высокого состоянья возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что, растопившись подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь, без упругости, бессильна его воля; что слишком для него рано умер чудный необыкновенный наставник и что нет теперь никого во всём свете, кто бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаньями силы и лишённую упругости, немощную волю, кто бы крикнул живым пробуждающим голосом, крикнул душе пробуждающее слово: «вперёд», которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, знаний и промыслов русский человек...»
Многие годы размышлял он о неисповедимых тайнах искусства, задаваясь прежде вопросом о том, отчего это сплошь да рядом при взгляде на произведения даже знаменитых художников объемлет душу какое-то странное, неприятное, болезненное и томящее чувство, хотя, без сомнения, перед нами выступила живая натура? Этими тяжкими думами наделил он когда-то Черткова, стоящего перед ужасным портретом.
Наконец он постигнул эту величайшую тайну созданья! Всё в этом отрывке так и было пронизано солнцем, так и озарено свежим светом его страдавшей тем же страданьем души. Не он ли вступал в жизнь в ту именно тревожную пору, когда лишь начал в нём строиться высокий внутренний человек? Не он ли, не испытанный в постоянной борьбе с неудачами, был так ужасно далёк от высокого состоянья возвышаться и крепнуть от преград и препятствий? Не в его ли душе богатый запас великих ощущений долгие годы не принимал последней закалки? Не он ли так страстно жаждал этого пробуждающего слова «вперёд»? Всё в этом месте было вынуто из самого сердца и живьём брошено на бумагу, оттого всё вылилось чистым, возвышенным и живым и в то же время верным природе всякого человека, ещё только вступавшего в жизнь, так что, в какие времена ни прочти, в каком возрасте ни призадумайся над этими немногими строками, всё, потупив виноватую голову, скажешь: «Прав был художник! Великая истина далась ему в этих словах под перо!» И всего две-три тонкие поправки сделались в этом месте чуть не сами собой: «заранее» переменилось вдруг на «измлада», вычеркнулось залетевшее упоминание о бессилии воли, опустилось излишнее слово «поднять», слабое выражение «голосом» заменилось сильным, возбуждающим «криком», а самая прелесть приключилась в конце, когда не совсем ловкое «пробуждающее» вдруг стало «бодрящим», именно так: «...кто бы крикнул душе пробуждающим криком это бодрящее слово: «вперёд»...»
И уже он ободрился сам, точно заслышав то же животворящее слово, и уже словно сам собой двинулся его оставленный труд, и уже он едва поспевал переправлять, и вычёркивать, и вставлять, превращая прежде готовую рукопись в сплошной черновик, и уже бросался всё переписывать наново, приготовляя новую готовую рукопись, и уже крепла вера, что многолетний труд его наконец завершится на славу.
Кстати разрешилось второе издание его сочинений и приступилось тут же к печати. Кстати книгопродавцы сделали первую выплату, и он стал при деньгах. Кстати заходили вокруг него те, кто хоть и не был исключительно близок душе, зато был действительно полезен и дорог ему. Кстати зажил он особенно нелюдимо, почти отвадив прежних докучных своих посетителей, которые вечно не позволяли ему с головой погрузиться в свой испепеляющий труд.
Напротив, повсюду искал он и находил случай сблизиться с молодыми людьми, едва только заслышав в молодом человеке живое начало, с одним желанием это начало подхватить и приветить, развить хотя бы несколько словом своим и тем двинуть посильнее вперёд.
К нему забегал иногда Малиновский[46]46
Малиновский Иван Васильевич (1796 – 1873) – прапорщик, позднее капитан лейб-гвардии Финляндского полка, с 1825 г. отставной полковник, впоследствии помещик.
[Закрыть], бывший Степанов студент, близко принявший его обращение к читателям посильными сведеньями помочь ему в работе над «Мёртвыми душами», тогда же приславший большое письмо, склонный и сам к литературным занятиям, однако ж оставивший университет по неимению средств и вступивший в военную службу. Он поддерживал в этом юноше приметную страсть к наблюдению за явлениями мимо несущейся действительной жизни и останавливал в страсти трудиться, по русскому свойству, запоем, склоняя к длительным, неторопливым трудам.
У него бывал начинающий критик Григорьев[47]47
Григорьев Аполлон Александрович (1822 – 1864) – литературный критик и поэт.
[Закрыть], поражённый его мыслью о том, что русскому литератору надобно честно обращаться со словом, ещё более потрясённый теми, по его признанию, страшными духовными интересами, которые решился он выставить в своей «Переписке с друзьями», вопрошавший с болезненной страстью, имел ли он право обнажить в этой книге перед другими людьми внутреннейшие и сокровеннейшие тайны души своей, негодовавший на современную литературу за то, что для одних она превратилась либо в дойную корову, либо в развратный дом, а для других обернулась мечтательным самообольщением и умственным онанизмом, ибо, с одной стороны, горячился Григорьев, в нашей литературе утратилась вера в поэта как в пророка, в провозвестника истины, с другой же – в нашей литературе явилась вера, что если это пророк, то непременно со словами ненависти, вражды, и он с Григорьевым рассуждал о величайшем назначении поэта и о будущем русской литературы, в которой никогда не заглохнет пророческий дар и которая не может не сделаться провозвестницей истины.
У него бывал Шервуд, художник, горячий поклонник Иванова, в литературе превыше всех ценивший поэтов, восхищенный его умением возвысить до поэзии смиренную прозу, в большой композиции вознамерившийся изобразить смерть Самсона, где предстал бы зрителю пир филистимлян, жертвоприношения Молоху, разнузданность животных страстей и земных пороков, – в это-то время Самсон раздвигает колонны над ними, приняв мощную позу креста, олицетворение вечной мысли о том, что человек увлекается преходящим, пустым, забывая, что в любой миг над ним может разразиться гроза, – и он говорил молодому художнику, как трудно созидать большие картины, как в этом смысле тяжек до ужаса подвиг Иванова, заключая не однажды советом:
– Я знаю, вам хочется расписать кремлёвскую стену, погодите однако ж, смиритесь до всякой возможности, и если вам предложат расписать только блюдо, то делайте и эту работу, но так, чтобы могли себе сказать, что лучше этого сделать я не могу, и поверьте, что этим путём вы только пойдёте вперёд и послужите достойно отечеству.
Приезжал к нему Анненков[48]48
Анненков Павел Васильевич (1813 – 1887) – литературный критик и мемуарист, его «Материалы для биографии А. С. Пушкина», мемуары «Замечательное десятилетие (1838 – 1848 гг.)», «Литературные воспоминания» и другие произведения содержат большой фактический материал, в том числе о Гоголе.
[Закрыть], наконец-то собравшийся с духом, чтобы писать биографию Пушкина, при одном имени которого он тотчас переменился, оживился и просветлел. Анненков просил рекомендаций к Погодину и к Шевыреву, которые имели сношения с Пушкиным и по этой причине обладали возможностью обогатить биографа полезными сведеньями, и он с удовольствием писал рекомендательные записочки, советуя в то же время Погодину показать что-нибудь из русских древностей человеку, слишком зажившемуся в чужеземной Европе. Сам же, со своей стороны, потащил Анненкова гулять по Москве, надеясь увлечь своеобразной прелестью первой русской столицы, однако Анненков почти не глядел и почти не слушал его, занятый посторонними мыслями, выспрашивая больше о том, скоро ли публика увидит второй том «Мёртвых душ», который все ждут с нетерпением, на что отвечал он голосом многозначительным и довольным: «Вот попробуем!» – и вновь заговаривал о красотах Москвы. Анненков же в ответ принимался метать стрелы в правительство, которое усиливало репрессии против молодого поколения литераторов, жаждавших свободы отечеству, и против печати, распространяющей в молодом поколении дух свободы, на что он возражал, что правительство ещё довольно снисходительно к молодым бунтовщикам, которые проповедуют цареубийство и французскую гильотину, и что, по недостатку выдержки в русском характере, преследования печати долго продолжаться не могут, и вновь обращался к Москве. Анненков же переходил к рассказу о том, что вся провинция погрузилась в страх и в доносы на всех, спеша предупредить неизбежный донос на себя, что его хозяйственные дела пошатнулись, что брат его почти разорил и что по этой причине придётся хозяйствовать самому, он же тотчас взял с Анненкова честное слово беречь в деревне леса – наше природное достояние, источник всех наших богатств, и, махнув рукой на свои педагогические затеи заразить завзятого европеиста Москвой, принялся рассказывать ни с того ни с сего о Дамаске, о чудных горах, его окружающих, о бедуинах в старинной библейской одежде, разбойничающих под древними стенами города, а Анненков, наконец оживившись, спросил, как в тех землях люди живут, на что он с досадой заметил: «Что жизнь! Думается там не об ней!» – и тут же умолк. Лишь на возвратном пути, подойдя уже к дому, прощаясь с Павлом Васильевичем, вдруг взволнованным голосом высказал свою задушевную мысль:
– Не думайте обо мне дурного и защищайте перед своими друзьями, прошу вас: я их мнением дорожу.
Арнольди[49]49
Арнольди – см. примеч. № 44.
[Закрыть], явившись к сестре, объявил, что едет в театр, что в театре дают «Ревизора», что впервые Хлестакова станет играть Шумский. Александра Осиповна, ужасно капризная в этот приезд, отговорилась болезнью, а он загорелся, отправился с Арнольди, искусно пряча лицо от докучных зевак, неприметно проскользнул в будуар, почти не взглянул на полный театр и весь устремился на сцену.
Шумский[50]50
Шумский (настоящая фамилия – Чесноков) Сергей Васильевич (1820 – 1878) – актёр, ученик М. С. Щепкина, с 1841 г. играл в Матом театре, затем в Одессе, с 1850 г. снова в Матом театре; роли: Хлестаков («Ревизор» Гоголя), Чацкий («Горе от ума» Грибоедова), Кречинский («Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина) и др.
[Закрыть] был, точно, хорош и много лучше всех прочих актёров, которых доводилось видеть ему, передавал эту трудную роль. Наконец актёры довели пьесу до сцены, в которой Иван Александрович в самозабвении завирается перед огорошенными чиновниками, и Шумский, взяв неверный тон, вдруг сник и померк, передавая монолог слишком вяло, тихо, с неуместными к обстоятельствам остановками, тогда как автор представил в этот момент человека, который плетёт небылицы с истинным увлечением, с жаром, который не соображает и сам, каким это образом слова вылетают у него изо рта, который в ту минуту, как лжёт безоглядно, сам не знает, что лжёт, а просто повествует о том, что постоянно грезится ему в каком-то очаровательном сне, чего желал бы тотчас достигнуть без труда и хлопот, и повествует так, точно эти завиральные грёзы уже воплотились в действительность.
Не столько впав в возмущение, сколько страдая всей душой за неловкость, допущенную даровитым актёром, он всё громче шептал:
– Это живчик, он должен всё делать живо, скоро, не рассуждая, почти бессознательно, ни одной минуты не думая, что из этого выйдет, как это кончится и как его действия и слова приняты будут другими.
Многие в креслах начали его примечать, и лорнеты с живостью стали обращаться на него. Такое внимание публики ему было слишком досадно, могли бы последовать вызовы, только этого недоставало ему, и он выскользнул из ложи так ловко, что не приметил никто, одна лёгкая тень пронеслась коридором в фойе.
Однако весть о его посещении уже прокричалась в Москве. Он не подумал об этой способности старой столицы, когда пустился в театр, и надо было приготовляться к вопросам о том, как и что он нашёл и отчего убежал и непременно ещё что-нибудь, обыкновенная московская пошлость, и тотчас споткнулся на половине страницы разбежавшийся труд. Он то садился за стол и перебирал без мысли и толку раскиданные в беспорядке клочки, на которые вписывались слова и даже целые фразы для новых поправок, прежде чем внести эти поправки в тетрадь, то перечитывал любимейшие места из Евангелия, искал и находил неувядаемую мудрость веков, надеясь на то, что от этой мудрости его мысль загорится и он подвинется бодро вперёд, однако и это вернейшее средство помогаю плохо, всё, что ни открывал он, оказывалось слишком знакомо, а жаждущий ум просил новизны, и он перелистывал священную книгу в сердцах, сам на себя за это сердясь.