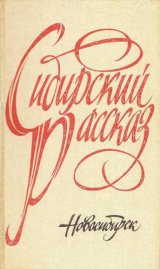
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск IV"
Автор книги: Валентин Распутин
Соавторы: Виктор Астафьев,Аскольд Якубовский,Вячеслав Сукачев,Николай Самохин,Василий Афонин,Валерий Хайрюзов,Владимир Коньков,Леонид Чикин,Николай Шипилов,Илья Картушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
– Не один, мать. Гость со мной.
– Ну проходьте. Тут Сашка, бес, каку-то железяку опять приволок, не убейтесь, сейчас свет зажгу.
Уже с прихожей в ноздри Мите ударил теплый, размягчающий дух печи, топленого молока, уюта, чистых половичков – голова закружилась, он торопливо присел на подвернувшийся табурет, прислонился к стене.
– Голодны, поди? – донеслось до него будто издалека.
– Как волки, мать, – сказал гулко Шварченков. – Только с этим погоди. Баню топила?
– А то! Да ведь повыдулось уже.
– Раскочегарим, капитально! Баня позарез нужна. Мы ведь с Митей чуть было не утопли вместе с машиной. В Кривом овраге.
– Ох ты, горе! – тревожно отозвалась женщина.
– Ага, я-то ничего, почти сухой. А он, бедолага, весь до нитки.
Женщина взглянула при свете на Митю – шарф вокруг головы, сбившийся нелепым комом, посиневшие руки, худое мальчишеское еще лицо в грязных засохших разводах около глаз, вздрагивающие в принужденной, извиняющейся улыбке полные губы, – сказала:
– Батюшки, парнишка-то замлел весь. Без шапки! Сейчас побегу, пошурую, собирайтесь пока, собирайтесь.
Она засуетилась, стала повязывать шаль, приговаривая:
– Ох горе, как бы не остыл парнишка-то… Замлел, чисто замлел… бегу!
Митя сидел сгорбленно, полузакрыв глаза. От домашнего тепла лицо его загорелось. Он уже плохо различал голоса, сидел, внутренне напрягшись, словно защищаясь от охватившего его мелкого озноба.
Дальнейшее он помнил смутно. Шварченков – в одной нательной рубашке, с полотенцем на шее – чуть не силой поднял его с табурета, обнимкой повел через темный двор.
В баньке горела электрическая лампочка и было, наверное, жарко. Мите не хватало в груди воздуху, он зевал, как рыба, но его по-прежнему трясло, и он, обливаясь потом, все оглядывался на дверь, ему казалось, что из-под двери дует.
Потом Шварченков помогал ему одеваться. Сухая одежда липла к горячему, распаренному телу, Митя морщился, вяло и покорно делал то, что ему приказывали; только тошнота, комочком шевельнувшаяся в горле, заставляла его поторопиться скорее на воздух.
Его уложили в полутемной комнате на диванчик, укрыли тяжелым. Но тут же, как показалось ему, заставили подняться и сесть, сунуло в руку стакан – таблетка не глоталась, прилипла к нёбу. Он отковырнул ее пальцем, разжевал, не чувствуя вкуса, запил, глотком воды.
Чье-то расплывчатое лицо склонилось над ним, спрашивало что-то, он молчал, стиснув зубы, потому что впереди, в промозглой темени, возник вдруг несущийся поток, высвеченный до серебристой белизны мощными фарами тягача, тащил в себя накренившуюся машину, и надо было немедленно что-то предпринимать…
Утром Анна Прокофьевна, оторвавшись от ранней предпраздничной стряпни, разбудила Петра – старшего своего сына, горожанина, приехавшего в гости на майские праздники, сказала озабоченно:
– Слышь, сын. Парнишка то остыл, видать, вчера сильно, всю ночь бормотал. Весь в жару́.
Петр сел на постели, достал из под изголовья папиросы, спросил, шурша в пачке, покашливая:
– Сколько сейчас?
– Да уж полседьмого.
– Кха… Подыми-ка Та́нюшку.
Та́нюшка вошла, застегивая на ходу короткую юбочку из рогожки. Литые блестяще-темные волосы плафончиком охватывали голову; даже сон не спутал и не растрепал их – так они были густы и упруги.
– Ой, Петя, – сказала она слегка осипшим от крепкого сна голосом, радостно. – Поди, ночью приехал, а я и не слышала, – Она опустилась коленками на постель, чмокнула брата в щеку. – Здравствуй.
– Здравствуй, здравствуй. Кха… – Петр дотронулся до ее руки, потом взял двумя пальцами, как ребенка, за тугую щеку. – Что же ты, подружка, сидишь, маме к празднику не помогаешь?
– Она мне вчера помогала, – сказала Анна Прокофьевна от двери. – А сёдни уж я сама.
– Ох, мама, несправедлива ты к своим деткам. – Петр чиркнул спичкой, прикуривая. – Со мной ты раньше как? «У, валух, середь ночи от девок заявисси, а утром не подымисси, хоть в пушку заряжай!»
Должно быть, он очень похоже передал интонацию – мать и сестренка засмеялись. Петр тоже улыбнулся, но тут же посерьезнел – и Та́нюшке:
– Тут я тебе, подружка, жениха завез (та закрутила головой, принимая братову шутку). Да вот вчера беда – в овраг курнулись, он и простыл. Плох сейчас, мама говорит. Температура. Надо за доктором, капитально. Поняла? А назад – к Дмитрию забеги, позови сюда.
– Прямо сейчас к Димке? – Та́нюшка поднялась с коленей. – Да он меня прогонит, рано ведь еще – выходной! – сказала она с легкой, удивленно-радостной улыбкой на лице. – Будто не знаешь, как он спать здоров!
– Знаю, Скажи: срочно, Петр требует. Кха… От него к доктору.
Та́нюшка убежала.
Через полчаса явился Дмитрий, или, как его все звали, Дима, в коротком распахнутом пальто, шапке, в кирзовых сапогах, высокий и худой; худоба делала его старше его двадцати семи. В руках он держал хозяйственную сумку.
– Здорово этому дому! – зашумел он еще из прихожей, разуваясь нога об ногу и бросая прямо на пол у стены пальто и шапку, – А я сплю и думаю: кто бы это позвал меня с утра здоровье поправить. А тут, как в сказке, сестрица бежит.
Вышел Петр, из туго обтягивающей майки выпирала волосатая грудь; братья коротко, сдержанно обнялись.
– Кто, значит, празднику рад… – сказал Петр.
– Ну вот, – притворно-обиженным тоном протянул Дима. – Сразу с порога и оргвыводы. Мама, – крикнул он, заглядывая на кухню и тряся сумкой. – Ух, как потрясно пахнет. Мама, сыпни мне тут картошки-моркошки. Ну и огурчиков-помидорчиков тоже. А то мой порожний к вам пробег дома не засчитается…
– Ты погоди с помидорчиками, – перебил Петр, – успеешь еще. Садись сюда, дело есть.
И Петр рассказал о молодом водителе Мите, который лежит вот тут, за стенкой, в тяжелой простуде, и о затопленном в Кривом овраге тягаче-атээсе, загруженном буровыми штангами, вытащить который нужно сейчас же, немедленно. Иначе забьет илом, засосет, лесинами покорежит, да мало ли чего: стихия она стихия и есть.
Дима слушал, и сухое скуластое лицо его обретало скорбное выражение. Все утренние воскресные радости отодвигались на фантастически долгий срок – до обеда в лучшем случае. И он не мог так просто, без сопротивления, поступиться этими своими радостями, даже если его просит гость, старший брат, инспектор ГАИ – фигура среди транспортного люда заметная.
– Это из Глушинской партии, что ли? – спросил он, морща лоб.
– Оттуда. Парень этот, я думаю, не раз и твоих лихачей из кюветов выдергивал, мне о нем многие рассказывали.
– Мы у них троса́ просили, так они: только, говорят, заимообразно.
– Ну и правы они, – сказал Петр, почесывая под лямкой. – Троса́ продавать запрещено…
– Запрещено… Много чего у нас запрещено… Черт его понес в этот овраг, такую машину ухайдакать. – Дима вскочил, прошелся по кухне. – Кто в рань такую поедет? Да и воскресенье.
– Сам сядешь за рычаги, – подсказал Петр.
– Аха! Вчерась же банный день, кажись, был… – Димка неожиданно засмеялся и снова присел на скамью, обнял брата за голые плечи. – А ну-ка дай свою инспекторскую трубочку – я в нее дуну!
– Что, со вчерашнего не выветрилось? – усмехнулся Петр, – Ладно, сяду я, тряхну стариной. Ты только за территорию выведи.
– Далеко?
– Что – далеко? – не понял Петр.
– Да тягач-утопленник.
– Где низовая дорога овраг пересекает.
– Понесло дурака! Мама, хоть пива плесни, у тебя же поставлено, я знаю.
– Нет, – сказал Петр твердо. – Вернемся, тогда все будет.
– Всего у меня никогда не будет. – Дима наклонился, отработанным жестом запустил руку в большую, стоящую под кухонным столом кастрюлю, вынул огурец, аппетитно захрустел им. – Ладно, терзайте душу, мучьте на медленном огне. Сашку-подлеца захватим?
– Обязательно, – сказал Петр поднимаясь, – сейчас разбужу, мы с ним еще и не виделись.
Весь день Митя провалялся в постели. Его то бил сухой, колючий озноб, то обносило жаром и при этом охватывала такая слабость, что ватное одеяло, которым он был укрыт, становилось каменно-тяжелым и он задыхался.
Несколько раз входила Анна Прокофьевна, потом пришла другая пожилая женщина – с уверенными движениями и громким голосом. Она трогала его твердыми ледяными пальцами, один палец сунула ему под мышку. Он удивился, с трудом повернул гудящую голову. Женщины рядом не было, но под мышкой продолжало холодить. Ага, градусник, догадался он.
Днем ему чудились мужские крепкие голоса в дому, грохотанье тракторного мотора под окнами, но потом все стихло, будто отодвинулось, и он уснул крепко, без сновидений.
Проснулся он среди ночи от острого ощущения голода. На табурете, придвинутом к дивану, стояла, светилась стеклянная банка с молоком, покрытая творожной шанежкой. Дрожа от нетерпения, он съел шанежку и выпил духом все молоко. Сон тут же снова сморил его, и он спал уже до утра, до того момента, когда что-то мягко и настойчиво толкнуло в грудь. Он открыл глаза и осмотрелся: в комнате никого не было, в листьях цветов, стоявших на подоконнике, горело солнце. Громко, празднично звучало в доме радио.
Митя быстро сел, опустил ноги на шершавый половичок. Он понял, что проснулся от толчка радости – внезапного ощущения здоровья, словно влившегося в его тело за прошедшую ночь. Теплый, щекочущий запах теста ударил в ноздри, он даже зажмурился – так захотелось ему есть, впиться зубами в печеную корочку какой-нибудь там сдобы.
Поискав глазами одежду и не найдя, Митя снова лег; несколько минут рассматривал коврик на стене: по таежной дороге мчит тройка, запряженная в сани. В санях две сгорбленные фигурки. А позади распластались тени, очень похожие на волков. Ужасно драматичный сюжет только развеселил Митю. Он заложил руки за голову, до сладкого хруста потянулся – и вдруг, точно подкинутый диванными пружинами, сел, отбросил одеяло: вспомнил в мгновение свою затопленную в овраге атээску!
Только что пережитые минуты радости еще больше ужаснули его, он выбежал из комнаты в прихожую. Здесь одежды тоже не было. Он сунулся в кухню, но на пороге замер и тихо попятился. У окна, лицом к окну, сидела девчонка с книжкой на коленях, читала.
Однако при всей своей растерянности Митя успел заметить лежавшую на скамье стопкой свою одежду – постиранную и выглаженную – и рядом на полу чистые до неузнаваемости свои сапоги.
Он метнулся назад, в комнату, окрутил себя одеялом и снова двинулся к кухне: радио заглушало предательский писк половиц. Девчонка обернулась, когда он, придерживая одной рукой одеяло, второй пытался взять под мышку стопку одежды и одновременно прихватить сапоги.
Он пробормотал что-то похожее на «здрасьте» и попятился, а девчонка, глядя на него с улыбкой удивления, спросила:
– Зачем вы встали? Вам нельзя.
– Еще чего! – грубо бросил Митя уже с порога и исчез в комнате.
Минуты через три он, громыхая сапогами, вышел в прихожую и снова столкнулся с девчонкой. Она стояла в дверях, держа у груди книжку с заложенным между страниц пальцем, ждала его.
Мите показалось неловким пройти молча, он спросил:
– А где Петр Игнатьевич?
– На митинге он, – сказала девчонка. – Все туда ушли.
– На каком митинге?
– На праздничном, А куда вы так срочно собрались?
– Черт, – сказал Митя в сердцах, – праздник же, в самом деле. Долго у вас тут митингуют?
– Когда как. Сегодня погода хорошая, может, и долго.
– А ты что же?
– Мне поручили возле больного сидеть.
– Это я, что ли, больной? Спасибо, но я здоров… Значит, трактора в поселке мне сегодня не раздобыть, – подытожил Митя и стал искать на вешалке свою шапку, но тут же вспомнил, что утопил ее в овраге.
Девчонка неожиданно засмеялась:
– Не раздобыть, конечно. А зачем вам?
Митя хотел объяснить ей, что надо вытащить из оврага тягач, но вдруг обиделся: раз она живет здесь, значит, наверняка знает все, рассказали небось, чего же смеяться.
– Ладно, – бросил он хмуро и пошел во двор.
Утро было свежее, солнечное, от сырых мостков шел пар. В голых ветвях ранета, вдоль забора, шумно, скандально возилась какая-то пернатая мелочь.
Он почувствовал головокружение, присел на ступеньку. Откуда-то издалека доносились звуки духового оркестра. Бодрые, маршевые мелодии окончательно расстроили Митю. Он изо всех сил зажмурился. Даже птичья веселая возня на ранете действовала на него угнетающе.
Он поднял глаза, и сквозь сетку еще голых, без листвы, ветвей увидел возвышающийся над забором зеленовато-округлый верх кабины и приподнятый овал люка над ней. Эта страшно знакомая деталь настолько поразила его, что он еще несколько мгновений сидел, весь оцепенев, боясь ошибиться.
Он выбежал через калитку на улицу и увидел свою атээску!
Машина стояла почти вплотную к забору, выглядела она настолько непривычно для Мити, что он в какой-то момент даже усомнился: его ли атээска?
Вид ее был до позорного жалок. Все пространство между катками и сами катки были забиты, залеплены илом, измочаленными прутьями, густой и уже слегка подсохшей грязью. Грязь липла вершковым слоем на прежде зеленых крыльях, по выступам бортов. В решетках моторных выхлопов торчала древесная щепа. Повсюду висели клочья грязной травы, соломы. Стекла кабины точно затянуты серым холстом, лишь в левом стекле поблескивал относительно чистый квадратик, протертый кем-то наспех при буксировке.
Он поднял щепочку и поскреб габаритные фонари: правые стеклышки разбиты. Однако все остальное как будто в порядке, даже фары не пострадали – спасли крепкие оградительные сетки.
Митя сел поодаль на камушек, крепко охватил руками колени, задумался. Время от времени он взглядывал на машину, картина была настолько безрадостной, что он тут же отводил глаза.
В детские Митины года жил у них кот сибирской породы, сплошной ком шерсти. Он был царственно красив. Однажды мама выкупала его, он вылез из тазика – этакое тощее, обсосанное существо, похожее на крысу, только усы на скуластой морде топорщились, как у таракана, жалко было смотреть. Сейчас стоявшая под забором машина напоминала Мите того выкупанного кота.
Звуки оркестра вскоре умолкли, по улице со стороны центра потянулись группами и в одиночку празднично одетые люди.
– Ну силен! – сказал Петр Игнатьевич, оглядывая вставшего перед ним с камушка Митю. – Вчера еще над ним медицина охала, а сегодня он как огурчик. Вот что значит молодость! – Он был в штатском костюме, пестрой кепке, сидевшей не очень ладно, гладко выбрит. На отвороте пиджака алел первомайский бант.
– Спасибо, Петр Игнатьевич, – проговорил Митя. – Если бы меня не скрутило, я бы сам…
– Это не мне спасибо, а вот им, моим братьям-разбойникам, Димке и Сашке, я только ценные указания давал. – Он кивнул на парней, свернувших с дороги к дому и подходивших к ним. Один – высокий и худощавый, в мятой шляпе, а другой – помоложе – в спортивной куртке, совсем не похожие друг на друга.
– Я рассчитаюсь, – торопливо сказал Митя.
– Ого, а ты в самом деле силен. Наличными?
– Только не сейчас, сейчас у меня нету, – пробормотал Митя насупившись, уже чувствуя в словах Петра Игнатьевича подвох.
Подошли братья, поздоровались, с откровенным интересом посмотрели на Митю.
– Слышь-ка, – сказал им Петр Игнатьевич, кивнув на машину. – Парень обещает рассчитаться наличными.
Братья рассмеялись. Дима, деловито морща лоб, спросил:
– А ноль пять, которую я нашел в тягаче и пустил на сугрев, он с меня как, высчитает?
Митя вспомнил: у него действительно была в кабине бутылка, купленная в городе к празднику.
– Ладно, мужики, – сказал он им. – Чего уж там, бросьте, я ведь хотел по уму.
В долге готовился праздничный обед. Анна Прокофьевна, Та́нюшка, жена Димы Тамара накрывали на стол – в той самой большой комнате, в которой на диванчике спал Митя. Но сейчас постель была убрана, диванчик придвинут к столу, и солнце, щедро лившееся в чисто протертые окна, искрилось в посудном стекле, дрожало золотыми пятнами по стене и по коврику с ужасно драматичным сюжетом про волков, так развеселившим. Митю сегодня утром.
Братовья, все трое, собравшись в боковой Сашиной комнатке, сразу завели технический спор – о преимуществах «Москвича» и «ВАЗа».
– «ВАЗ» – машина, конечно, толковая, – горячился Дима, – Вся комфортными цацками обвешана, плюс экономичность, плюс чего там еще? Аха! Но не для наших дорог!
– Машина не виновата, что у нас такие дороги, – сказал Петр.
– Аха! А я виноват? Скажи – виноват? Дайте мне на «Москвича» вазовский карбюратор, и я всех вас буду спокойненько делать. – Он сунул в рот сигарету, похлопал обеими руками по карманам в поисках спичек, не нашел, вынул вновь сигарету, добавил: – Причем спокойненько!
Митя сидел в сторонке, зажав между коленей сомкнутые ладони, делал вид, что с интересом слушает, а мысли его были заняты своим. Аккумуляторы посажены – ладно, не смертельно. Заведу от воздушной системы. Но в двигатель наверняка насосало воды, значит, масло придется сливать. А где тут его достанешь, мне ведь авиационное надо. В ихнем леспромхозе разве найдешь авиационное? А дерьма мне даром не надо – двигатель гробить…
– Сашка! – Дима теперь кричал, положив тяжело руку на сидящего рядом с ним на краешке кровати брата. – А ну покажи кой-кому свой тайный плод любви несчастной. Пускай кой-кто из городских поглядит и убедится: мы тоже тут не лаптем щи хлебаем!
– Да нечего там еще смотреть! – отвечал Саша, слабо уклоняясь от навязчивых братовых объятий, – Одна рама, считай, на колесах, больше ничего.
– Неправда, не ври, не завирайся, вся ходовая часть готова, двигатель.
– Ну – еще ходовая, – соглашался Саша.
– А вот ГАИ тебя все равно не зарегистрирует – голову на отруб кладу, аха! Вот она, ГАИ, сидит рядом, спроси ее в упор. – Дима тыкал согнутым пальцем в сторону Петра Игнатьевича: – Спроси, спроси, воспользуйся ее редким присутствием.
– Да ладно тебе, Димк! – слабо отбивался Саша. – Не зарегистрирует – и не надо, подумаешь, беда какая.
– Нет, вы глядите на этого чалдона – не надо! Не беда! Полгода из сараюшки не вылезает, весь наш автобазовский скрап растащил, по металлолому плана не выполняем! Денег от него мать не видит – все на запчасти ухайдакивает – и не надо! Не желаем! Мы такие! Ну жук на палочке!
– Ты погоди, не шуми, перепонки болят, – осаживал его старший, Петр Игнатьевич. – Почему не зарегистрируют? Если все будет в технических нормах…
– Аха! Нормах! Он такое замастырил, башка белобрысая, что у вас и норм-то не придумали.
– Что же именно?
– Сашка, пошли!
– Да потом, – отбивался Саша, хотя, судя по всему, ему было лестно оказанное внимание. – Пообедаем вот…
«Первое, значит, масло, – продолжал под этот галдеж свою томительную думу Митя. – Отсюда до базы партии четырнадцать кэмэ по спидометру. Выпросить бы у леспромхозовских коня да сгонять, часа за три обернуться можно. А к кому сейчас сунешься, все небось гудят, дым коромыслом…»
– Это ты верно, золотые слова: надо сперва пообедать, а то не тот аффект получится. Мама! – Дима резво встал, высунул в двери свою тоскующую физиономию. – Массы извелись в ожидании, скоро под знамена призовете?
– Вот ерихонская труба, – откликнулась из большой комнаты Анна Прокофьевна. – Ну бес, ну бес… Давайте, мужики, можно рассаживаться.
Праздничное застолье в доме Шварченковых, на которое Митя попал совершенно случайно, понравилось ему прежде всего атмосферой доброжелательности и искреннего, какого-то веселого уважения членов этой большой семьи друг к другу. Петр Игнатьевич, в светлой, без галстука, полотняной рубашке, обтянувшей его крутые, тяжелые плечи, восседал во главе, выполняя роль старейшины стола. На остроумные, необидные подначки, на незлое вышучивание чьих-то слабостей и промахов он первый откликался густым, заражающим ах-ха-ха, от которого звенело в серванте стекло. Он и сам блеснул юмором, рассказав в смешных деталях, в большинстве придуманных или преувеличенных, как они с Митей курнулись в Кривом овраге, как выскакивали через аварийный люк и как Митя впопыхах искал шапку.
Все смеялись, смеялся и Митя. Краем глаза он видел Та́нюшку, она сидела рядом со старшим братом и время от времени, когда уж было от смеха невмоготу, клонилась плафончиком головы на его крутое плечо. При этом какой-то невзрачный, угловатый камешек на серебряной цепочке (амулет, что ли?) скользил по ее открытой, нежной шее.
Пили мало, и если обращали внимание на винные бутылки, то только исключительно по инициативе Димы, не терпевшего на столе невыпитых рюмок. Его дружно осаживали, грозились совсем отнять у него рюмку, а он шутливо куражился, острил, умышленно вызывая огонь на себя, создавая вокруг своей персоны целый спектакль. И это Мите тоже нравилось, и он уже питал к дурашливому, неуправляемому колготному Диме что-то вроде родственных симпатий.
А Димина жена Тамара, молодая полнеющая женщина, сидевшая между мужем и Митей и взявшая над ним, гостем, шефство, все подкладывала ему в тарелку – то капустного салату, то холодца, то яичко с помидорной шляпкой в виде гриба, – весело приговаривала: «Мой ни черта не ест, так хоть вы, Митя, ешьте, я люблю, когда мужчины хорошо едят, я прямо влюбляюсь в них при этом». Митя бормотал «спасибо», отнекивался, клялся, что сыт, но все напрасно. У Тамары были округлые в запястьях, красивые руки с удлиненными розовыми ногтями, да и легкая молодая полнота к лицу – она, эта спокойная, шутливо-ласковая женщина, чем-то не уловимым смущала Митю.
Он не умел определять возраст людей, особенно женщин, но тут почему-то был уверен: Тамаре двадцать пять. Полукруглая цифра эта как бы сама выписывалась всем ее мягко-женственным обликом, уверенными движениями упругого, энергичного тела, висюльками скромных сережек, взглядом карих, притушенных подчерненными ресницами глаз.
Потом Петр Игнатьевич объявил антракт, и все гурьбой повалили на крыльцо. Саша исчез из-за стола еще раньше, и теперь из дощатой сараюшки в глубине двора слышался моторный треск и вился дымок выхлопов. Майское горячее солнце, после долгих дней ненастья, щедро грело насыревшую землю.
На старой клумбе греблись куры, между ними короткими перебежками, как солдат под огнем, бегал скворец, блестя пепельными боками. Над забором, за рябью ветвей ранета, возвышался зеленый овал тягача, но это видел сейчас, пожалуй, только один Митя, который стоял на крыльце позади всех, прислонившись спиной к горячей от солнца стене.
Неугомонный Дима, стараясь казаться пьянее, чем был на самом деле, стучал по стене сараюшки кулаком, ломая язык, выкрикивал:
– Сашка-подлец, публика давно в сборе, ложи блещут, видчиняй ворота, не то хуже будет.
Петр Игнатьевич, аккуратно расстелив на ступеньке носовой платок, сел, положив руки на растопыренные колени, – будто телевизионную передачу смотреть собрался. Тамара остановилась позади, обняв Та́нюшку и шепча ей что-то на ухо, как своей подружке. Обе смеялись. Митя смотрел на обеих, но видел только Тамару. Платье ее из светлой, блестящей материи плотно, вызывающе обрисовывало фигуру.
Митю как-то не очень волновала предстоящая Сашина демонстрация, он думал о том, как ему раздобыть лошадь, время еще обеденное, и он успел бы сегодня добраться до базы и к вечеру вернуться. Он уже готов был подсесть на ступеньку к Петру Игнатьевичу, завести разговор, но тут широко распахнулись двери сарайчика, и оттуда, треща двигателем без глушителя, выкатилась на колесах рама – автомобилем назвать это сооружение было бы преждевременно.
Саша, как был в светлой праздничной рубашке, восседал на тарном ящике, заменявшем водительское кресло, держась за руль. Во все стороны из-под него торчали рычаги управления, змеились трубки гидравлики, упруго пучилась проводка. Сбоку каждого из четырех широко расставленных колес стояло по цилиндру.
Рама покатилась по кругу, распугивая с клумбы кур, перепрыгивая мостки. Саша с напряженным, даже каким-то страдающим лицом вертел баранку, и всем казалось – он вот-вот выпадет.
Ничего особо удивительного в этой грохочущей раме Митя не обнаружил. Поставь кабину, крылья – и готова любительская малолитражка. Он однажды много увидел таких, попав на городской стадион, где проходил смотр автомобильных самоделок. Только вот зачем эти длинные, нелепо торчащие, как церковные свечи, цилиндры?
Дима, крича сквозь треск что-то подбадривающее, в своем тоже праздничном костюме, пиджак нараспашку, выбежал на середину двора, присел на корточки, призывно махнул:
– А ну давай на меня! Давай, не трусь, аха!
После чего Саша притормозил в дальнем углу на секунду, весь еще больше напыжился, дал газ. Конвульсивно задергались тяги, и ужасно трещащая с голенастыми колесами рама поехала, поскакала прямиком на Диму. Женщины от испуга вскрикнули, а у Мити мелькнуло: «Они что, оба пьяные?»
Осталось несколько шагов, Саша, кривя губы от напряжения, дернул какой-то рычаг. Рама вместе с ним стала плавно подыматься, скользя по цилиндрам, пропуская под собой, между колес, сидевшего на корточках Диму. После чего, не замедляя движения, снова опустилась.
Эффект этого технического маневра был самый полный.
Петр Игнатьевич завертел борцовской короткой шеей, хлопнул себя гулко по коленям от восхищения, проговорил:
– Ну Сашка, ну техник-изобретатель – удивил, стервец! Ну удивил так удивил! – Он живо обернулся к стоявшему позади Мите. – Ты видал, что они тут, мои братья-разбойники, вытворяют? Что выделывают? Видал? Меняющийся клиренс – вот как это называется! Капитально тебе говорю!
Покружившись еще немного по двору, Саша остановил свою раму перед входом в сараюшку, и они с Димкой стали копаться в двигателе, искать причину какой-то обнаружившейся неполадки.
– Куда в чистом полезли, тронутые! – кричала, не сходя с крыльца, Тамара, боясь ступить на вязкую землю тонкими каблуками своих модных туфель. – Неужто хоть в праздник нельзя без ваших железок?
Дима и Саша даже ухом не повели.
Митя вслед за Петром Игнатьевичем подошел ближе, с любопытством и шевельнувшейся вдруг завистью оглядел вблизи самоделку. Собранная из бросовых деталей, вблизи машина смотрелась еще более грубо и неказисто; точно шрамы, светились то там, то тут радужные пятна сварки. Особенно нелепы были цилиндры гидравлической подвески – главной идеи этого вездехода, – торчали, как колена, отчего машина смахивала на рассерженного, готового к драке краба.
Петр Игнатьевич обошел раза два машину, хмыкая и удивляясь, потом спросил, для чего малолитражке такая колея, и Саша стал объяснять, что сделал он это с учетом здешних дорог, по которым лесовозные тяжелые машины пробивают колею именно такой ширины.
– Понятно, – сказал Петр Игнатьевич. – Вот, Митя, нам бы с тобой позавчера этот чудо-агрегат – никакие Кривые овраги не испугали бы, а?
«Гляди-ка, чудо, – обиделся вдруг за свою атээску Митя. – Да если бы я не зевнул и если бы не три тонны на спине, мы этот овраг в любом месте – с ходу. Надел бы только защитные кожуха – и порядок. Только брызги бы полетели! А нагрузи-ка на этого краба мои тонны – мокрого места не останется. Не то чтобы…»
Подумав так, Митя вслух ничего не сказал, потому что, положа руку на сердце, было в крабе что-то притягательное. Взять эти самые цилиндры, показавшиеся Мите в первые минуты просто дурацкими. Они воспринимались таковыми, пока не продемонстрировали свою умную целесообразность. А ведь в технике так: коль целесообразно, значит, красиво…
Когда возвращались в дом, Митя остановил Петра Игнатьевича на крылечке, спросил, нельзя ли ему сегодня раздобыть в леспромхозе лошадь. И объяснил, для какой цели.
– В леспромхозе – не знаю, не уверен, что у них осталась хоть одна животина, да и с его начальством я плохо знаком, – сказал Шварченков, – а вот в лесхозе – есть тут еще и такая контора – можно попытаться. Директор лесхоза старый отцов приятель, он, я думаю, не откажет. Сейчас я ему черкну.
Он ушел в комнаты и через несколько минут вернулся, держа в руке сложенный вдвое тетрадный листок. Следом выбежала Та́нюшка, надевая на ходу ярко-желтую курточку с капюшоном.
– Держи, – сказал Шварченков, протягивая листок. – И вот Та́нюшка с тобой, я попросил. Поможет найти директора. Только бы вам его дома застать. Слышишь, Та́нюшка? – он обернулся к сестре. – Если Сергей Сергеича нет, пробегите к Демьяновым, они обычно одна компания, поняла?
– Поняла, разыщем, – Та́нюшка весело запрыгала со ступенек. Должно быть, праздничное семейное застолье уже начало ее тяготить, и она рада была братову поручению – хоть по солнышку, по теплыни по такой, пробежаться.
Они долго шли улицей, дощатым извилистым тротуаром с дырками от выпавших сучков. На просохших полянках возле палисадников и ворот было людно, но все больше малышня, подростки – галдеж, завыванье «магов», велосипедные звонки, шлепанье мяча. Старушки на лавочках жмурились на солнце. Та́нюшка здоровалась со всеми, их изучающе провожали глазами.
Вот и центр. Длинное здание школы с красной лентой лозунга под карнизом, обсаженная пихтами контора леспромхоза, почта, два магазина – хлебный и промтоварный – рядом. Митя, частенько проезжая поселок, останавливался здесь, около магазинов.
Пощелкивала сапожками Та́нюшка, в такт шагу кивал откинутый на спину меховой капюшон ее модной, вызывающе яркой курточки.
– Далеко еще? – спросил Митя.
Та́нюшка махнула рукой.
– Уже нет, пройдем школу и за теми пихтами – проулок.
«Надо бы о чем-то заговорить, – подумал Митя, – хоть она и малолетка, все равно неловко как-то в молчанку играть».
– Здесь учишься? – Митя кивнул в сторону школы, когда они поравнялись с ней.
– Ага. Вон от угла наши два окна, форточка разбита.
– Нехорошо, – сказал Митя.
– Что нехорошо? – Та́нюшка быстро взглянула на него, бровки ее прыгнули.
– Форточки бить. Мы в наше время форточек не били.
Та́нюшка засмеялась.
– А что вы делали?
Митя ответил с достоинством:
– Мы лазили аккуратно.
– И давно это фантастическое время миновало?
– Как сейчас помню, года три назад.
– О, да ты уже в возрасте, – важным голосом произнесла Та́нюшка.
Митя вдруг насторожился.
– Разумеется, – сказал он, покосившись на нее. – А тебе еще долго тут лямку тянуть?
Та́нюшка снова засмеялась, хотя Митя и на этот раз не сказал ничего смешного, быстро откинула обеими ладошками волосы с висков.
– Уже, можно сказать, оттянула. Через месяц выпускные, на аттестат.
Митя слегка смутился. Он уверен был, что она совсем девчонка, ну – не старше восьмого. Поэтому и взял с ней этот легкий, несерьезный, покровительственный тон. И имя ее с непривычным ударением на первом слоге звучало ласково, «по-детски» – Та́нюшка. Надо было срочно перестраиваться.
– Выбор жизненного пути, значит… – пробормотал он. Но тут его провожатая свернула с дороги и остановилась перед калиткой бревенчатого, под железной крышей, пятистенника. Они вошли во двор. На углу дома, под водосливной трубой, стоял телок с лысинкой на лбу. Воинственно опустив розовые, как морковинки, рожки, бодал бочку.







