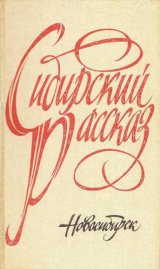
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск IV"
Автор книги: Валентин Распутин
Соавторы: Виктор Астафьев,Аскольд Якубовский,Вячеслав Сукачев,Николай Самохин,Василий Афонин,Валерий Хайрюзов,Владимир Коньков,Леонид Чикин,Николай Шипилов,Илья Картушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
– Вот это все, милый, мое богатство. Пять соток арбузов, а рядом – огурчики, дыньки. – Глаза у него блестели, и мне не нравились ни эти глаза, ни это снисходительное слово «милый». Откуда оно? Называл бы лучше по имени. Но Леня не давал мне задуматься:
– Всходы по весне были добрые. Если б не птицы. Не успеет листик проклюнуться – они тут как тут. И прямо живьем, целиком глотают. Хорошо, что Рита придумала. Теперь немного боятся… Да вот смотри… – и он показал рукой вправо. Там была воткнута палка, а на ней трепыхалась черная тряпка.
– Что это?
– Птица, милый. Госпожа птица. Живое пугало – ты усек?
Мы подошли поближе. Я взглянул на палку – и обмер. К верхнему концу палки был привязан грачонок. Он был еще живой, трепыхался. Он пробовал даже взлететь, но веревочка не отпускала. Иногда ему удавалось взлететь на целый метр, может, выше, но через секунду он уже обессиленно падал. Крылья стукались о палку, терялись перья.
– Что это, Леня?
– Ха-а, да это же пугало. Живое пугало. Я тебе говорю, жена придумала. И птица видит сверху и не садится. А что теперь делать, милый? Тут не до жалости. Иначе весь огород прикончат, все кругом поклюют…
Но я плохо слышал. Я подошел почти вплотную к грачонку и хотел к нему прикоснуться. Но рука сразу отдернулась, потому что мне показалось, что он умер, вот только что умер у меня на глазах. Я собрал всю волю и взял птенца за твердый, почти каменный клювик. Глаза открылись – разошлась тусклая пленочка. Из клюва шел еле уловимый парок – дыхание. Я подержал клювик секунду, потом выпустил. Грачонок опять трепыхнулся, посмотрел куда-то мимо меня, в глазах у него что-то напряглось желтоватое, погибающее, еще миг – и совсем погибнет, как в воду канет. Я опять подошел совсем близко к грачонку, надо мной закружились птицы. Чем ближе я подступал к грачонку – тем больше птиц. Так много – целое облако. Я вспомнил, что где-то видел уже столько же птиц. И эту пленочку на глазах – тоже видел… Ну, конечно, конечно, вспомнил. Такое же было у моей Жени, когда она сломала ключицу. Когда она почти прощалась с жизнью… И другое, другое я тоже вспомнил:
– Ты хотел бы стать птицей, Леня?
– Ты что, смеешься? Я тебе хочу про бахчи, а ты мне анекдоты…
– Ну прости, прости, я вспомнил, что ты однажды хотел стать птицей. – И в тот же миг вошла в меня та музыка. И вошла она, завладела. И сразу нежно, печально вздохнули басы, потом напряженно заныли трубы. Он что-то говорил, но я не слышал. Да и мешали птицы. Они кричали, хлопали крыльями, одна из них особенно громко кричала, подлетая почти к самой земле. Я посмотрел вперед, туда, куда хотела опуститься птица. И вдруг меня обожгло, опалило, как будто в глаза мне выплеснули какую-то молнию… Нет, десятки, тысячи молний. Там впереди, на высоком, кривеньком колышке метался в муках еще один грачонок. У него еще были силы – и под их напором колышек шатался, как пьяный. А рядом с ним, отступив метров на шесть, стоял еще колышек, а рядом – третий, четвертый. И на каждом корчилось по грачонку. Все они были еще живые, все хотели взлететь, но веревка мешала.
– Что это?! Что это?! – я закричал, поднял руки, но не услышал голоса, сам себя не услышал. В горле, наверно, что-то настыло, что-то мешало. Я вроде бы и кричал, но у меня, наверно, только вытягивались губы. И по этим открытым страшным губам хозяин понял, что мне плохо.
– Что с тобой? Успокойся! Это Рита недавно придумала. А тебе, что ли, жалко? Они все равно бы погибли. Тут три дня назад погода была, ветер – шесть баллов. Он и покидал грачат из гнезда, их много было по бору…
– Кого покидал? Кого? – смотрел я на него и не видел. Глаза у меня застилало.
– Да птиц же покидал! Да ты что, очумел у меня?.. – он взял меня за плечо, но сдернул руку.
«Птиц, птиц, птиц…» – стучало у меня в голове. Эти грачата кричали прямо в висках, трепыхались. И над головой у меня кричали, и далеко в небе, и еще выше. Выше, выше, все выше… – И это был вопль не то о смерти, не то о спасении. И я не мог вынести, Я бросился вперед – куда-то прямо по грядкам – лишь бы убежать, закрыть уши, забыться…
– Куда ты? Здесь же насажено?! – кричал за спиной, заливался Леня, а я все бежал, бежал, точно я меня могли сейчас поймать и привязать на какую-нибудь злую веревку.
…Я бежал очень долго, пока не выбрался на дорогу. И тут, возле дороги, я упал на траву и зажал виски. Лежал очень долго, может, час, а может, и больше… Потом очнулся, открыл глаза. И в этот же миг опять услышал их крики. Птицы кричали, постанывали, но уже глухо, чуть слышно. Я приподнялся на локтях. Далеко, позади, клубились в июньском мареве сосны. Я встал на ноги и пошел вперед быстрым шагом. И шел долго, но потом не вытерпел – опять оглянулся. Птицы и деревья слились теперь в одну точку. И эта точка опять напомнила птицу. Потом и эта точка растаяла, как будто птица залетела за горизонт.
Олег Пащенко
КОЛЬКА МЕДНЫЙ, ЕГО БЛАГОРОДИЕ
Брожу по улицам родного городка, нацепив черные очки, горблюсь, прихрамываю, пришаркиваю, попадаются знакомые – никто меня не узнает. Я худ, бледен, небрит и в растерянности. Белый плащ, мятый, давно не стиранный, я с утра свернул, бросил на плечо, хотя в одной сатиновой рубашке уже сильно мерзну, ветрено в сентябре, ветер как бы прикатывается на желтые улочки с дальних снеговых вершин. Утром я очистил карманы от автобусных билетиков, опилок, карандашных огрызков, табачной пыли… Оказалось у меня всего лишь двадцать рублей и семьдесят две копейки. Был долг в триста рублей, мне обещали быстро вернуть, адрес оставили, но я вот явился по адресу – должника нет и не будет, уехал насовсем в ему известном направлении. При желании я мог бы разыскать, пожалуй, бывших одноклассников: Слепцова, Желобанова, Кольку Медного, Игорька… Однако, поразмыслив, я решил дождаться ночи. В полночь подойдет поезд Харьков – Владивосток, в нем проводник тетя Галя, в нем мои вещи, и, собственно, летом это мой дом на колесах.
В дневном ресторане завтракаю, в вокзальном буфетишке обедаю, дремлю на детском сеансе в кинотеатре, а потом на аллее пустынного скверика, здесь раньше церковь стояла, я отыскиваю голубую лавочку, на ней впервые в жизни целовался, и обматываю голову плащом и одиноко сплю. В молодости я много и бурно читал, помню страницы: расстроенный герой спит, и снится ему, хорошему, что-то обнадеживающе хорошее. Я же просыпаюсь, не помня сна, с затекшими ногами и оголившейся спиной. Скорее всего, думаю, разбудили меня вороны: они словно бы переругиваются, кружа над тополями, что-то себе высматривая внизу. Нехотя закуриваю, оглядываюсь и в глубине сквера, рядом с железным решетчатым забором, вижу мужчину и женщину: они сидят друг против дружки на сухой траве и обедают. Вернее сказать, обедает женщина, а мужчина кормит ее с ложки, тарелка у них одна.
Конечно же, они стесняются посторонних глаз. Вижу, как он неспокойно озирается. Я ложусь на бок, усмехаюсь: ничего себе, парочка; и пытаюсь понять, кто они такие, смотрю на них, гадаю… Мужчина сидит, поджавши ноги по-восточному; медного отлива волосы, нестриженые, наползают на воротник рубахи, а рубаха в черную и красную клетки, черные на нем брюки, а на ногах новые бело-голубые кеды. Сидеть ему неудобно, не привык таким манером, поэтому он то встает на колени, то почти ложится, раскинув ноги, тогда лопатки как бы отделяются от узкой спины, образуя глубокую ложбину. Я было подумал: уж не Колька ли Медный?! Был у нас такой гонористый шибздик, шел обычно впереди буйной компании и заедался, а уж потом в драку вступали мускулистые дружки. Рассказывали мне, что сразу после школы он попал в Морфлот, служил на Тихом океане, там вроде и остался на рыбацком сейнере… Женщина сидит вся в черном, как ворона, черным она платком обмоталась, оставив узкую щелку для глаз, и только периодически отводит платок, принимая губами ложку, тут же и запахивается вновь. Нет, чтоб Колька стал кормить женщину?! Скорей всего, думаю я насмешливо, она монашка, а рыжий ее кормилец – штатный атеист, распропагандировал ее, лишил слепой веры, теперь вынужден собственноручно ее кормить. Мне уже не смешно, не интересно, я закрываю глаза, надеясь еще подремать, ну, хоть с часик, и это мне удается.
Вечером сижу в прокуренном вокзальном буфете, столик мой заставлен пивными кружками, весь в пенных лужицах, мухи стараются ползать посуху, но одна угодила в мокроту, я сбил ее ногтем на пол. Через черные очки все вокруг уныло, бессмысленно. Два окна выходят на перрон, дождливый, улепленный желтыми листьями, виднеются товарные вагоны, цистерны, платформы с бревнами. Ближний путь свободен, и шагает по шпалам человек в форменной фуражке, оглядывается и что-то злое и непримиримое кричит женщине, бегущей следом, худенькой, тонкошеей, чем-то, видимо, провинившейся перед ним. Герой ты, герой, думаю, ох и герой, кричишь на женщину принародно.
Я оборачиваюсь к буфету, будто меня кто-то подтолкнул, и мигом срываю очки: Колька Медный! Ну, конечно, конечно, рыжий в кедах разговаривает с буфетчицей, посмеивается и опять ко мне спиною, но я теперь вижу его в рост: это Колька, да-да!.. Едва сдерживаюсь, чтоб не заорать, не кинуться к нему. Все-таки я допускаю мысль, что могу и ошибиться, ведь не виделись с ним лет восемнадцать.
Горбясь и прихрамывая, я подхожу к буфету. Поразительно красивая буфетчица: высокая, смуглая, как бы полураздетая, она и ярка, и властна, и притягательна, и, что самое неприятное, знает себе высокую цену. Это я понял по ее беглому взгляду: замерила меня, взвесила, оценила и окатила холодом. Рыжий и не оборачивается в мою сторону. Наполнив серую матерчатую сумку булочками, пирожками и рыбными консервами, буфетчица негромко и с укором говорит:
– Держи, кормилец. И больше не ври, пожалуйста, это стыдно.
– Люся, Люся… Хочешь, Люся, я побожусь?! – Колькин голос наполняется обидой. – Да! Потом она сказала: «Кол-ля, мое благородие!»
– Господи, у нее где глаза? Ну, какое из тебя благородие!
– Люся, ты просто ревнуешь… – Колька грустно качает головой и, не оглянувшись, удаляется.
Следом и я выхожу, уязвленный, что они откровенничали, не обращая внимания, будто я и не живой человек. Под намокшей березой, пронзенной двумя электрическими проводами, стоит Колька и, как я ожидал, та самая черная женщина. Колька протягивает сумку, на весу ее держит, а женщина сердито сумку отталкивает, сама пятится. День выпал, думаю, то подглядываю, то подслушиваю…
– Не бойтесь его, гражданка, – говорю я, подойдя близко. – Не ворог, не злодей, Я учился с ним и дружил.
Колька удивленно вскидывает голову.
Обнялись, постояли обнявшись. Колька тянется рукой, сдвигает на лоб мои очки, и вглядывается, и как-то понимающе вздыхает. Женщина недоверчиво косит на меня глаза. Я сразу говорю Кольке, что здесь проездом и поезд через пять часов. Он отвечает, что не отпустит меня ни за что и вообще: надо посадить Шуру в такси, а то ей топать за край города, а там все раздрызгло, раскисло, еще чего доброго утонет, потом уже, короче говоря, посидим, поговорим…
– Никуда ты не поедешь, браток, – заключает Колька. – Кстати, познакомься: это Шура, цыганка. – Он хватает мою руку, ее руку, соединяет вместе и, довольный, сияет. – Знай, Шура была как бы в вековом плену. И, если бы не я… Браток, когда кони уснули, и цыгане их уснули, и сторожа, я выскочил из-за холма, схватил Шуру, бросил себе на спину и радостно заблажил: аля-улю!.. Тогда-то она, то есть Шура, укусила меня за ухо и упрекнула словами: не кричал бы, дурачок, а теперь нас догонят… Ну, что ты, Шура, сверкаешь глазами?!
– Неправду говоришь, Кол-ля.
– Конечно, неправду! Зато как красиво!.. Представь, браток: степь, ночь, полная луна, Шура за плечами, я бегу в кедах, оглядываюсь, а топот все громче, и я уже сквозь волнистые туманы… Ну, в общем, различаю конский оскал… Все, Шура, все, больше не буду! – Колька умоляюще складывает ладони.
Я поглядываю на Шуру: чья она, откуда, зачем? На ногах ее, как колодки, тупоносые мужские ботинки, заляпанные грязью, один шнурок коричневый, другой темно-синий. Не хочется думать, что она бедна, легче думать, что неряшлива. Если же она бедна и несчастна, размышляю я, отгоняя жалость и тревогу, тогда почему Колька дурачится, приплясывая перед ней?
В такси усаживаем ее силой, сразу же и расплачиваемся. Колька достает замусоленный блокнот, демонстративно записывает номер такси. Признаться, я ожидал, что женщина поблагодарит Кольку тихим словом или же хотя бы просто помашет ему через стекло, отъезжая – ничего подобного – тут же будто и забыла про нас, уткнулась лицом в сумку, прижимая ее к животу.
* * *
Стол, за которым я коротал время, и сух, и чист. Отогревшись, смеемся, вспоминаем школу, двор, проказы; и подходит Люся с белой скатертью, расстилает ее, потом достает расческу, и Кольку, слабо сопротивляющегося, причесывает, еще и приглаживает ладонью рыжеватый вихорок на макушке. Дважды еще она беспричинно является к столу, и я дважды оторопело вскакиваю, не сводя с нее глаз. Дикая и неодолимая сила женщины, думаю я об этой Люсе, краснея и злясь, и много же я потерпел, им сдаваясь, она сдавшихся не щадят. Всякий раз, подойдя к нам, Люся красиво склоняется в мою сторону, наполовину открывая грудь и не глядя на меня, и шепчет Кольке что-то смешное, отчего он стеснительно прихохатывает, подмигивает мне, морщит маленькое лицо. Наконец и он не выдерживает:
– Люсь, а Люсь, – и тычет в меня коротким пальцем. – Зачем дразнишь своей коррупцией, Люсь?!
Было здесь самообслуживание, но то ли рыжий числится почетным членом в буфете, то ли уж Люся решает лишний раз подчеркнуть свои достоинства, а только она самолично доставляет на кухни салат и колбасу. Колька часто-часто работает челюстями. Управившись, он вытаскивает из коробка обожженную спичку, обкусывает ее и начинает ковырять в зубах, сплевывая крошки на пол. Я поглядываю за окно, там и ветер, и дождь, и ранняя темнота от почернелого неба, стянувшего, кажется, все тучи мира над этим городком.
– Поедешь завтра, браток. Подсажу, еще дам денег на дорогу. Вчера мы получили бизнест, – важно говорит он. – Сколотили с Самсонычем уборную на четыре очка. Мне денег не жалко. Этот бизнест не имеет конца.
– Ты думаешь, я нуждаюсь?
– Я не думаю, браток. Я вижу… А послушай-ка! – Колька приподнимается на стуле, потирает руки. – Давай: кто кого переглядит? Ты помнишь?! Я перегляжу – ты остаешься, не едешь. А если ты… Нет, ты не переглядишь, у тебя слабый пульс под коленками!
– Нет уж, лучше на спичках: короткую вытяну – остаюсь.
– Х-ха, насмешил! Да на спичках я смухлюю, ты уж точно не уедешь! Я хочу с тобой благородно. Ну!
Колька приваливается узкой грудью к столу, обнажая ключицы, и как бы втыкает в меня глаза, желтые, с черными крупинками по ободкам. Я принимаю вызов, удобно облокачиваясь, подпирая голову кулаками. Помню, в пятом классе схлестнулись и едва-едва не ослепли в глупом противостоянии, тогда я моргнул первым.
– Колька, ты настырный парень, знаю, но и я теперь…
– Не продолжай, браточек. Все равно ты мелко плаваешь, при всем ко мне уважении… Эй, а скажи-ка, ты помнишь, например, кем ты был до рождения, а?.. Вот я тебя проверю на вшивость!
– Я?! О господи… Конечно, не помню! Да и был ли я!
– Был, был… И я был, – Колька смотрит испытующе. – Только это сложно объяснять простыми словами. Ну, например, так: я был пульсом и мягкой пушистой горошиной, а вокруг космическая музыка, ну, как на земле электронная, и пульсировали миллионы других горошин. То есть не горошины, а как бы похожие на них…
– Ну ты фантаст! А зачем вы все пульсировали?!
– Почему – «вы»? И ты был с нами! И мы ожидали очереди родиться на землю! – Колька хохочет, а глаза серьезные. – А для этого должны совпасть пульсы батьки и матушки!.. Х-ха! Ты понял мой смысл?! Вообще, ты не бери в голову, что я веселюсь. Я, когда говорю серьезно, кажусь тогда мелким и тупым… Весело – это красиво!
Глаза мои начинают слезиться, я креплюсь изо всех силенок.
Однажды летом, было это после пятого класса, помню, как сейчас, голопузый, в коротких штанцах, Колька достиг верхушки тополя, а это вровень с пятиэтажкой, где мы жили, и раскачивался, и потрясал кулаками, глядя в синее небо. Мы стояли внизу и завидовали, он был совсем рядом с облаками, очень похожими на куски сладкой ваты, ее тогда продавали на каждом углу. И вдруг, никогда не забуду, Колька взбрыкнул ногами и полетел, полетел вниз, словно бы скользя по зеленой горке. Я зажмурился, девчонки взвизгнули. И все перекрывал Колькин крик, дурной и протяжный, оборвавшийся неожиданной тишиной. Счастливец рыжий, он зацепился штанами за сук, далеко выдающийся от ствола, и висел как на вытянутом багре, лицом вниз, перегнувшись вдвое. До асфальта ему оставалось еще, пожалуй, метров пять. Снизу мы кричали, чтоб отстегнул ремень. Он натужно хрипел: «Угоните девчонок, натура голая, натура… Дурочки, уходите, дурочки…» И я впервые увидел: Колька заплакал. Он плакал, выползая из штанов, сверкая худенькими, как два белых голыша, ягодицами, упал, вскочил, помчался в подъезд, а штаны ему я занес, штаны мы сбили камнями. Он страдал, сунув голову под подушку. Бабушка плакала над ним. Он жил с бабушкой, родители умерли. Бабушка меня увела в кухню, заставила есть пряники, пить компот и тихонько стала рассказывать о Кольке, об отце, матери, потом проводила за дверь и шепнула, что господь таких любит, как Колька, и господь рано приберет его к себе. Помню, долго я с нетерпеливым ужасом ожидал: когда? А Колька все жил и жил.
– Вижу, ты окреп натурой. – Колька беспокоится; наверное, и он терпит изо всех силенок, чтоб не моргнуть. – Хорошо сопротивляешься, браточек!
– Жизнь, Колька, жизнь…
– Что, досталось мальчику? Гляжу, морщин уже напахал…
Осторожно, боясь до срока моргнуть, я киваю: досталось. Глаза мои, кажется, игольчато остекленели и режут веки изнутри. Я вот-вот обольюсь слезами и зажмурюсь, и это мой проигрыш. Мне хочется остаться с Колькой, не уважать, но – чтоб без проигрыша. Краем глаз вижу, что с соседних столиков на нас уставились люди, в буфете установилась недоуменная тишина. Колька вдруг расширяет зрачки, близкие, страшные, я чувствую, они меня будто втягивают всего, я будто барахтаюсь, растворяюсь в желтых глазах, в чужом мире, где проносятся тени и огонь, я горю, горю, задыхаюсь, стул из-под меня рвется, и я падаю пушинкой, переворачиваясь на спину, и нет полету ни края, ни дна.
– Браток, очухайся ты!.. – Колькин голос сверху, я лежу на полу, Колька, хлещет меня по щекам. – Браток, ты что? Слабонервный, что ли?.. Люся, хватит, мы его зальем, как мышонка…
Люся стоит, бледная, держит алюминиевый ковшик с падающей струей, подтекающей под мою спину.
– Ой, товарищ, вы его простите, ненормального. – Люся пытается ухватить мои плечи, поднять. – Сколько тебе говорить, хулиган? – Она беззлобно кричит на Кольку: – Я когда-нибудь сообщу в отделение!
– До смерти напугал, браточек, – признается Колька, усаживая меня на прежнее место, и ходит возле меня, ходит, стряхивает пыль со спины, оглаживает плечи, виноватый. – Не люблю проигрывать. А кто, скажи, любит?! Я подцепил стул за ножку, ты и грохнулся. Но ты почему не спружинил? Почему, как мешок?
– Замолчи, Колька, ладно. Я сам виноват, что задумался.
Люся облегченно вздыхает и тоже оглаживает мою спину, ласково, снисходительно, и отходит, смешливо оглядываясь. Она видела мою слабость, я сразу теряю к ней интерес. Мне стыдно: не могу понять, гипноз, что ли, у Кольки, ведь похоже, я терял сознание?
– Колька, а ты уже не первого так?.. За ножку?
– Со стула-то?.. О, ты четвертый, браток, так что не обижался. Дурак я, дурак… Кстати, будем считать все же, что я переглядел, согласен? Я пойду рассчитаюсь… – Колька все еще виновато блудит глазами. – Браток, сейчас пойдем ко мне, заберем Самсоныча, а потом двинемся… Ну, в общем, я потом объясню, и вы поймете мой глубокий смысл.
Колька возвращается от буфета с желтым ключиком в руке.
– Во! Люся мне дала на всякий случай, – объясняет Колька, собирая со стола грязную посуду. – Люся уступает нам свою квартиру, а сама будет ночевать у Маринки. Не хмурься, не хмурься… Знаешь, она не из тех. Обманчивое впечатление, браток.
Проходим мимо буфета, Люся смотрит на меня вызывающе и с легкой усмешкой, а Кольке она грубовато кричит:
– Сразу бы и шли. А?! А потом и мы придем с Маринкой!
– Люсь, ты не дразнись… У нас с братком сегодня опасное дело. Я специально его вызвал. Правда, браток? Эх, Люся, Люся, погляди на мою рожу. Я не опасен общественному питанию!
Люся теребит на шее золотистую цепочку, холодно усмехается.
* * *
Дождь прошел, сыро, холодно, на асфальте растеклись огни фонарей, с крыши опадают редкие капля. Колька застегивает верхнюю пуговицу на рубахе, она ему велика, обвисает с плеч. Стоим под березой. Колька подгребает ногой мокрые листья, голову опустил, рассказывает: жизнь не сложилась. Он работал на сейнере, потом электромонтером, диспетчером, начальником спасательной станции, учеником повара в ресторане, теперь устроился разнорабочим на стройке, а по ночам сторожит детскую музыкальную школу, в ней и ночует. Я слушаю, молчу и слегка рад, хвастаться тоже нечем.
– Понимаешь, браток, – Колька морщится. – Я везде суюсь, пробую искать правду, обличаю паскудников… Х-ха! Это сложно. Пожалуйста, обличай, если сам чист, как стеклышко. А кто без греха?! Однажды я даже женился, это было по любви. Ну, привел ее, оглядел, у меня вкус, ты ведь знаешь. И что? – Кольке хочется держать легкий тон, но я хмурюсь, и он перестраивается: – А ничего хорошего… Я любил, она не любила… На прощание сказала: ты, Колька, слабачок и нянька, ты даже на щепочку не наступишь, думаешь, ей будет больно… Сказала: переродись, Колька. Я ей: а как?
Свистит невдалеке тепловоз. Такси выходит на вираж перед стоянкой, стонет, елозя шинами по мостовой, и две темные фигуры припадают к дверцам, отворяют, запрыгивают, а уносится такси, дерзко помаргивая огоньками: а вы? А что – мы?.. Стоим, молчим, топчемся на палых листьях. Колька поднимает глаза.
– А ты у кого из наших гостил? У Слепцова, у Желобанова?..
– Никого не хочу видеть.
– А-а, понятно… Ну и зря. У них тоже ничего доброго… Эх, жизнь наша бекова, нас дерут, а нам и некого! Ну-ка, браточек, постой здесь минутку, я – сейчас. Минутку!
Колька огибает буфет, я слышу, он стучится в черную дверь. Я вздыхаю, Колька не изменился, как и в детстве, он скучать не дает. Ведь мог отобрать пуговицу, дрянь копеечную, а назавтра подарить ценный складешок; мог сговорить пацанов и накинуться на слабого, а мог и в одиночку выйти против десяти, и выходил; мог нахально врать, когда и не требовалось, а то вдруг сказать правду, за которую, знал, не поздоровится, и говорил, и ему влетало. С ним было интересно дружить, ожидая попеременно и зла, и добра.
Хлопает черная дверь, слышу тяжелое придыхание, шаги, и является из-за угла Колька в обнимку с прокопченным бачком. Крышка маленькая, провалилась внутрь. Я заглядываю: макароны по-флотски. А Колька бодро мне, объясняет, что дома его ждет-пождет голодная команда. Подходим к стоянке, Колька корячится, пыхтит. Таксисты не берут, отказывая кто как может, при этом брезгливо оглядывают рыжего с бачком, и я их не осуждаю.
– Х-ха! Не будем унижаться, браток, – обидчиво сплевывает Колька. – Завтра меня должны назначить начальником таксопарка. Ничего, ничего…
Стараясь не опачкаться, беру бачок, жалея Кольку, такое у него несчастное лицо, что, не ровен час, он заплачет. Идем, несем бачок, стесняясь выходить под фонари. Колька хитрит, чтобы подольше идти пустым, занимает мое внимание небылицами, анекдотами. Я осторожно, чтоб не спугнуть Кольку, говорю, мол, сегодня я малость поспал в скверике, меня разбудили вороны. Он переспросил: в котором часу? И, не дожидаясь ответа, стал сокрушенно рассказывать, как хоронил бабушку.
– И вот остался один в двух комнатах. На что мне столько? И потом я привык к старухе, разговаривал с ней, ухаживал. Она умерла, браток, и я сразу населил квартиру сиротами-стариками: Самсоныч, Сафроныч одноногий и Марта Гавриловна. Зимой они много спят. Летом торгуют цветами, луком. Ну, в основном бабка Марта торгует… Не сдавать же их в дом престарелых? Пускай живут, радуются своей коммуне. Ничего, они меня любят. Я их в общем склепе захороню, я обещал, есть друг знакомый на кладбище.
Возле подъезда, родного мне и забытого, я передаю бачок, оттянувший руки и плечи, и в квартиру отказываюсь заходить. Колька неодобрительно бурчит, ему подниматься, помню, на пятый этаж. Тополь высится в темноте, желтый, мокрый, и не видно: отросла ли новая верхушка? Ведь рыжий пятиклассник, оскорбленный, настрадавшийся под подушкою, тополю не простил, ночью влез с ножовкой и верхушку ему оттяпал. Ствол холодный; я обнимаю, пальцы не сходятся, ну вот, кажется, еще чуточку, еще, и сойдутся, я в нетерпении и бессилии бьюсь, бьюсь ладошками на оборотной стороне, и только шлепки и слышу, а потом слышу и смешок за спиною.
– Браток, природу не объять голыми-то руками. – Колька посмеивается, подталкивая в спину высокого человека. – Спилим, стешем и обнимем… Иди знакомиться, браточек! Это мой Самсоныч…
Самсоныч останавливается передо мной, вздергивает тяжелый подбородок, прищуривает умные и холодные глаза. Добротная, синего цвета, куртка на меху, с оловянными пуговицами, шляпа, остроносые ботинки придают старику несколько опереточный вид.
– Друзья мои! – восклицает Колька, чуть напыжившись, пригладив лацканы зеленого пиджачка. – Друзья! Не задавайте вопросов, я позже все расскажу. Я зову спасать хорошего человека. Вы поняли мой смысл?.. Самсоныч и ты, браток, могу я положиться на вас?
Я подхожу к Кольке, с чувством жму руку. Он недоверчиво косится на меня, подозревая, что я насмешничаю. Самсоныч недовольно бурчит, натягивая глубже шляпу:
– Ну, а в общих чертах? Куда идти-то?..
– Например, я женюсь, – Колька не любит вопросов. – Когда зову на легкий бизнест, ты вприпрыжку за мной…
– А жить? – Самсоныч чуть заискивает. – У невесты? Или у нас?
– У вас, у вас!.. Да на фиг вы нужны? Подслушивать? И потом, Самсоныч, ты путаешь. Ты не путай! Как это – у вас? Вы – у меня!
– Коля, Коля, не сердись, я оговорился.
Мне показалось, что старик вовсе не оговорился. Он был заметно растерян, раздражен, вроде как искал повод прицепиться к Кольке, обидеться и, обидевшись, никуда не идти.
Колька держит путь в темноте, будто по не видимому нам компасу. Идем напрямую через глухие дворы и темные пустыри, сквозь дырки в дощатых заборах, отпинываем лающих собак, подбадриваем задумчивого Самсоныча. Конечно, тащиться в мокрую ночь, не зная смысла, конца, степени опасности – удовольствие, я бы сказал, ниже среднего, а только я предчувствовал, что направляемся к черной женщине, это было любопытно. Идем так: Колька, следом я, а Самсоныч спотыкается далеко позади.
– Ух, я женюсь! – Колька толкает меня локтем в бок, кивает на Самсоныча, мол, я для него говорю: – Даю вам палец на отру́б: стану тогда говорить и размышлять красиво! И высоко! А что? Мысли, они ведь тоже от человека зависят. И от одежки зависят, от обувки. Будем откровенны, друзья, на мне кеды за шесть тридцать. И мысли иной раз приползают – с гулькин нос.
– Коля, Коля, честное слово, я устал. Скоро придем?
– Браток, – шепчет Колька на ухо, – с каким удовольствием старик поколотил бы меня. Да?.. Скоро, Самсоныч, скоро!
Выходим на окраинную улицу, пересекаем раскисший огород, минуем кочковатое футбольное поле, вязнем в мокром песке старого карьера, помню, когда-то играли мы здесь в Чапаева, и, выбравшись из песков, видим впереди нечеткие контуры деревянных домов, протянувшихся в два ряда. Темно, тихо, в некоторых окошках неяркий свет.
– Всё, пришли! – Колька подзывает Самсоныча. – Это новый поселок мелиораторов. Браток, при тебе его еще не было… Итак, слушайте и повинуйтесь! Самсоныч, помнишь, мы в конце августа получили расчет за котельную?.. Браток, мы ее белили… Ну, получили расчет, Самсоныч побежал в сберкассу, он очень аккуратный вкладчик, а я, короче говоря, пошел выпить двести граммов «Рубина», а потом купил сдобную булочку и в сквере кормил голубей… Х-ха, городские голуби, браток, знают меня в лицо!
В Колькином рассказе было много лирических отступлений. Рассказывая, он увлекался, как бы даже заводил себя: то злился, то чувствительно моргал и молчал долго, то невозможно хвастал… Колька занял лавочку в сквере, день был субботний, веселый, солнечный. Шарашились по аллее пареньки с транзисторами, смеялись девушки, скрипели детские коляски, тявкали розовые собачки на поводках у почтенных дамочек. Были пустые скамейки. Колька удивился, отчего женщина с ребенком на руках, а еще двое пацанят держались за ее подол, обошла пустые скамейки и усадила свой выводок рядом с Колькой. Возможно, решил он, дети пришли порадоваться на голубей. На женщине был черный халат, черная косынка, черные туфли. Ребятишки сидели, тихие, смотрели на голубей как-то строго и чуть даже завистливо. Общительный, мягкий, Колька стал расспрашивать о детях, о жизни и – вообще. Женщина расплакалась и плакала долго: дети не ее. Так вышло: приехал в Наманган командированный, вроде непьющий, уговорил, увез тайком в Мелекесс, с месяц жили неплохо. Он недавно схоронил жену, оставившую трех мальчишек, и, наверное, собирался стать заботливым отцом, а заместо мамки взял ее, Шуру. Она пожалела человека в беде, она даже фамилию его не спрашивала. Паспорт ее он сразу забрал, спрятал, пообещал написать ее родителям, мол, все им объясню, Шура, все будет хорошо… И стал он вдруг пить, а может, и «не вдруг», может, думала Шура, он и всегда пил, и свел родную жену; и пошло у Шуры колесом: Семилуки, Моршанск, Бугульма, потом Златоуст, Ачинск… И вот – поселок мелиораторов.
– Это судьба моя. – Колька печально оглядывает меня, Самсоныча. – Деньги к деньгам… А ко мне – недоделки. Я тогда и сказал Шуре: держись, раз уже женщинам так предписано: мучаться. А когда сильно прижмет, ты беги в музыкальную школу, спроси Кольку… А ребятишек я лично обнял и пообещал вывести их к светлому будущему. Как будто, браток, знаю туда дорогу.
…Посочувствовав женщине, Колька собрался уже в ларек за конфетами, но появился у отдаленного входа в сквер коренастый мужик с крупной головой, в красной безрукавке и брюках-галифе. Он придерживал на веревке худую козу, она мелко и сердито копытила асфальт. И Шура вскочила, и дети повскакивали, и Колька проводил их глазами, грустными и облегченными. Подумал о мужике без недавней враждебности, допустил даже, что Шура все наврала, ведь не совсем же сволочной мужик, если думает о молоке для пацанов.








