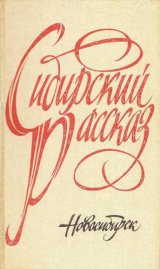
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск IV"
Автор книги: Валентин Распутин
Соавторы: Виктор Астафьев,Аскольд Якубовский,Вячеслав Сукачев,Николай Самохин,Василий Афонин,Валерий Хайрюзов,Владимир Коньков,Леонид Чикин,Николай Шипилов,Илья Картушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
ДУДА
Я сидел на берегу травянистой реки, в залуках и по тихим протокам разукрашенной белыми лилиями, улыбающимися ярким ртом новому утру и своим соседкам – тугим, на воде пупом завязанным кувшинкам.
Утренний клев давно прошел. Удочку лениво трясли ерши да мелкота, подвалившая к берегу. Солнце было уже над лесом, за пустынной заречной деревней. Река блестела и шевелилась меж шелестящими хвощами, беспрестанно махая кому-то гривкой сизых метелок.
Начало пригревать. Обсохла роса по лугам. Едва ощутимо парили пески и галечные мысы, с ночи зябко влажные. Тальники по берегам, однотонно-серые от мокроты, все явственней проступали по бровкам берегов, отделяясь свежим, зеленым цветом и от гулевой воды и от неподвижных лугов, отгорающих летним цветом. Лишь ромашки светились в логах с открытой доверчивостью да колокольцы, стыдливо склонившись к земле, тихо позванивали кому-то назревшими молоточками семян; оттесненные к лесу сивец, мята, валериана, подморенник, шалфей и всякий дудочник цвели в тени все еще свежо; меж ними синё, почти обугленно темнели могильные соцветья фиолетового чебреца.
Надвигался сенокос. Инвалид за рекой уже сделал первые, поперек угора лежащие прокосы – он всегда раньше всех начинал здесь сенокос и всегда позже всех кончал его: деревяшка у него вместо правой ноги, детей хотя и четверо, но помощники из них никакие – то шибко грамотны и по этой причине склонны к чистой, конторской работе, то еще малые или прикидывались малыми.
Я видел на склоне болотистого косогора глубоко вдавленные в болотину дыры – это инвалид метал сено, шел к стогу с навильником, резко выдергивая вязнущую деревяшку. Баба его, плоская спереду и сзаду, принимая навильники, зло их бросала под ноги и притаптывала. С вызовом кричала она мне, бредущему с корзиной по ольховой бровке сенокоса: «Посмотри, посмотри, городской человек, как нам молочко-то дешево достается!..»
А оно всегда и все в крестьянстве так вот нелегко доставалось и достается. Хлеб лишь у дармоедов легок.
Глядя в заречье, исполосованное свежими, пробными прокосами, я вроде бы так вот, с открытыми глазами, и задремал: все вокруг слыша, ощущая и вроде бы даже и видя явственно. Но это были отраженный слух, отраженное зрение и отраженные ощущения, запечатлевшие явь, существующую во мне и передо мной.
Я не умею спать на ходу, стоя и сидя, – у меня ноги подламываются во сне. На фронте от этого я сильно мучался. А вот мой товарищ-фронтовик, так тот наторел спать на ходу, он только в сторону все норовил уйти, и потому я его держал под руку, как барышню; на привале либо на остановках он давал мне за это поспать лишние минуты, выполняя за меня и мою работу.
И вот – старость ли, бренность ли так называемых минувших лет долят к земле – прикемарил я, сидя на берегу реки, и начал отдаляться от себя и от всего, что было вокруг. И совсем уж свалило бы меня сном и упал бы я с бревна, на котором сидел, но какой-то древний звук, извлеченный из древнего музыкального инструмента, не давал мне вовсе погрузиться в сон. «Что за звук? Откуда?» – угадывал я последним отблеском сознания и не мог отгадать. Звук раздражал меня. Мне хотелось отмахнуться от него и слушать тоже хотелось – звук погружал меня во что-то еще более глубокое, чем сон, такое знакомое, сердцу близкое, родное. Я силился достать памятью, постигнуть этот звук, я потянулся к нему и, шатнувшись, упал с бревна…
Какое-то время я ничего не видел и ничего понять не мог, меня слепило солнцем, отблесками быстрой воды.
Но вот я увидел, узнал, встрепенулся.
По ту сторону реки, впаяв деревяшку в прибрежный ил, стоял знакомый мне заречный инвалид и широко улыбался, открыв искуренные редкие зубы, улыбался моей озадаченности, моему недоумению. А рядом с ним мальчик в белых лаптях, в белых онучах, в рубашке с поясом – этакий юный Лель из русской складной сказки – играл на новеньком березовом рожке.
– Петрович, дуда! – кричал мне инвалид, показывая на мальчика. – Дуда! Я сам изладил! Петрович, проснись!..
Но мне не хотелось просыпаться. Проснувшись, я увижу заросшее бурьяном и кустарником поле, по-за ним пустую деревушку, которую, резвясь, пожгли отдыхавшие здесь прошлым летом пионеры. Они до этого не видели, как горит человеческое жилье. Все видели: спутник, транзистор, телевизор, даже как человек по Луне ходит – видели, но живого пожара не видели, вот и подожгли пустую избу – из любопытства. Ветром подхватило пламя и смахнуло половину пустого села. Дети-пионеры – не знали, что крестьяне в ветер даже печей не топили, боясь пожара. Да что им, нашим многоразвитым деткам, чьи-то жилища – это все им чужое. Чужого не жалко.
Мужик-инвалид давно переселился на центральную усадьбу колхоза, но покоса старого не бросал и картошки садил возле старой избы, в своей старой родимой деревне.
Не один год, не один стог сена чернел среди покоса. «Обошелся. Прошлогодними сенами обошелся. А этот стог пушшай стоит. Дожжи пойдут, сена не поставишь – сгодится».
Картошки инвалид закапывает на зиму в сосновом бору, в песочную ямку. Как-то пришел весною и предлагает картошек – пропадают, мол. И я понял: не столь уж нужда, сколь тоска по родному углу тянет его сюда, в родное село.
А заделье крестьянин всегда найдет.
Вот дуду изладил, лапти сыну сплел, мать онучки из холста отбелила, рубашечку сшила – нарядили родители парня неразумного под старину, и он, в угоду им, играет на дуде, благо пионеры в джинсах да с транзисторами еще не приехали и стесняться некого.
Это, значит, инвалид с женою прибрались во дворе, пропололи огород, потяпали картошку, пробовали косить, но трава на покосе еще не «подошла» – вот легкой работой они и наслаждаются, отдыхают в родном углу.
Звучит дуда гнусаво, придавленно, даже и не звучит, а блеет в неумелых мальчишеских руках – но все ладнее, все чище звуки ее, и сквозь захлестнутые мокром ресницы я вижу на другом берегу реки как бы разделенную веками, знакомую мне до боли страну под названием «Русь» и слышу древнюю, все еще не угасшую в моем сердце песнь моей прекрасной и далекой Родины.
Василий Афонин
МОМЕНТЫ ЖИЗНИ
Летним вечером, в легких сумерках, по одной из улиц районного села, расположенного на высоком речном берегу, шли двое. Чуть впереди шел Брусницын, мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, черноволосый, худощавый и подвижный; поправляя падающие на лоб волосы, он все поворачивался к спутнику своему, разговаривая с ним на ходу. Его товарищ, Шувалов, симпатичный, улыбчивый великан, светло-русый, даже пепельный, с как бы ленивыми речью и движениями, неспешно двигался следом, оглядываясь по сторонам. Чувствовалось, что он впервые в селе.
Они шли по деревянному тротуару, доски тротуара скрипели и прогибались под Шуваловым; возле тротуаров росли деревья, затеняя проход, улица была зеленой и тихой, состояла она, как и все село, из одноэтажных и двухэтажных старых деревянных домов, с палисадниками и огородами, и только в центре да еще кое-где виднелись кирпичные административные и жилые строения в три этажа. Небольшое село верстах в ста от областного города, с автовокзалом – сообщение с городом было автобусное.
– Как ты думаешь, он дома? – спросил Шувалов.
– Должен быть дома. Ровно в шесть я звонил на работу. Сказали, поехал домой. Может, заезжал куда по пути.
– Машина-то у него служебная?
– Служебная, понятно. И своя имеется, слышал. Ходит и пешком. За полчаса село кругом обойдешь. Вот мы, кажется, и пришли. Так откуда здесь номера начинаются?
– Какой нужен номер?
– Семнадцатый.
– Это и есть семнадцатый.
– Значит, тут. – Брусницын остановился возле калитки, проведя взглядом по окнам – не заметили ли их. Окна были зашторены. – Ничего домишко. – Брусницын толкнул калитку, входя в ограду.
– Домик хоть куда. Терем-теремок. Неужто один занимает?
– Нет, на два хозяина. На каком же он этаже, интересно знать?
Кирпичный дом был двухэтажным, хорошей планировки, просторная ограда обнесена крашеным штакетником. За оградой гараж, сарайчик, баня. Дальше – до порядка домов следующей улицы – огород. Соседние дома, и справа, и слева, саженях в тридцати каждый: вольная усадьба, как в деревнях, – никто не мешает.
– Мальчик, – спросил Брусницын появившегося на улице паренька, – скажи нам, Семен Захарович на каком этаже проживает?
– На втором.
– Что ты собираешься делать? – Шувалов смотрел на приятеля.
– Не знаю. Встанешь у дверец, как войдем.
– Ты не сорвись, а то прогоришь снова.
– Не сорвусь. Его давно надобно раздавить, как гниду. Я хочу провести над ним гражданский суд в присутствии его домашних. Сломать над его головой шпагу. И уйти. Не драться же с ним, на самом деле. Пошли, не робей. Наше дело правое.
– Ну-ну, давай попробуем, – усмехнулся Шувалов.
Поднялись на второй этаж. Шедший впереди Брусницын позвонил, нажав несколько раз кнопку звонка, и отступил немного от двери, как бы пропуская кого-то.
Дверь открыла молодая женщина с ребенком на руках. Поздоровавшись кивком, Брусницын быстро шагнул через порожек, спрашивая, дома ли хозяин. «Дочь младшая», – вспомнил он, глядя на женщину с ребенком.
В это время на голоса из глубины квартиры вышел хозяин – невысокий согнутый человек с широковатым, слегка рябым лицом. Сивые волосы коротко стрижены под машинку. Одет в теплый длиннополый халат, на ногах цветные матерчатые тапочки. Увидев Брусницына, хозяин выпрямился, заметно меняясь в лице. Остановился, сипловато кашлянул. Руки его были опущены в карманы халата.
– Сердюков, – заложив руки за спину, Брусницын в упор смотрел на хозяина, – здравствуй! Здравствуй милый! Как поживаешь?! Не ожидал? Ну, приглашай гостей! Приветы тебе передавали мои? Передавали, вижу. Настало время расквитаться, Семен Захарыч, а?! Да не оглядывайся, не убежишь. Просьба у нас к тебе: к телефону не подходить и в окна не прыгать. Низко, разбиться не разобьешься, только покалечишь себя. А зачем тебе инвалидность, так ведь? Не бойся, бить тебя не будем, хотя следовало бы. Причем публично бить. Снять штаны – и хворостиной, и хворостиной! Но мы поговорим с тобой, Семен Захарыч, как старые приятели. Поговорим – и разойдемся. Зови в комнаты. Зови, зови, не стесняйся. Где у тебя зала? Эта, что ли? Поглядим.
Отстранив онемевшего хозяина, Брусницын прошел по коридору в конец прихожей, развернулся, шагнул к Сердюкову. Хозяин угрюмо наблюдал за Брусницыным, мигая. Шувалов стоял возле двери.
– Я смотрю, ты совсем неплохо устроился, Семен Захарович. – Брусницын, улыбаясь, покачивался с носка на пятку. – Это сколько же у тебя комнат? Четыре! О, кухня какая – выложена кафелем! Значит, четыре комнаты, кухня, коридор-прихожая, раздельные ванная и туалет, платяные шкафы, кладовка. Просто замечательно. А помнишь, на Шегарке у тебя была избенка по-над речкой? Крыта земляным пластом, два оконца. Это уж потом ты построил себе избу, когда управляющим стал. А то жил с матерью в избенке, где печь занимала половину места. А сейчас! Вот хорошо быть начальством: своя рука владыка. Захотел, построил себе домок-теремок. Здорово, правда! Мать-то жива? Прекрасная у тебя мать, ничего не скажешь. А вот сыночек у нее… Где она теперь? С тобой живет? Здравствуйте, Анна Гавриловна, – поклонился он трясущейся, сгорбленной старухе, открывшей двери одной из четырех комнат. – Вы меня не узнаете? Я Брусницын, сын Елены Брусницыной, Мы жили на Шегарке в Косарях. Вы с матерью моей вместе работали – на ферме, в полях. Помните? Я к вам часто приходил, вы должны бы помнить меня…
Старуха, вцепившись в косяк неразгибающимися пальцами, подняла на Брусницына потухшие глаза и тут же уронила голову, ничего не произнося в ответ на слова земляка своего давнего.
– Анна Гавриловна, хорошо, что вы оказались дома. Вы нужны для разговора. Пройдите, пожалуйста, вот в эту комнату. Давайте, я помогу вам. Осторожнее, Анна Гавриловна! Осторожнее!..
Он взял старуху под руки, помог ей переступить порог и провел в самую большую комнату, где на неразложенном диване, отдыхая, полулежала на подушках жена Семена Захаровича, Софья Алексеевна, чутко прислушиваясь к разговору.
Брусницын молча едва кивнул ей, усаживая в мягкое кресло старуху. Потом он пригласил Сердюкова, указав ему место, – тот послушно сел.
– И вы заходите, молодой человек, – попросил он зятя Сердюковых, тонкого, длинноволосого, с жидкими темными усиками, с некоторым высокомерием смотрящего на Брусницына. – И жена ваша пускай заходит. Заходите, не стесняйтесь. Любой, кажется, зовут вас. Не ошибся я? Вот сюда садитесь, чтобы удобнее было.
Усадив Сердюковых, сам он прошел к дальней стене, сел спиной к окну, так, чтоб все было перед глазами.
Шувалов от коридорной двери перешел к двери комнатной, взял стул, сел на него верхом, лицом к Брусницыну, сложил руки на высокой спинке, опустив на них подбородок. Он не произнес ни слова. Лицо его оставалось невозмутимым, но по глазам было заметно, что все это Шувалова интересует очень и он ожидает развязки.
Сев, Брусницын какое-то время молчал, внимательно вглядываясь поочередно в лицо каждого. И те молчали. Они находились как бы в состоянии оцепенения. С той минуты, как появился Брусницын, никто из Сердюковых не раскрыл рта. Да и что сказать? Что-то произнести мог лишь сам Семен Захарович, но он был заметно ошарашен приходом Брусницына и теперь, напрягаясь, соображал, зачем тот явился, что ему нужно, о чем будет речь, как следует держаться самому Семену Захаровичу. Но решения пока никакого не нашел и сидел, сжавшись, окаменев рябоватым лицом, ожидая, что же произойдет дальше, чтобы сориентироваться по ходу и если не выиграть, то хотя бы не сдаться. Никто не предупредил его о приезде Брусницына…
Так они сидели, Сердюковы, глядя с недоумением на Брусницына, а он переводил взгляд с одного на другого. Дочь хозяина, тихоня, сидела выпрямившись, сложив руки на коленях, оставив ребенка в детской, не понимая, зачем она должна быть здесь. Муж ее, откинув голову к стене, сохранял на лице все то же высокомерие. Голова старухи тряслась, она поддерживала ее, подставляя под подбородок руку, но и рука слушалась плохо. Софья Алексеевна приподнялась едва, свесив ноги в узорчатых комнатных туфлях, подложив удобнее под правый бок подушку. Глаза хозяйки были полузакрыты, Софья Алексеевна делала вид, что ей нездоровится: она прикладывала ладонь ко лбу, щекам…
Она была, видимо, лет этак на шесть-восемь моложе мужа своего и намного старше Брусницына. Брусницын помнил ее деревенской девкой, Сонькой Мымзиной, телятницей, дояркой, голенастой и говорливой, прибегавшей с подругами летними вечерами под тополя к конторе на звуки гармошки. Давно, когда они жили еще в Косарях. Теперь это была Софья Алексеевна, дебелая – иначе не скажешь – дама, прошедшая через годы с Семеном Захаровичем от плохонькой избенки под земляной крышей в далекой деревеньке Косари, что на Шегарке, до кирпичного особняка в районном селе. Взглянув на ее надутое, в некоторой надменности лицо, Брусницын понял, что уже никакие силы не заставят их отказаться от завоеванного и повернуть к прежней жизни. От четырехкомнатной квартиры на втором этаже кирпичного дома в районном селе, паласов на полах, ковров на стенах, полированного мебельного гарнитура, сделанного за границей, тяжелых штор на окнах, телефона, машины и прочих удобств, о которых они, быть может, и не мечтали раньше. Никакие силы не заставят отказаться. Это Брусницын прекрасно понимал.
Софья Алексеевна исподлобья смотрела на мужа, ожидая его действий. Семен Захарович уже оправился. Он стушевался слегка лишь в первые минуты появления Брусницына, он струсил даже, не признавшись себе в этом, но увидев, что гость ведет себя спокойно, приглашая к разговору, сам успокоился, насколько мог, и решил начать первым, не дожидаясь, что скажет Брусницын.
На своем веку Семен Захарович повидал многое, не раз ходил по самому краю, кренясь в пропасть, но всегда выправлялся, сил хватало. Сейчас надо было наступать, взять горлом, сбить противника. Не будут же они, о чем Сердюков боялся и подумать, затевать скандал с кулаками в его доме, на глазах семьи, Нет, Брусницына таковым Сердюков не знавал. Приехал, значит, выяснять что-то. Издалека приехал. По поводу ухода-увольнения своего. Того увольнения. Не иначе. Ну, что ж…
До Сердюкова доходили слухи, что должен появиться Брусницын, что он переписывается со Стрешневым. Стрешнев, конечно же, писал ему обо всем и о Сердюкове. Приехал. Пожалуйста, выясняй.
– Ты зачем явился? – глухо, пугая голосом, спросил Сердюков, подымая на Брусницына суженные глаза свои, чтоб сломать взгляд встречный. – Что за представление устраиваешь ты в моем доме? Собрал. Усадил. Посмеяться надумал, так ничего у тебя не получится. Стражу выставил. Это хулиганство, слышишь?! Издевательство над людьми! Ты будешь отвечать за это! Да, отвечать! Как миленький! Ты еще не знаешь Сердюкова! Ты узнаешь его!..
– Успокойся, Семен Захарыч. – Брусницын говорил тихо, лицо его в это время не было злым или обиженным, оно было печальным, скорбным даже. – Успокойся. Никто не намерен издеваться над вами. И хулиганом я никогда не был, ты знаешь об этом. Что касается ответа, уважаемый Семен Захарович, то каждый из нас, рано или поздно, ответит за свое. И я в том числе. Но в первую очередь должен ответить ты, Сердюков. И сейчас ты ответишь передо мною. На мои вопросы прежде всего. На некоторые хотя бы. Я стану спрашивать, а ты отвечать, Отвечать без вранья, без путания, без уверток. Прошу меня извинить, – Брусницын обращался к семье хозяина, – я редко захожу к вам и сегодня пробуду недолго. Не более часа. Я хочу, чтобы вы прослушали наш с Семеном Захарычем разговор. Ничего другого от вас не требуется. Для чего, спросите вы? Я намерен раскрыть перед вами истинную душу этого человека, который является вам сыном, отцом, мужем. Вы уважаете его и любите. Он достоин вашей любви, вашего уважения – как же иначе. Благодаря ему вы ходите не по земле и грязи, а по тротуару и асфальту, катаетесь на машине, живете в этом доме, а не в деревянной избе, как вы жили раньше. Вот о чем разговор. Я хочу рассказать вам биографию этого человека, его жизнь, начиная с той самой избенки с провалившейся крышей, что когда-то стояла на берегу Шегарки, в Косарях. Все это вы и без меня знаете, но кое-что я добавлю, быть может, неизвестное вам. Вы любите его. Любите, это дело личное – он вам родной. Но его ненавидят во всех местах, где он жил, через которые он проходил, где он хотя бы останавливался. Долог и труден был путь, проделанный им от родной деревни Косари до районного села. Послушайте, пожалуйста, я вам его подробно расскажу…
– Что ты несешь?! – поморщился Сердюков. – Перестань, довольно! Перестань, говорю тебе, а не то… Давай вон лучше перейден на кухню, сядем за стол… Нашел о чем вспоминать… Перестань, а не то я… Ты что, не мог мне одному все это сказать, а?..
– Ничего ты не сделаешь, Семен Захарович, не стращай. Мы не позволим. И за стол я с тобой садиться не стану. Отошли те времена, когда мы сиживали за одним столом. Канули в бездну и никогда не возвратятся. Ты лучше скажи, – Брусницын полез в задний карман брюк, – скажи-ка, уважаемый, кто писал вот это письмецо? Не тянись, не получишь. Смотри издали. Узнаешь? Ведь это ты сочинил, а, Семен Захарыч? Ты или не ты, сознавайся!..
– Ну я. Ну и что? – медленно выговорил Сердюков. – А что дальше?
– А то, что это анонимка на меня. Гнуснейший донос, прямо говорю! Вот, – Брусницын поднял письмо, – посмотрите. Узнаете почерк? Почерк Семена Захаровича. В этом письме он оклеветал меня, когда мы работали в Боярском совхозе. Я главным агрономом, Семен Захарович – заместителем директора. Старый директор уходил на пенсию, я должен был занять его место, но место занял Сердюков. А мне пришлось уехать из Боярского. Семен Захарович помог уехать. По старой дружбе, так сказать. Я и уехал…
– Это ложь! – Сердюков приподнялся с кресла, сжимая влажными ладонями подлокотники, но Шувалов дотронулся слегка до плеча его пальцами вытянутой руки, и Сердюков, оглянувшись на Шувалова, о котором, наверное, забыл, опустился на место. – Ложь! Ты сфабриковал письмо! Подделал! Подделка это, вот что. А то я не знаю подобных историй с письмами! Знаю!..
– Но почерк-то твои, Сердюков. От почерка, надеюсь, ты не откажешься? Хочешь, на экспертизу передадим? Не хочешь? Отчего же это? Как же это ты не предусмотрел? Такой ловкий, а тут… Надо было на машинке отпечатать или хотя бы левой рукой…
– Ну и что, что письмо! Ну и что! Мое письмо, да! Но обычное!
– Зачитать, Семен Захарыч? – спросил Брусницын. – Не надо? Ну, не надо и не надо. Тем лучше для тебя – так ведь?!
Сложив пополам конверт. Брусницын засунул его обратно в задний карман брюк. Сев поудобнее, сцепив руки на колене правой ноги. Начал.
– Письмо это мне отдал Стрешнев. Стрешнев рекомендовал меня на должность директора совхоза. Помнишь, Сердюков, он звонил тебе, пытаясь выяснить, что же происходит в конторе нашей. Он ничего не мог выяснить, потому что обратился к тебе, автору письма, не зная, конечно же, что ты написал его. Ты сказал тогда Стрешневу, что Брусницыну лучше всего уйти заблаговременно. Тихонько уйти. А не то, дескать, случится скандал, многие недовольны Брусницыным и все такое. Вот что ты сказал тогда. Один Стрешнев мне сочувствовал из тех, кто должен был разбираться в создавшейся ситуации. Но Сердюков не хочет, чтобы приезжали и разбирались. Ты хотел, чтоб я незаметно ушел. Без шума. И я сделал это, ушел. Мне все это было глубоко противно, Семен Захарыч. Но я не думал тогда на тебя. Нет, не думал. Я знал, что ты способен на подлость в любой час, видел твои юлящие глаза, но все же подозревал других. Стрешневу совсем недавно передал дела Макеев, твой высокий покровитель. Его перевели в другой район, с ощутимым понижением, ты все это прекрасно знаешь и без меня. Но он оскорбился, он не захотел работать там и уехал. Среди старых бумаг в столе оказалось и твое письмо, Сердюков. Видимо, Макеев в спешке не успел захватить или уничтожить его. Стрешнев разыскал меня, дал прочесть. Но ты не бойся: дело давнее, в прокуратуру передавать письмо я не собираюсь. Живи, радуйся, ежели ты еще способен чему-то радоваться на земле. Дам тебе возможность доработать до пенсии, хотя бы из уважения к твоей матери, которая была подругой моей матери, и они года работали бок о бок так, как могут работать только быки. Я тебя не трону, помня нашу жизнь на Шегарке. Да и не в моих это привычках – мстить. Лучше сознайся, Семен Захарыч, с какой целью ты все это делал – писал?..
– Сознаюсь – не побоюсь.
Сердюков опять почувствовал, какой у него тяжелейший взгляд и как он, Сердюков, ненавидит его, Брусницына. У Сердюкова был удивительный лоб: выдаваясь вперед, он нависал над лицом и из-подо лба этого прямо и твердо смотрели на человека светлые, в белесых ресницах глаза.
Когда по кабинетам Сердюков упирал в посетителей холодный взгляд свой, многие не выдерживали. Вот и сейчас давил он взглядом Брусницына, пригибая. А речь была медленная, даже в ярости. Голос густой, сипловатый. Брусинцыну доводилось видеть Сердюкова в гневе: он ничуть не менялся лицом и голосом, держал себя, только потел. Пот выступал у него вначале меж белесых бровей, следом на щеках и шее. Нужно было хорошо знать Сердюкова Семена Захаровича, чтобы понимать, в каком состоянии он находится. Но Брусницын знал его давно…
– Не побоюсь, потому что писал правду, – сипел, прокашливаясь, Сердюков. – Я и не скрывал никогда, что писал. Иначе бы, как ты заметил, подписался бы левой рукой, да. Но я подписался правой. Ты всего два года проработал в совхозе и за это время окончательно развалил хозяйство. Когда пошли разговоры, что тебе быть директором, я не мог оставаться спокойным. Я возмутился. Если бы Боярский совхоз передали в твои руки, он бы погиб. Поэтому я поставил в известность кого следует. И правильно сделал, ничуть не жалею по сей день. Да, я написал!..
– Ты лжешь, Сердюков, – заметил Брусницын. – А ну, посмотри в мои глаза. Смотри, смотри, чего же ты?! Ты лжешь перед лицом матери своей, жены своей, детей. Жена твоя, кстати, знала о настоящем положении дел в совхозе и не даст соврать. Когда я пришел главным агрономом, совхоз уже был развален до предела. А ты сидел там заместителем директора, выжидая место, выжидая, когда директор пойдет на пенсию. Его спасла пенсия. Его надобно было судить, а тебя вместе с ним. Я делал все, что было в моих силах: распахали заброшенные поля, увеличили вывоз удобрений, повысили сортность семян. Ты не можешь отрицать этого, Сердюков. Ты почувствовал соперника во мне и стал рыть подо мною яму. Ты вырыл эту яму, Сердюков, спихнул меня туда, а сам стал директором совхоза. Но ты год всего проработал в нем. Почему же ты не вывел хозяйство в передовые, а? Почему? Нет, через год, с помощью того же Макеева, ты перебрался в более крепкое хозяйство, поближе к районному селу. Ты достиг этой цели, Семен Захарович, достиг, но какой ценой! Сейчас мы проследим весь твой путь, чтобы узнать цену… Начнем с Косарей, деревни на Шегарке, где мы с тобой родились, Сердюков. Ты старше меня на целых семнадцать лет, но когда я подрос, мы стали дружить, как дружили наши матери, как дружили раньше отцы, погибшие на фронте. Семнадцать лет разницы – это много, правда? Но мы с тобой не виноваты в этом. Вы жили на правом берегу Шегарки, мы на левом. У нас была изба чуточку получше вашей – в ту пору все избы в деревне были почти одинаковы, за редким исключением. Так и наши избы. Когда я родился, тебе было уже семнадцать, ты был парнем: курил вовсю, выпивал, пробовал ухаживать за девками и работал в колхозе наравне с мужиками. Я это знаю из твоих рассказов, из рассказов матери и деревенских. Учение ограничилось всего лишь Косаринской начальной школой – твоему поколению было не до учебы. В армию тебя не взяли по болезни. Когда я окончил начальную школу, ты уже был бригадиром – первая должность в твоей жизни, первая ступень. Ты не мог долго оставаться простым колхозником – косить траву, ездить на быках в лес, в поля, ухаживать за овцами, скажем. Не мог, потому что в тебе от природы сидел руководитель, это было рано замечено. Ты руководил сверстниками в игре, распоряжался бабами на сенокосе, а был всего лишь обыкновенным метчиком стогов. И ты стал бригадиром – иначе и не могло быть, А когда я окончил семилетку, ты уже был управляющим фермой: колхоз к тому времени преобразовался в совхоз. Ты построил просторную лубу на месте старой, ты разъезжал в удобной плетеной кошеве, поставленной на легкий ходок. В кошеве постоянно лежала малопулька, ты по пути постреливал дичь. Лошадь была закреплена за тобой. Разговаривал ты с людьми, как и подобает руководителю. Тебя величали по имени-отчеству. И я тебя тогда же стал называть Семеном Захаровичем. Один раз я назвал тебя просто по имени, но ты меня тут же поправил, сказав, что возраст твой уже не тот, чтоб быть Семеном. Я не возражал – пожалуйста, как угодно… По бедности я не мог учиться дальше, как в свое время не мог учиться ты, и пошел к тебе пастухом. Летом пас коров, зимой был скотником, ухаживая за теми же коровами, поставленными в стойла. Тогда-то вот и возникли между нами товарищеские отношения: мне шел пятнадцатый год, тебе – тридцать второй. Так мы и жили: я работал пастухом-скотником, ты распоряжался мною. По праздникам мы бывали друг у друга в гостях. Управляющий фермой – хорошая должность. Да если еще в своей деревне, да с людьми, которых ты знаешь с рождения своего. Управляющим можно проработать и год, и два, и тридцать два. Но ты не собирался долго оставаться в родной деревне, ты уже готовил себя к должности более высокой, готовился к переезду на центральную усадьбу совхоза, но пока сдерживал желания. А сдерживал потому только, дорогой Семен Захарович, что образования у тебя было всего лишь четыре класса. Четыре. По тем временам для бригадира это более чем достаточно, для управляющего – маловато, а уж для совхозной конторы и говорить нечего. Ты понимал это и задержался на время, а потом, выбрав момент, переехал на центральную. Там-то и выяснилось, что образования у тебя уже не четыре класса, а семь. Каким образом? А очень просто: будто бы окончил ты, работая управляющим, вечернее отделение при семилетке, где я учился. Какое там к черту вечернее отделение, дневное-то не все заканчивали – бросали. Но ты окончил вечернее и получил свидетельство, как и положено в таких случаях. Деревни той нет давно, как нет и семилетки, но жив еще Евсюков, бывший директор школы. Помнишь его? Не бледней, Сердюков, ничего страшного. Никто не собирается выдавать тебя, не отберут и свидетельства, полученного столь тяжким трудом. Наоборот, честь и хвала тебе. Мне нравится твоя тяга к знаниям – это же прекрасно. Ты был единственным учеником вечернего отделения, созданного Евсюковым. Для тебя он открыл отделение, вручил тебе свидетельство, выпустил в жизнь и закрыл тут же. Главное, никто не знал об этом. Когда я встретился с Евсюковым, он долго отнекивался, но позже все-таки сознался, повторяя, что это было давно: он имел в виду срок давности, опасаясь меня. Но я заверил его, что ничего не случится, и он, кажется, успокоился. Мне требовалось его признание… Итак, ты уехал на центральную усадьбу совхоза, определился там в ремонтные мастерские инженером по технике безопасности и зажил себе, в ус не дуя. Тем более, что усы ты не носил. Инженер, хоть и по технике безопасности, а звучит, правда? Да еще с семью классами. Видели вы когда-нибудь таких инженеров? Но такое бывает, оказывается, и ты стал инженером. А я остался в Косарях, ухаживать за скотом, пока не призвали в армию. Тогда мы редко встречались. Ты стал держаться куда солидней: инженер, а я пастух. Но встречи были иногда, и разговоры, и за стол садились. Когда я уходил в армию – слушай внимательно, Сердюков, – ты уже был студентом заочного отделения районного ветеринарного техникума. Ты поступил туда со второго захода, но поступил. Как уж ты там сдавал вступительные экзамены, можно только догадываться. Кстати, я знаком с Рассохиным. Он дряхл уже, но в памяти и помнит тебя. И ты должен помнить его, Сердюков. Рассохин работал тогда в техникуме. Он рассказывал, как ты приезжал сдавать сессии, привозя дары преподавателям. Ты приглашал директора техникума погостить у тебя, и несколько раз по осени директор приезжал с друзьями поохотиться на молодых тетеревов, поискать грибков. Однажды, подпив на охоте, вы в темноте налетели на столб, разворотив передок директорской машины. Ты побежал в село за трактором, машину притащили в мастерские и отремонтировали. Бесплатно, разумеется, отремонтировали. Техникум ты благополучно окончил, получил диплом. Стал специалистом, расправил крылья, чтобы лететь дальше. И полетел. К новой цели, Семен Захарович, а она была уже намечена. Я в то время был в армии, дослуживал последний год. Последний, третий. Тогда еще по три года служили… Вернувшись, похоронив мать, я уехал в город. От деревенских я знал, что ты уже в Кондауровском совхозе, на должности председателя рабочкома. Я ничуть не удивился этому, только подумал: ну, пошел Семен Захарович, где-то остановится он…







