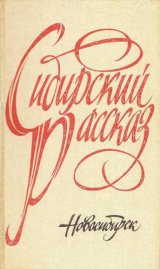
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск IV"
Автор книги: Валентин Распутин
Соавторы: Виктор Астафьев,Аскольд Якубовский,Вячеслав Сукачев,Николай Самохин,Василий Афонин,Валерий Хайрюзов,Владимир Коньков,Леонид Чикин,Николай Шипилов,Илья Картушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Не так уж и давно был я в Кондауровском хозяйстве, интересовался твоей деятельностью. Между прочим, рассказывали мне жители, что ты поздними вечерами или ранними утрами любил ходить на речку, проверять чужие ловушки. Рыбку ловил. Тебя долго выслеживали, как зверя, поскольку ты шибко уж хитер, накрыли разок, отняли рыбу, хотели отметелить как следует, но пожалели: все же председатель рабочего комитета. Вот тебе и председатель! Ай-ай-ай! Семен Захарыч, как же это ты, а? Не устоял, брат. Тяжело устоять, понимаю, давние привычке… Обратите внимание, – Брусницын обвел взглядом семью Сердюковых, – Анна Гавриловна, и вы, Софья Алексеевна, и вы, молодые люди. Обратите, прошу вас, внимание. Рыбка, которой вас кормил в Кондаурове Семен Захарович, зачастую была ворованной. Следует вспомнить, что подобным промыслом ты занимался еще в Косарях. Дед Хандрыкин все жаловался, бывалочи, что кто-то сетки его чистит в заводях. Однажды заметил тебя издали, но шум подымать не стал, побоялся, что ты прижмешь его с сенокосом. Мне он позже сознался, тебя уже в Косарях и в помине не было. Да и самого Хандрыкина нет давно на белом свете… Значит, Семен Захарович, ты работал в Кондауровском хозяйстве, а я жил в Заводском поселке, работая по специальности, приобретенной в армии. И учился в вечерней школе: восьмой, девятый, десятый классы. А потом поехал в Москву, поступать в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. И поступил. Мне было двадцать четыре года. В двадцать девять я вышел из академии с дипломом агронома. И вернулся домой. В свою область, в свой район, И встретился с тобой, уважаемый Семен Захарович. Так-то. В жизни случаются всякие неожиданности, вот одна из них. Давненько мы не виделись, изменились оба. Вот уж не думал, не гадал, что придется нам снова когда-нибудь жить и работать в одной деревне. Ты встретил меня настороженно, не зная, что сказать, с какой стороны подступиться, с какой стороны подойти. Много утекло дней с тех пор, как я под твоим началом пас коров. Мне двадцать девять, тебе сорок шесть. Ты заместитель директора совхоза, я главный агроном. И не подчиняюсь тебе вроде бы, ты ведь был заместителем по хозяйственной части. Ты с первых же дней постарался положить на меня руку, пригнуть. Но я не пригнулся. Я был самостоятельным. Всю жизнь я был самостоятельным человеком. Даже тогда, пастухом. А ты не любил таких людей. Ты давил на них всегда, отстранял их, освобождался, прикрываясь красивыми словесами, лозунгами, цифрами. На этот раз бы желал освободиться сразу от двоих: от меня и директора совхоза. Директора ты не трогал, он выходил на пенсию. Он был размазня, директор, ему бы на птицеферме кур щупать, а не совхоз возглавлять. Практически хозяйством руководил ты. Стали мы работать, а работа не получается. Много кое-чего новенького узнал я о тебе. К примеру, как, перебравшись в Пихтачи, вскорости подвел ты главного инженера под суд. Так, что ли, Семен Захарыч? Или ты запамятовал?..
– Он сам себя посадил, никто не, подводил его. Ты слышал звон… – Сердюков повернулся всем телом к Брусницыну, уши его багровели. – Нетель ногу сломала, прирезали ее. Та нетель – что свинья, сала на два пальца кругом. А он, инженер, отрубил половину, в машину и в соседнюю область, в леспромхозы, запчасти добывать. Купец нашелся, торговлю мясом открыл. На железки…
– Правильно! А кто мысль ему подал эту? Кто натолкнул его? Кто уговаривал? Ты. Поезжай, дескать, положение безвыходное, а мясо через столовую спишем. Кто хозяйством руководил? Ты руководил. Почему главный инженер поехал по леспромхозам? Да потому, что весна началась, март, а у вас трактора стояли: запчастей не было, и «Сельхозтехника» помочь не могла. А он привез запчасти, главный инженер. И пустил трактора, и вы вовремя провели пахоту, вовремя отсеялись. Сводку-то ты подавал в район, хвалился успехами. А потом уже стала известна история с мясом. История отвратительная – иначе не скажешь. У меня нет доказательств, что это ты сделал, но уверенность абсолютная. В Пихтачах до сих пор тычут в тебя. На суде ты все свалил на главного инженера, будто не знал совсем, что он поехал за запчастями с мясом. Запчасти по щучьему велению появились в мастерской. Где была твоя совесть, Сердюков? Посмотри на меня. Почему ты не взял вину на себя? Половину хотя бы? Кто после суда стал работать главным инженером совхоза? Родственник по мужу твоей старшей дочери стал работать, вот кто. До этого он был всего лишь линейным механиком.
Ты не мог это сделать – сознаться, взять на себя вину полностью или часть. Это бы отбросило тебя назад в определенной степени, а ты неудержимо рвался вперед. Да и не такой ты человек, чтобы сознаваться. Я ведь тоже сыграл для тебя роль трамплина. Мне пришлось уйти, а ты утвердился. Ты долго раздумывал, прежде чем написать на меня письмо, правда? Сознайся. Ты подговаривал Гордеева, он отказался. Ты подговаривал Трофимова, обещая сделать его завгаром, он отказался. Ты помнишь наш разговор, Сердюков? Ты отвел меня в сторону и зашептал, что из района звонили, туда поступили сигналы о том, что я халатно отношусь к своим обязанностям главного агронома. Ты уже исполнял обязанности директора. Приказа еще не было, ты просто исполнял обязанности. И я очень мешал тебе. Когда я спросил, кто бы это мог сделать, ты ответил: завистники. Мало ли их, завистников, в любом деле. И стал уговаривать меня уволиться по собственному желанию, пока не грянул гром. Вот тогда-то и возникло у меня подозрение. И я ушел. Ты был рад. Ты помог мне как можно быстрее уволиться и уехать, объясняя начальству, что я уезжаю по семейным обстоятельствам. Я уехал. Не потому даже, что смалодушничал, хотя и это было, я понял, что не работать нам вместе: я ли буду директором, ты ли будешь им, одному все равно придется уйти. Два года, будучи главным агрономом, я наблюдал за тобой и всегда сравнивал тебя с пауком. Ты плел паутины, а сам, как правило, оставался в стороне, ждал, пока намеченная тобой жертва запутается. Мне все это было противно, понимаешь, Сердюков? Противно, что кто-то написал на меня анонимку, а мне надобно оправдываться, отстаивать себя. А я не виновен. Это первая анонимка в моей жизни. Я знал, разумеется, что есть такие люди, которые пишут: их и людьми-то нельзя назвать. Но на меня еще не писали, и я растерялся. Вся беда моя в том, что отстаивать себя не умею, даже будучи трижды правым. Таков уж, видно, характер. Оказывается, это очень сложно – доказывать, что не виновен. Слов не хватает. Сама мысль, что ты кому-то должен доказывать свою невиновность, дика, Я не в силах. Я тушуюсь и ухожу. Есть такая категория людей, вот я к ней и отношусь как раз. А письмо твое всплыло неожиданно совсем, Макеев, ярый твои покровитель, сторонник волевого стиля руководства, зарвался наконец. Как же ты будешь жить без него, Сердюков, а? Срочно ищи очередного хозяина, иначе пропадешь. Стрешнев сразу вызвал меня. Взяв отпуск, я объехал все хозяйства, где тебе довелось жить и руководить, со многими встретился, поговорил. Я проследил весь твой путь, Семен Захарыч, шаг за шагом, прыжок за прыжком, от Косарей до районного села, до этого вот дома. Двадцать лет понадобилось тебе, чтобы пройти расстояние в сто пятьдесят верст. Двадцать лет – подумать страшно. Целая жизнь. Да как прошел – по головам, по душам, по судьбам людским. И всего лишь для того, чтобы стать начальником районного управления сельского хозяйства. Как это грустно, Сердюков. Тебе не грустно, нет. Тебе радостно, что достиг своего. Но другому человеку – умному, подготовленному, выпускнику сельхозинститута – потребуется самое большое пять-шесть лет, чтобы возглавить районное управление. Пять лет работы главным агрономом в любом хозяйстве – и переводи в управление. Как же ты руководишь управлением, Сердюков? Ты ведь ветеринар, да еще заочник, сельского хозяйства не знаешь толком. И дума твоя постоянная не о земле, а о себе, как бы кого подмять и занять тут же его место. Вся твоя деятельность, Сердюков, вот здесь, в моей руке.
Брусницын вытянул развернутую ладонь, и все взглянули на нее. Подержав, Брусницын опустил руку, положил ее на колено и переменил чуть положение тела.
Теперь он молчал, передыхая. В горле у него першило, никогда в жизни своей он так много не говорил. Он обвел взглядом сидевших. Шувалов смотрел на него, лицо Шувалова было спокойным. Сердюков сидел согнувшись, уперев побелевшие кулаки в колени, под нависшим лбом его, меж белесых бровей, заметно выступил пот. Мать Сердюкова трясла головой, придерживая подбородок скрюченными пальцами. Брусницын пожалел, что заставил ее сидеть и слушать. Но ему просто было необходимо, чтобы она слушала. Дочь была растерянной, она никак не могла понять, что все это говорилось об ее отце. На лице зятя появилось любопытство, он поудобнее уселся на стуле, готовый слушать дальше. Софья Алексеевна покрылась пятнали. Несколько раз она порывалась вскочить с дивана и что-то крикнуть, но Шувалов тотчас же поднимал на нее глаза свои, делая вид, что сейчас встанет, и Софья Алексеевна сразу опускалась на подушки, руки ее шарили по дивану, она судорожно вздыхала. Все молчали.
– Скажи мне, пожалуйста, Сердюков, – начал опять Брусницын, и голос его был ровным, – скажи мне на милость, зачем ты все это делаешь: на чужой крови строишь свое благополучие? А разве ты не мог жить иначе – обычной жизнью? Ну, жил бы себе и жил на Шегарке, работал бы бригадиром или управляющим, растил детей. Избу новую ты себе там построил, да ты бы ее и так построил – теперь уже никто не живет в избах, крытых земляным пластом. При твоей-то грамоте, при твоих познаниях лучше бы всего оставаться бригадиром. Бригадиром дойного гурта, скажем, – милое дело. Ведь ты малограмотный человек, Сердюков. В письме, написанном на меня, множество грамматических ошибок. В следующий раз будь внимательнее либо давай кому-то проверять, прежде чем отправлять письмо по адресу. Смеяться станут. Бросил бы ты это дело, Сердюков, – писать кляузы. Я всегда относился к таким людям с брезгливостью и презрением. Несчастная их доля. Когда мне приходилось слышать об анонимках, сплетнях или прямых доносах, я всякий раз вздрагивал от омерзения, будто при виде змеи. Ты погубил себя, Сердюков. Как административная единица ты существуешь – районная единица, как человек ты давно погиб. Ты погиб еще тогда, когда работал управляющим в Косарях, прицеливаясь к центральной усадьбе. Тебя не устраивала малая власть, ты хотел большего. И рвался к ней. И достигал. Ибо власть – это благополучие прежде всего. Относительное, но… Большие и малые привилегии. Почет и уважение – если почет и уважение. Подобострастие. Заискивание. Подхалимство. Услуги. Да мало ли чего. И в то же время как зыбка и ненадежна эта категория – власть. Непостоянна. Сегодня ты на самом верху, а завтра – фюи-ить, покатился вниз. Начинай сначала. А начинать ох как трудно: уверенности нет былой… Вспомни русскую историю, да не только русскую. Ты не читал ее, голубчик. Конечно, где ж тебе читать. Ты или пишешь, или готовишься к новому прыжку. Но выше, думаю, прыгнуть ты уже не в состоянии. Ты достиг предела, потолка. Дальше некуда. Не знаю, об этом ли ты мечтал, начиная бригадиром, но ты должен благодарить бога. Благодаришь ли? Посмотри, каким ты подошел к заветной черте. Ты вдвойне сгорбился, поугрюмел, сжался в кулак. Не то что поседел – посерел. Двадцать лет борьбы, двадцать лет напряжения. Ты выиграл, оказался победителем. У тебя крепкие плечи, ты растолкал ими своих соперников. Остались ли у тебя силы, Сердюков? Наверное, мало. Тебе сейчас пятьдесят два, до пенсии еще восемь лет. И много и мало. Восемь лет эти ты будешь всеми правдами и неправдами держаться за должность, чтобы сохранить благополучие, окружающее тебя. Зубами станешь держаться, не только десятью пальцами рук своих цепких. Тебе кажется, ты высоко взлетел. Но основное районное начальство не приняло тебя в свою среду, о чем ты, видимо, мечтал. Ты не сравнялся с ними. Оно, начальство, утвердило тебя в данной должности, но держит на расстоянии, что тебя обижает, естественно, и даже оскорбляет. Но ты молчишь, терпишь: куда ж деваться. Судьба твоя в их руках. Макеева нет, и ты сейчас не знаешь, к кому прислонить голову. Раньше ты носил фуфайку, кирзовые сапоги, фуражку за три семьдесят, и эта одежда как нельзя лучше шла тебе. Но ты не хотел быть мужиком, ты стыдился этого. Ты хотел быть интеллигентом, Семен Захарович… Я помню наши разговоры. Ты завидовал им, районным – других тогда не видел – интеллигентам, их умению держаться, одеваться, говорить. Ты считал, Сердюков, что стоит только получить диплом, любой, поработать на определенной должности, купить шляпу, и ты моментально переродишься, из мужика сделаешься интеллигентом. Диплом у тебя есть – полученный, как говорится, с божьей помощью. На должностях ты побывал довольно. Ты носишь костюм, галстук и шляпу. Кирзовые сапоги забыты. Но ты не стал интеллигентом, Сердюков. Какая жалость, правда? Ты не можешь понять одного, никакая шляпа никого не сделает интеллигентом. Пойми это, уважаемый Семен Захарович Сердюков… Интеллигентность – прежде всего внутреннее состояние. Шляпа и диплом – всего лишь прилагаемые. Истинному интеллигенту присущи внутреннее благородство, доброта, широта взглядов, мягкость характера, умение понимать ближнего, прощать чужие слабости. И многое другое. Они не пишут анонимок. Природа лишила тебя благородства, лишила других положительных человеческих качеств. Ты родился человеком в высшей степени завистливым, жаждущим легкой, веселой и нарядной жизни, которую, по твоим убеждениям, может дать только власть. Это была единственная цель твоей жизни, и она погубила тебя, Сердюков. Но ты еще не понял этого. И не поймешь никогда. Слишком поздно переделывать себя: ты старик уже…
Брусницын остановился. Он устал говорить, но он еще не закончил. Ему казалось, что он здесь давно, целый день. Он боялся, что вдруг зазвонит телефон и собьет его. Вдруг все встанут и уйдут, не дослушав. Но телефон молчал, и Сердюковы молчали, глядя кто куда. А Шувалов, не меняя позы, сидел на стуле. Телефонную трубку он снял за спиной хозяина, Брусницын не заметил этого. Брусницын откашлялся, он хотел пить. Он устал.
– Сердюков… – заговорил Брусницын, и тот вздрогнул от его тихого голоса. – Сердюков, ты уже старик, не по годам, так по виду. Лучшие года твои прошли в борьбе. Скоро подойдет пенсия, потом закат. Мой тебе совет: доживи свои последние годы достойно. А когда станешь умирать, в конечную минуту попроси прощения у всех, кого ты обидел, у живых и мертвых. Облегчи душу свою. Ты создал себе рай на земле, – Брусницын встал и повел рукой кругом, – маленький рай. Но на том свете, – теперь Брусницын говорил стоя, – если он существует, – а я хочу, чтобы он существовал лишь ради тебя, – на том свете, Сердюков, ты попадешь в ад. И в аду том кипеть тебе в котле чугунном, в смоле, вечно за все прегрешения свои, за все страдания и мучения наши…
Говоря, Брусницын смотрел на хозяина, но, услышав всхлипы, живо повернулся к двери: мать Сердюкова плакала. Брусницын боялся, что она ничего не понимает из того, о чем говорят в этой комнате. Но она слышала и понимала. Брусницын растерялся на секунду какую-то: ему жалко было эту трясущуюся старуху, бывшую товарку своей матери. Однако надо было заканчивать…
– Слушай дальше, Сердюков. Я собрал о тебе все, что требовалось узнать. Письмо твое в моих руках. Но ты можешь не опасаться, я никуда не пойду жаловаться, ничего не предам огласке. О тебе не будет речи – это в моих правилах. Ежели, конечно, ты сам не подашь повода для очередной встречи и разговора. И уж тогда я не пожалею тебя, запомни это, Сердюков. Сейчас я ухожу. Я сказал тебе все, что хотел сказать. В присутствии твоей матери, которая плачет, узнав, что собой представляет ее сын. В присутствии жены твоей, которая ни в чем не осуждает тебя, ненавидя всех, кто стоял на твоем пути к этой вот квартире. Ненавидя меня – это заметно по лицу ее. В присутствии детей твоих, которые, быть может, что-то поняли. Я проклинаю тебя, Сердюков. От себя и от имени всех тех, кому ты причинил зло. Будь же ты трижды проклят на все свои оставшиеся дни. Я ухожу. Идем, Шувалов, нам пора. Помни, Сердюков…
И они ушли. Было уже довольно поздно. Когда закрылась за ними дверь и смолкли на лестнице шаги, домашние Сердюкова тихо разошлись по квартире. Встали и молча разошлись, не глядя на Семена Захаровича. Софья Алексеевна вывела старуху. Сердюков остался в комнате, где проходил разговор. Жена заглянула, что-то хотела сказать, но он махнул рукой, и она скрылась.
Подойдя к окну, Сердюков отогнул край шторы и долго смотрел на улицу, в темноту, как бы прислушиваясь…
Евгений Городецкий
МУЗЫКА
Жил в селе Каргатском некто Пикалов, сорока семи лет, бухгалтер совхоза. Мужик как мужик, хотя и малосильный, жил как все и работал как все: управлялся в конторе и по хозяйству, успевал между делом с сеном, с ягодами, с грибами, весной – с дровами, помаленьку баловался рыбалкой и праздной, необременительной охотой. И ничем бы он среди окружающих его людей не выделялся, если бы не загадочная, необъяснимая любовь к музыке.
Музыку Пикалов любил с детства – русские и украинские народные песни, песни советских композиторов и особенно арии из опер. Оперетту он почему-то не признавал, хотя для некоторых вещей все же делал исключение. Тут были «Песня о вольном ветре», ария Мистера Икса в исполнении Георга Отса, тогда еще здравствующего, ария Никиты из «Холопки» и… пожалуй, все. Ну а из оперного репертуара ему нравилось многое, а пуще всего партии басов и баритонов: Сусанин, Игорь, Кончак, Гремин, Галицкий, Грязной, а также Демон, Алеко, Риголетто, Дон Карлос и Жорж Жермон. Однако увлечения его не разделяли ни домочадцы, ни родственники. Когда в застолье, собираемом по случаю праздников или семейных торжеств, созревшие для песен гости заводили на два голоса «Ой, мороз мороз» или что-нибудь заветное, старинное, Пикалов, также созревший, уединялся в уголок или другую комнату, а чаще всего подходил к окну и, глядя на волю, надтреснутым, но верным баритончиком самозабвенно тянул: «Ты взо-ой-дешь, мо-оя заря, взгляну в ли-и-цо-о тво-ое…»
Было время, когда его запросы удовлетворяло радио, потом стали постепенно пластинки появляться, те же арии из опер, хоры, и хранились они в тумбочке, на которой стоял патефон, покрытый вышитой салфеткой, вместе с фокстротом «Рио-Рита», «Амурскими волнами», Глебом Романовым и Робертино Лоретти. Жена Пикалова тоже не чужда была музыке, но вкусы ее оказались попроще.
С течением времени, с развитием цивилизации патефон на тумбочке сменился проигрывателем, затем электрофоном; вместо толстых тяжеловесных пластинок появились долгоиграющие диски, повысилось качество записи, и вместе с этим развивался вкус Пикалова. Телевидение обошло стороной их урманное село, до клуба, где крутили кино, было километра два – не под силу больным ногам жены Пикалова, а ходить в кино или в гости поодиночке у них было не принято. Купили с достатка сетевой радиоприемник, но с ним оказалось одно мучение, сплошной треск – то машина мимо проедет, то мотоцикл или трактор, а то соседи сепаратор включат. И по-прежнему главной утехой его оставалось радио.
И в маленьком его кабинетике в конторе, и дома оно не выключалось, лишь регулировалось тише или громче, в зависимости от передачи. Пикалов занимался делом, а краем уха слушал, что там вещает Москва или Томск через станцию РВ-76. И не раз бывало, что он, прервав на полуслове разговор или свое занятие, устремлялся к динамику и включал его погромче, многозначительно оправдываясь при этом: «Ария Каварадосси из оперы «Тоска»…» Люди посмеивались, называли его за глаза «Ария из оперы», но прощали ему это чудачество, так как Пикалов был человек не вредный, справедливый и честный. И лишь жена иной раз ворчала, когда он, влекомый музыкой, бросал какое-нибудь домашнее заделье: «Ну, язви тебя, поскакал… Ария из оперы «Не тяни кота за хвост».
А он уже распространял свою любовь и увлеченность дальше, примерялся, прислушивался к симфонической музыке, к скрипке и фортепьяно, и приходил к мысли, что одной только музыкой, без слов, можно тоже много чего выразить, и вообще, раз кто-то эту музыку сочиняет, целые оркестры, народные и заслуженные артисты разучивают ее и исполняют в концертах и по радио, значит, кому-то это нужно, кто-то от этого радость и удовольствие получает, надо только уловить главное, думал он, поймать в этом хаосе звуков мелодию и разгадать ее, расшифровать, следовать за ней туда, куда она ведет.
Однажды он услышал странную, неземную какую-то музыку – многоголосую, рокочущую, гудящую. Он подошел к динамику. Тема разрешилась мощным тягучим аккордом, потом была пауза, и дикторша объявила: «Начинаем передачу для тружеников полей». Пикалов с досадой увернул громкость. Мелодический рисунок он тут же позабыл, а само звучание, строй запомнил. Музыка эта казалась исторгнутой из самых потаенных уголков души, слышались в ней и стон, и ропот, и печальные вздохи, и светлая молитва, но что это звучало – отдельный инструмент, оркестр электромузыки, трио баянистов? Позже Пикалов узнал, что это был орган.
Он написал на радио, чтобы передали в концерте по заявкам органную музыку, однако удовлетворения своей просьбы так и не дождался. «Наверное, у них там этих заявок выше головы, – думал Пикалов. – Пока дойдет очередь…»
Закоренелый домосед, для которого даже поездка в райцентр была событием, он вдруг засобирался в город. Жена только диву давалась, откуда что берется, однако, будучи женщиной практичной, решила обернуть предстоящую поездку мужа главным образом себе на пользу и целый вечер вдумчиво составляла список заказов. Сняв накануне деньги с книжки, она аккуратно завернула их в список и вручила этот пакет Пикалову, когда тот уже стоял перед ней одетый и с чемоданом в руке, так что вникать в эти заказы и оспаривать что-либо у него не осталось времени. Человек исполнительный, рассудила жена, коль взялся – привезет.
Июль, середка лета, выдался в том году на удивление холодным, мочливым, но, как только Пикалов добрался до города, неожиданно распогодилось, резко потеплело. Плащ и чемодан он оставил у квартирной хозяйки, которая за умеренную плату пускала на ночлег командированных, и ходил по улицам в темном костюме, застегнутом на все пуговицы, кепке с картонным обручем внутри и яловых сапогах, парился, но терпел. Снять или хотя бы расстегнуть пиджак представлялось ему неприличным.
В сутолоке Пикалов терялся, а городской транспорт за те несколько лет, что он здесь не был, прямо-таки заполнил старинный сибирский город с неширокими улицами, рассчитанными преимущественно на извозчицкие пролетки. Город переживал теперь вторую молодость. Приходилось подолгу торчать на перекрестках, прежде чем перейти на противоположную сторону.
В первый же день Пикалов побывал в универмаге и двух магазинах культтоваров, и везде ему говорили примерно одно и то же: органная музыка бывает, но редко, пластинки сразу раскупают, зайдите в конце месяца, может быть, что-нибудь будет. В конце, а сейчас только начало.
Пикалов был огорчен, но вместе с тем и горд: вот он какой, оказывается, взыскательный слушатель, вот какой у него хороший вкус – сразу уловил, что органная музыка лучше всякой другой, на нее и спрос.
Он снова зашел в универмаг – смотрел, приценивался. О женином списке пока не думал, успеется перед отъездом. Забрел в секцию радиотоваров. Здесь полным ходом шла торговля кассетными магнитофонами, две молоденькие продавщицы, одна за прилавком, другая за большим столом, споро проверяли аппаратуру, щелкала кнопками, записывали, воспроизводили, звучала музыка и счет скороговоркой: «Один, два, три, четыре, пять, проверка, проверка…» Ловкие пальчики с наманикюренными ногтями мелькали так быстро, что и не уследишь. К обеим продавщицам стояли люди, преимущественно молодежь, то ли покупатели, то ли просто любопытствующие. Пикалов спросил у одного из них, судя по виду, студента, судя по лицу, тоже из деревенских:
– Это что же, музыку записывать?
– Хоть что, отец. Хоть музыку, хоть речи. Микрофон прилагается.
– И что, хорошо записывает?
– Лучше не надо, – с улыбкой ответил парень.
– А скажи мне, – продолжал допытываться Пикалов, – он как, часто ломается? А то где его, допустим, в деревне ремонтировать?
– Отправите по почте в гарантийную мастерскую.
– А обращаться с ним не шибко сложно?
– Проще простого. Наливай да пей.
Парень-то лукавый оказался, но Пикалов, не будь прост, слушал его вполуха, а сам следил за продавщицами, которые, обвязав для очередного покупателя коробку с магнитофоном шпагатом, тут же распаковывали следующую, и все магнитофоны были исправными, голосистыми, а по блеску в глазах покупателей, молодых современных парней, которые, конечно же, знали толк в этой аппаратуре и, несмотря на подходящую цену, платили ее не задумываясь, было ясно, что магнитофоны действительно хорошие и в продаже, как видно, бывают нечасто. И Пикалов, пощупав через пиджак пакетик с деньгами на груди, стал в очередь.
Не прошло и получаса, как Пикалов увидел свой магнитофон и голос его услышал, а через несколько минут продавщица и ему вручила обвязанную шпагатом коробку с красивыми надписями и символами; он взял коробку под мышку, ощущая ее приятную тяжесть, бережно и крепко прижал к себе и время от времени придерживал еще и другой рукой.
В ночлежке, в комнате, где у каждой стены стояла койка, а посередине – небольшой квадратный стол, Пикалов жил пока один. Он вынул магнитофон, снял с него полиэтиленовый чехол, разложил на столе принадлежности к нему. Руки его, хоть и подрагивающие от волнения, стали вдруг необычайно чуткими и ласковыми, бережно касались черной шагреневой поверхности, гладких граней, литых клавиш переключателей.
Ему незнакомо было слово «дизайн», что означает, как известно, применительно к техническим изделиям, «художественное конструирование», он не смог бы внятно объяснить, чем «модерн» отличается от «ретро», но когда видел те или другие качества в натуре, тут уж его трудно было сбить с толку: красоту, изящество, гармоничность он умел заметить и оценить.
И вот он смотрел на свое приобретение, о котором какой-то час назад и понятия не имел, что оно вообще существует, истово любовался им, осененный сознанием, что эта дорогая и красивая вещь является теперь его собственностью, лично его, принадлежит ему и никому другому. Странное ощущение. У него никогда не было ничего лично ему принадлежащего, кроме, пожалуй, ружья. Жена, бывало, и обувь его носила, управляясь по хозяйству, и одежду, и даже белье, когда морозы. Только парадного его костюма не касалась – с медалькой «За трудовое отличие» и нагрудным знаком «Победитель соцсоревнования». Ружье да костюм – вот и все его личные вещи. А теперь еще вот это будет.
Его волновал не только вид магнитофона, но и запах – сложно пахло кожзаменителем, пластмассой, лаком, э л е к т р о н и к о й. И вдруг вместе с запахами он поплыл куда-то в далекий туман детства, в голубой и зеленый мир, зыбкий, как подводное царство, с блуждающими тенями и невнятной забытой мелодией. Что-то яркое блазнилось там, маленькое, яркое и многоцветное, узорчато перевитое, что-то остро желаемое и недоступное, потому что чужое, не его… Ах, эта пронзительная детская зависть! Все, казалось бы, отдал, чтобы иметь у себя э т о. А весь-то предмет вожделения – плетенка, короткий столбик размером в палец, сплетенный из проводков в разноцветной изоляции…
Весь вечер Пикалов осваивал новую технику: записывал радиопередачи, свой голос, голос хозяйки, которая сперва смущалась и отказывалась, а потом разошлась, проявила необычайную словоохотливость и даже пыталась исполнить какую-то похабную песенку, но на счастье пленка докрутилась до конца.
Возбужденный, он долго не мог уснуть, проснулся рано с радостным предощущением удачи; первое, что сделал, – поехал на вокзал и от греха подальше сдал магнитофон вместе с коробкой в камеру хранения; потом наспех позавтракал в вокзальном буфете и отправился в город. Какая-то внутренняя подспудная память, даже как будто бы и не ему принадлежащая, подсказала, где сойти с трамвая, куда именно свернуть; то есть, отправляясь сегодня в город, он не имел четкого, определенного плана действий и даже смутно представлял свои намерения, повинуясь внезапно пробудившемуся в нем инстинкту.
А может быть, дело заключалось вовсе и не в этом: мать-то его была горожанкой и в село выехала первой военной зимой, после того как получила на мужа похоронку и поняла, что не продержится она, не сможет поднять детей…
Пикалов шел тихой тенистой улицей, глядел под ноги, думая о чем-то неопределенном, и вдруг словно кто-то толкнул его в грудь. Он поднял глаза и увидел вывеску: «Музыкальное училище». И дальше его вела все та же безошибочная интуиция, повинуясь которой он даже не задумывался, что делает, удобно ли это, не противоречат ли его поступки правилам приличия. Парадное было заперто, он обошел здание кругом, увидел во дворе составленные штабелем парты, классные доски с нотным станом, увидел дверь черного хода, проник в здание и там среди заляпанных известкой бочек и козел разыскал старичка, который оказался сторожем, и спросил у него адрес кого-нибудь из преподавателей, кого сейчас, во время каникул, можно застать дома. Спустя четверть часа он крутил старинный звонок-вертушку на втором этаже старого деревянного дома, у двери, обитой войлоком, а понизу еще разрезанными голяшками износившихся валенок. Дверь открыл старичок с лысиной, обрамленной белым пухом. Пикалов спросил Лазаря Львовича, старичок ответил, что это он и есть, и пригласил войти. Пикалов очутился в большой светлой комнате с высоким громоздким буфетом, комодом и прочей немодной мебелью, с двумя книжными шкафами, битком набитыми книгами. Старичок спросил, чем может быть полезен. Пикалов единым духом выпалил, кто он такой, по какому делу приехал.
– И какая органная музыка вас интересует? – осведомился старичок. – Бах, Бетховен, Гайдн, Франк? Или, может быть, Гедике?
– Бах, – не очень уверенно ответил Пикалов. Эту фамилию он слышал чаще других.
– Бах есть у меня. Правда, далеко не весь и не в лучших исполнениях, но тем не менее… А вам, собственно, с какой целью?
Он пытливо и недоверчиво смотрел на Пикалова, ни руками, ни лицом не походившего на человека, хоть сколько-нибудь приближенного к миру музыки.








