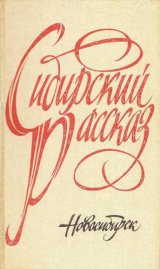
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск IV"
Автор книги: Валентин Распутин
Соавторы: Виктор Астафьев,Аскольд Якубовский,Вячеслав Сукачев,Николай Самохин,Василий Афонин,Валерий Хайрюзов,Владимир Коньков,Леонид Чикин,Николай Шипилов,Илья Картушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Та́нюшка, проходя, хлопнула телка по лысинке, проговорив ласково:
– У, обалдуй такой, что, рожки чешутся? – Тот радостно замотал башкой и стал дуть ей на руки, ожидая подачки. – Нету у меня ничего, – сказала она, – забыла я про тебя, извини.
Сергей Сергеич оказался дома. Сидел один за выдвинутым на середину комнаты столом, спина, как надувной матрац, стриженый старомодный ежик, трикотажная, обтянувшая плечи рубашка, – смотрел телевизор. Шла детская передача, мультфильм про неунывающего Карлсона. Перед ним стояла большая стеклянная банка с домашним пивом, наполовину пустая, и граненый стакан.
Та́нюшка, поздоровавшись и поздравив с праздником, подала записку, и Сергей Сергеич, растянув толстые в улыбке губы, сказал:
– И тебя, Татьяна, тоже. Давно не виделись. Как вы там живете-можете?
– Спасибо, Сергей Сергеич, все хорошо.
– Мать не хворает?
– Нет, здоровая. Это от Петра записка.
– В гости приехал?
– Ага, позавчера.
– Чего же не заглянет? Или зазнался? – И, не ожидая ответа, обернувшись в сторону кухонной двери, громко позвал:
– Клёпа, очки!
Свистя кожаными галошами, появилась высокая худая женщина в длинном переднике и кофте с оборками вокруг тонкой шеи – жена Сергея Сергеича. Руки ее были в муке. Очки лежали на телевизоре. Торопливо кивнув гостям и вытерев о передник пальцы, она молча подала их мужу и тут же снова скрылась на кухню.
– Так… чего он тут нацарапал? – проговорил Сергей Сергеич, устраивая на носу очки. Читал он долго, то и дело взглядывая поверх стекол в телевизор, а прочитав, снял очки и стал сосредоточенно грызть дужку, снова вперившись в экран, где Карлсон, блестя пропеллером, порхал по комнате, увертываясь от теткиного веника. Было такое впечатление, что просьба Петра его озадачила и он ищет удобную причину отказать.
Митя стоял за порогом комнаты, в прихожей, глядя на неповоротливый стриженый затылок директора. «Нет, не даст», – мелькнуло у него.
– Ить ты, стервец, ить ты, мне бы такой моторчик, – сказал вдруг Сергей Сергеич завистливо.
Митя представил себе, как взлетает под потолок этот матрац, накачанный пивом, и ему стало смешно. «Пожалуй, даст». Та́нюшка тоже, по-видимому, вообразила себе эту забавную картину, потому что она быстро, украдкой, оглянулась на Митю, зажимая смеющийся рот ладошкой.
– Клёпа, карандаш! – снова скомандовал Сергей Сергеич, и когда та нервной, семенящей походкой вошла в комнату и подала ему карандаш, который лежал в серванте, на расстояния его вытянутой руки, проговорил как бы самому себе, значительно: – Запамятовал, кто нынче на конном дежурит. Сдается, Филенкин.
– Окстись, Филенкин! – сказала от порога Клёпа, обернувшись своим сухим, поблекшим, с болезненными под глазами отеками лицом. – Ты же Филенкина на праздник в город отпустил, к дочери.
– Не превалируй! Я спрашиваю: кто?
– Кто, кто, Кандыба, вот кто.
– Кандыба? Семен, что ли?
– А кто ж! У нас рази много Семенов твоих? Одного через край хватает.
– Я, сдается, давал команду его уволить.
– Уволить, уволить! А кому работать на твоем конном! Уволить…
– Запрячь ходок надо, Петро Шварченков просил, – сказал Сергей Сергеич раздумчиво, держа один глаз в телевизоре: там неутомимый Карлсон, облачившись в саван, гонял по чердаку объятых ужасом жуликов. – Ить ты, ить ты! – с азартом снова воскликнул он, быстро откладывая карандаш и ловко, сноровисто, почти не глядя, наливая из банки пиво. – Мне бы парочку таких привидениев, я бы навел кой-где порядок!
– Не запрягет он сёдни, – сказала Клёпа, мельком бросив угрюмый взгляд на Карлсона. – С утра уже ныром ходил…
– То с утра, а сейчас полдень. Может, проветрило.
Выпив глотком стакан, он опять взял карандаш и хотел было скомандовать насчет бумаги, но раздумал. Перевернул записку и быстро, размашисто начертал несколько строчек.
– Так… Ступай на конный, – сказал он Та́нюшке, протягивая записку, – там Семен Кандыба. И если он позволил себе, придешь и доложишь по всей форме, поняла? Я его, подлеца такого…
Тут экран заморгал, изображение поплыло, и Сергей Сергеич энергичным для его комплекции движением соскочил со стула и побежал к телевизору, бормоча проклятья, стал лихорадочно крутить ручки. Так и не услышав, что же грозит уже один раз уволенному Семену Кандыбе в случае, если он п о з в о л и л с е б е. Та́нюшка и Митя покинули дом Сергея Сергеича. Та́нюшка шла и смеялась, и Митя тоже улыбался, хотя создавшаяся ситуация ничего веселого не обещала.
Шагая рядом с девушкой, Митя посмотрел на свою фигуру как бы со стороны и вдруг почувствовал себя неловко. Телогрейка его после купания в Кривом овраге довольно ощутимо подсела, тянула в плечах и спине, кое-где сморщилась, к тому же штаны-спецура шуршали при каждом шаге, как бумажные. Видок тот еще! А ведь сегодня как-никак праздник.
Длинные строения конного двора, окруженные крепкой, из отесанных жердей, изгородью, задней стороной повернуты были к тайге, которая начиналась сразу за кочковатым вытаявшим полем. Посреди затоптанного копытами двора росла грустно и одиноко старая пихта. Ветви ее были опилены чуть не до макушки, отчего пихта издали походила на зонтик или какой-нибудь австралийский эвкалипт. Иллюзию эту нарушала автопокрышка, чьим-то ловким броском подцепленная высоко на сучок.
Стая весенних воробьев носилась по коньку крыши, точно перегоняемая ветром листва, дралась, галдела – выясняла отношения. Ворота конюшни были широко распахнуты, в темной глубине поблескивали крупы перетаптывающихся лошадей.
Семена Кандыбу они увидели сбоку конюшни. Солнце высушило здесь пятачок почвы, щедро грело сухую, в трещинах, бревенчатую стену, пожарный щит за ней. Семен в толстом ватнике и шапке, надвинутой на морщинистый лоб, сидел на брусе, прислонившись к стене, жмурился – то ли от избытка солнца, то ли оттого, что уже крепко п о з в о л и л с е б е.
Рядом, прямя спину, сидел мужик помоложе – прорезиненный плащ, кожаная кепка, в бритвенных порезах клиновидное гладкое лицо – нормировщик лесхоза Бабкин; держал в пальцах сигарету, тоже жмурился.
Оба тихо дремали, размягченные праздностью, тишиной, пригретые долгожданным солнышком, так что по всему было ясно – этих святых минут у них даром не отнять.
– Здравствуйте! Дядя Семен, чего это у вас из конюшни дым? – звонко, весело крикнула Та́нюшка, подходя.
Семен вздрогнул головой от неожиданности ее голоса, но дремы вроде не одолел и глаз не открыл, а нормировщик Бабкин только выронил сигарету и с досады стал давить ее каблуком. Тогда Та́нюшка, потряся дежурного конюха за плечо и добившись, чтобы он посмотрел на нее осмысленно, сунула ему записку. Семен взял ее и стал долго, вдумчиво изучать. Ему предписывалось «с получением сего запрячь для подателей сего рессорный ходок».
Молча вернув Та́нюшке директорское послание, он заерзал по брусу задом, устраиваясь поудобнее.
– Документ недействительный, – сказал он.
– Не…действительный? Вы что, дядя Семен?
– Подпись неразборчивая. – Семен надвинул шапку на брови, как бы собираясь дремать дальше.
– Это же Сергей Сергеич писал!
Нормировщик Бабкин скосил глаза на бумажку, пробормотал:
– И печать отсутствует.
Та́нюшка изумленно всплеснула руками, ахнула:
– Да вы что? Какая подпись, какая печать? Вас, видно, солнышком напекло! – И вдруг рассмеялась догадливо. – Это вы мне за дым в конюшне, да? Ну, дядя Семен, простите, я вашу бдительность хотела проверить. А теперь вижу, вы на посту и даже курить сели под щитом. Так Сергей Сергеичу и передам – граница на замке!
– Ты чего это, Танька, тут расшуршалась, как воробей в вениках? – Семен снова передвинул шайку со лба на затылок, по-прежнему глядя прищуркой, но уже без явной дремы. – Нынче праздник на дворе или как?
– Праздник, дядя Семен, праздник. День международной солидарности. Поздравляю.
– Вот-вот. А коням, значит, праздников нету?
– Это же для дела.
– Для дела, для дела… Шибко мы деловые стали… Куда ехать-то?
– Да недалеко, в Глушинку.
– Близкий свет… А кто поедет-то?
– Вот этот товарищ, из Глушинской партии.
– Этот? – Семен посмотрел на Митю, будто он был неодушевленный предмет или их, таких товарищей, было тут много. – А с конем он совладает?
– Спрашиваете! В деревне вырос, – сказала быстро Та́нюшка и оглянулась на остановившегося в нескольких шагах Митю, улыбаясь ему и подбадривая.
– Все едино – постороннему лицу упряжку доверить не имею права, – сказал Семен.
– А мне-то можете?
– Дак и ты рази едешь?.. Ну – тебе-то… Тебе можно, – как бы разрешил Семен и вздохнул отчего-то. – Но обратно ж вот ему тебя, – он кивнул в сторону нахмурившегося Мити, – доверить не могу.
– Да вы-то мне кто?! – рассмеялась Та́нюшка. – Свекор, что ли?
– Покамест нет. Но, даст бог, буду.
– Ой, дядя Семен, уморил! – Она распахнула курточку, помахала полами: становилось жарко. – Ваш Пашенька уже всех перебрал, все ему не под лицо. На городскую, видно, целит.
– Коль свои носами крутют, – Семен повернулся к нормировщику. – Вот, Вася, как нынче получается. Если красивая девка какая, дак обязательно вертлява, либо без уважительности. Раньше не таки были.
– Что в женской красоте хорошего, – сказал Вася. – Одна иллюзия.
Та́нюшка напомнила:
– Дядя Семен, мы очень торопимся.
Тот сунул руку в карман ватника, загремел ключами.
– Эх, язви вас, с вашей запряжкой. Ни буден тебе, ни праздников… – сделал вялую попытку встать, оторваться от бруса, но не смог, а может быть, просто не захотел. – Э, у меня, Танька, парализация нижних конечностей наступила, – сказал он. – Васю лучше попроси. Он в молодости грамотен по лошадиной части был, ух, грамотющий мужик.
Шапка его при этом снова упала до самых глаз. Та́нюшка обернулась, подергала Бабкина за прорезиненный горячий от солнца рукав.
– Василий Ильич, миленький, запрягите, а?
На клиновидном, гладко выскобленном лице Бабкина проступило удовлетворение похвалой, тут же сменившееся выражением суровой озабоченности.
– Жалко, нынче кони сошли со сцены, а то бы я… – Он с достоинством поднялся. – Ну пошли, молодежь, тряхну стариной, так уж и быть… Сема, где ключи-то от хомутной?
– Ты в самом деле хочешь со мной в Глушинку съездить? – спросил Митя, когда они, выехав из ворот конного двора, потихоньку, через колдобины и лужи, выбрались на главную улицу поселка.
– А как же? Ведь про твое деревенское детство я на ходу сочинила. Вроде как поручилась.
– Думаешь, я с одной лошадиной силой не справлюсь?
– Может, и нет…
– Да в моем танке их триста!
– Триста, а через овраг сел, – уязвила его Та́нюшка и засмеялась необидно. – Ну ка держи руль одной лошадиной силы!
Она протянула ему ременные вожжи, и он растерянно задергал ими, отчего жеребец недовольно выгнул из-за дуги шею, посмотрел на Митю выпуклым глазом. Корзина ходка, сплетенная из прутьев, круто покачнулась, притиснув их друг к другу, и они, борясь с чувством неловкости, охватившей вдруг обоих, замолчали.
На въезде в тайгу текла речка Терсь. Разлившаяся вода, затопив низины, подступала к самой насыпи. Лесовозная крепкая дорога, подсыпанная гравием, перескочив мост, сворачивала направо и устремлялась вверх по речке, уныривая от нее в глухой черно-зеленый пихтарник и снова выбегая на простор поймы, бело сверкающей разливами.
Вдоль дороги снега не было. Лишь в тени разлапистых пихт и елок снег стлался серым полотенцем, густо засыпанный торчком упавшими иглами – будто травка пробилась.
Конь шел бодро, уверенно, с, легкостью тащил двухколесный ходок. Сперва при каждом повороте, дороги Митя старался дергать соответствующую вожжу, при приближении к взгорку понукать коня, но Та́нюшка сказала, что без особой нужды дергать не надо, он этого не любит. Тогда Митя, опустив совершенно вожжи, с удивлением увидел, что действительно – конь идет нисколько не хуже, не сворачивает где попало, сам выбирает наиболее сухие и ровные места, на подъемах наддает ходу, на спусках притормаживает, так что он, Митя, в качестве «водителя» ему вроде и ни к чему. Тоже мне транспорт, сиди себе, чмокай губами да поглядывай. Обидно даже.
На этом отрезке, от леспромхоза до партии, Митя знал каждую ямку, но сейчас им внезапно овладело ощущение, будто с дорогой что-то случилось. Нет, дорога была та же самая, и ямки и колдобины, до краев заполненные талой водой, были на своих законных местах. И вот даже упавшая макушкой через колею пихта надоела последний месяц ему своими расщепинами – торчат, как рогатины, норовя заехать прямо в ветровое стекло, но все же что так его сильно настораживает и смущает? И вдруг он понял: тишина. Его смущала, награждая непривычными ощущениями, тишина! Сколько он мотается по этой дороге – всегда в непрерывном грохоте дизеля, в гусеничном лязге, да еще словоохотливые пассажиры рядом, без которых не обходится ни одна поездка, пытаются кричать в самое ухо, полагая, что иначе водитель не расслышит. И тишина эта была наполнена птичьим пением и гомоном – будто льется водопад серебряных камешков. Никогда бы не подумал, что здесь обитает столько пернатых, да еще таких горластых. Взлетают, перепархивают, шуршат в хвойных ветках. А вон дятел уперся крепким хвостом в сухую стволину и намолачивает клювом, как барабанной палочкой, – тоже песня! Отовсюду журчало, булькало, позванивало, наполняло воздух веселой солнечной капелью.
Та́нюшка сидела, посунувшись в уголок покрытого кошмой сиденья, вертела во все стороны головой: должно быть, любовалась окрестными пейзажами. Странная девчонка, взяла да и поехала с ним… А может, в самом деле побоялась доверить ему лесхозовскую лошадь? Вон какой он неловкий, даже вожжи держать не умеет. То они у него провиснут ниже лошадиного брюха, то под хвост попадут… А впрочем, чего тут странного, поселок гуляет, что ей делать среди пьяных. Вот братовья у нее – мужики дельные, технари, толк в машинах знают. Особенно младший, Сашка. Вот бы с кем сойтись, сдружиться… Какого он себе краба замастырил! Продемонстрировать на городской выставке самоделок – все жюри упадет. А то все гоняемся за скоростью, комфортабельностью. Прав Димка, все эти «Москвичи» и «ВАЗы» хороши, конечно, но не для здешних дорог. Димка мужик тоже ничего, лет на семь всего, наверное, старше и уже главный механик, и пьет не очень чтобы, больше хохмит да дурашничает. И жена у него… Тут он с удовольствием и подробно стал думать про Тамару. Про ее округлые в запястьях, красивые руки, затянутое в серебристую ткань полнеющее тело, ее улыбку… Представил, что не Та́нюшка сидит сейчас с ним рядом в ходке, девчонка-десятиклассница, а Тамара, молодая уверенная женщина, снисходительно-ласковая, и тут же почувствовал волнение и легкую на душе смятенность…
Дорога, виляя по берегу, все ближе подступала к речным разливам, вернее сказать – разливы подкрадывались к ней. Туго шевелящиеся струи текли вдоль насыпи, таща на себе всякий лесной мусор – порубочную щепу, гнилье и хлам прошлогодней растительности, вымытые корни, взметывающиеся в мутном потоке, как змеи.
Слева по ходу открывался широкий, заросший тальником и черемушником лог.
Верховья лога уже попадали в район горных работ партии, куда Мите приходилось ездить часто. До их Глушинки оставалось километров пять. Повиляв по кустарнику, дорога вывернулась наконец на открытое и тотчас – с разбегу – уперлась в воду. Гравийное полотно было залито метров на двадцать. По всем признакам вода была неглубока и спокойна, но Митя не знал, пойдет ли конь и надо ли его заставлять. Он вопросительно посмотрел на свою спутницу. Та решительно взяла у него из рук вожжи и легко, подбадривающе подергала ими.
– А не потопнем? – спросил Митя бодрым тоном, не желая показать перед девушкой свое беспокойство. Он вспомнил, как тянуло его тягач в дымящийся поток Кривого оврага, а он ничего не смог сделать, хоть плачь.
– Будет глубоко – сам не пойдет, – сказала Та́нюшка и озорно прикрикнула: – Но-но! Смелей давай, одна лошадиная сила!
Конь, опустив башку, понюхал воду, потянулся губами, но повод не пустил, и он, недовольно фырча, шумно побрел вперед по залитым, искрящимся колеям. Скрыло ступицы колес, у Мити противно екнуло сердце: «Все, опять искупаемся». Но конь шел, и им ничего не оставалось, как довериться его чутью и опыту.
– Ой, поплывем счас, мамочки! – Та́нюшка с напряженной улыбкой, шутливо округленными, испуганными глазами посмотрела на Митю и на всякий случаи подобрала повыше ноги.
Вода зажурчала по дну корзины, поплыли под сиденье соломинки, но тут конь неожиданно напрягся, широким махом вынес ходок на сухое.
Та́нюшка оглянулась. Поднятая со дна муть тянулась за ними ровной, как сама дорога, полосой.
– Давай-ка постоим немного, – сказала она, потянув, на себя вожжи.
– Что такое? – спросил Митя.
– А вот поглядим.
Митя тоже повернулся и стал смотреть назад, однако не обнаружил позади ничего, кроме вяло колышущейся на поверхности мути.
Лента ее стала медленно, едва заметно глазу, выгибаться в сторону верховья затопленного лога.
– Все! – засмеялась Та́нюшка и передала вожжи снова Мите. – Рули дальше, боюсь, на обратном пути нам этого места уже не одолеть.
– Да откуда ты знаешь?
– Поживи тут с мое, – с кокетливой важностью проговорила Та́нюшка.
– А много твоего-то?
– Да порядочно. Родилась тут.
– А что – может, и поживу. Мне эти места нравятся.
– Правда?
– Спрашиваешь! Меня ведь сюда никто не тянул. С одним аттестатом прикатил. Потом на права сдал, дали мне вот – атээску.
– А что значит – атээска?
– Атээс – значит: артиллерийский тягач средний.
– Военный, что ли?
– Ну да, был. А сейчас как бы в дембелях. Ну – демобилизованный. Просто мне нравится это название – атээска.
– Сам-то откуда?
– Из города, из Кузнецка. Приходилось бывать?
– А как же. У меня в Кузнецке, кроме брата Пети, тетка родная живет, и племянников куча. Общаемся.
Митя пошевелил вожжами, сказал:
– Счастливая ты.
Та́нюшка удивилась.
– Чем же?
– Родни столько. Братьев, например. Хорошие у тебя братовья. А я вот у матери всю жизнь один.
– Отца нету?
– Нету… Ушел он от нас, когда мне года четыре было. Я и не помню почти. Сейчас отчим, но я с ним не жил.
Та́нюшка деликатно помолчала.
– А наш папа умер, когда я в шестой перешла, – сказала она. – Фронтовик он был, всю войну шофером. Генерала возил. Это когда уже в Германию наши вошли, машина на мину наехала. Обоих ранило – и папу, и генерала. Из папы врачи потом всю жизнь осколочки выковыривали. После войны генерал ему письмо прислал. Оказывается, из него тоже выковыривали. Они даже стали шутливо подсчитывать, из кого больше. Получалось, что из генерала. Хотя мина с папиной стороны взорвалась. Папа смеялся: генерал толще был! Представляешь, – Та́нюшка повернулась всем корпусом, серьезно посмотрела на Митю. – Я часто думаю: убило бы этой миной папу – и меня бы не было. Значит, и меня бы убило?
– Считай, что так, – сказал Митя.
Пока Митя с Та́нюшкой разыскали кладовщика, налили из бочки две канистры масла, пока, изо всех сил погоняя коня, торопились обратно к логу, дороги через лог уже практически не было. Вся она из конца в конец, до самых кустов, скрылась под мутной и равнодушной паводковой водой. Даже и соваться нечего – глухо. Та́нюшка оказалась права.
Они оба сникли.
Вверх, повдоль лога, ответвлялась старая лесовозная колея, которой последнее время пользовались лишь буровики, перетаскивая по профилям свои вышки. Митя как-то ездил здесь на своем атээсе, развозил для буровых электростанций соляр. Не попытаться ли объехать затопленную часть лога?
Прорытая глубоко гусеницами и выглаженная массивными полозьями саней колея так не понравилась коню, что он несколько раз останавливался, поводя боками, фыркая, как бы говоря: вы в своем, братцы, уме? Куда вы меня гоните? Ходок бешено кренился, канистры ерзали, норовя выпасть, их приходилось держать ногами.
– Во штормяга! – пытался острить Митя, когда неодолимая сила инерции бросала то его на Та́нюшку, то Та́нюшку на него. Тряска в железной коробке тягача была по сравнению с этой колыбельным баюканьем.
Слева по ходу, в просветах деревьев, взблескивала вода, и взблескам этим, кажется, конца не виделось. Но отступать было поздно. Конь, умница, стал приноравливаться к немыслимой этой дороге, бешеная болтанка смягчилась. Наконец колея разделилась, они свернули по левому следу и съехали вниз по склону.
Свернули удачно. Гладь воды исчезла. Только болотистая грязь чавкала под копытами коня. Переехав лог, они косогором поднялись в пихтач и тут опять обнаружили тракторный расхлестанный след. Вскоре с левой стороны засверкало, но уже с такой силой, что в сверкании этом плавились силуэты пихт, – виной было солнце, оказавшееся теперь по ту сторону лога.
– Красиво-то как! – нарушила молчание Та́нюшка.
Митя кивнул, соглашаясь, хотя – честно – он с удовольствием бы поменял эту предзакатную красоту на приличную под ногами дорогу. Боялся: хлипкие тележные колеса не выдержат, треснут – вот уж тогда будет действительно красивая картинка!
И здесь они услышали крик. Митя быстро, вопросительно поглядел на Та́нюшку: слыхала? «Э-э-эй!» – снова долетел до них призывным голос. Митя потянул вожжи, конь остановился.
Кричали слева, со стороны лога, но в сверкающем разливе ничего не было видно, зато их, наверное, видели хорошо. Они оба спрыгнули с ходка и по талой пленочке снега, меж редкими пихтами, где меньше налипало грязи, выбежали на чистый склон.
Отсюда лог имел вид озера или остановившейся реки; там и сям торчали метелки затопленного тальника и черемушника, колыхался всякий лесной мусор. Закатная тень дальнего высокого берега доползла до середины водной глади, и на границе тени и солнечного блеска они увидели вагончик буровой вышки с трубчатой ажурной мачтой и поодаль другой, но уже без мачты – дизельную станцию.
Вокруг станции оставалась ленточка суши, а сени буровой уже были притоплены, и возле распахнутых дверей тепляка, покачиваясь, плавала ржавая, железная бочка.
На крыше буровой сидели двое. Вернее, один сидел, свесив ноги в сапогах а другой, в одних плавках, стоял, размахивая рубахой. На кронштейнах мачты ветерком пошевеливало развешенную для просушки одежду.
Митя, щурясь от слепящих бликов, вгляделся.
– Кажись, наши, – сказал он удивленно. – Сменный Соломин… с помощником Серегой Бурловым. Ну дают мужички!.. Серега! Бурла! Ты, что ли? – крикнул он.
– А кто же! – веселым, даже каким-то залихватским голосом откликнулся парень, перестав махать рубашкой. – С Петровичем вот на пару загораем!
– И давно?
– Да в ночную, гадский род, прихватило. Не заметили как! Мы тут две бочки связали, Жупиков на них выгребся, в Глушинку ушел. А мы вот загорать остались. Правда, Петрович загара не любит, говорит: чё им делать…
– Мы только что оттуда, – сказал Митя. – Никто не попался.
– Он, видать, прямой тропой пошел.
– Никого он там сегодня не найдет, гудят все.
– Да мы уже поняли! А ты чё на какой-то колымаге? Я же говорю Петровичу – это Митя-танкист, а он: ну да, такой техники у нас сроду не было!
– Я под леспромхозом в овраг курнулся, вот масло везу.
– Да ты чё?! Утоп, что ли?.. У нас только на тебя и надёжа была. Мы тут с Петровичем рассуждаем: если Митя с главбазы вернулся, то порядок, а так… Эх!..
Сергей расстроенно прошелся по крыше тепляка, опустился на корточки возле молчаливо сидевшего Петровича, они о чем-то заговорили.
– Эй! – крикнул Митя. – Сколько тут можете продержаться?
– Да мы-то хоть сколь! Как космонавты! Спальники, гадский род, только подмокли, ночью дуба дадим. А вот если станок зальет и дизель в станции – тогда его так, так и перетак!
– Ты чего лаешься? – упрекнул его Митя. – Не видишь – девушка.
– А… – махнул в сердцах парень, – у всех праздник, а тут…
– Петрович! – обратился Митя к сменному мастеру, сгорбленно и как-то безучастно сидевшему на краю крыши. – Сильно прибывает? Часа два-три продержитесь, не зальет?
Петрович, в шапке-ушанке и брезентовой мешковатой куртке, всем корпусом наклонился вниз, внимательно посмотрел на воду, будто первый раз ее видел, что-то сказал Сергею. Сергей прокричал, как бы перевел ответ:
– Прибывает дай боже! До вечера, может, и не зальет, а за ночь – уж верняк…
– Ладно! – сказал Митя и повернулся уходить.
– Чего? Чего? – парень обеспокоенно затанцевал на крыше. – Чего ты, танкист? Не понял!
– Держитесь, говорю. Если хорошо заведусь, часа через два-три буду.
– Да ты постарайся, понял! Постарайся! У Петровича-то есть за что держаться, он с утра за свой хондроз держится, а мне-то!
– А ты за Петровича!
– Я бы за твою девушку подержался, – засмеялся тот, – Слышь, Митя!
– Трепло!.. Пошли, Тань. – Он потянул ее за локоть. Та́нюшка шла и беспокойно оглядывалась, как бы спрашивая: а они не потонут?
– Девушку-то оставь – в залог! – заскулил Сергей и изобразил несколько дикарских, страстных прыжков.
– Перебьешься! Штаны хоть посуши к вечеру!
Пока Митя, разведя на полянке возле тягача костерок, подогревая в ведре масло, заливал в картер, в систему смазки, наспех отскребал двигатель от ила, Та́нюшка, переодевшись в какие-то старые одежки – кофту, брюки, – приводила в порядок кабину. Протерла стекла, приборную доску, сиденья, вытащила и вымыла подстилочный коврик. Поднимая глаза от двигателя, Митя видел, как деловито покачивается за окнами кабины плафончик ее волос; губы его трогала улыбка снисходительной благодарности. Нельзя было сделать Мите более приятного и более расположить его к себе, как оказать внимание его тягачу, его «танку». Особенно сейчас, когда машина беспомощна, по самую макушку закамуфлирована серым холстом подсохшей грязи.
Ничего! Только бы двигатель схватился! А там поглядим! Кривому оврагу больше не бывать, это уж точно.
Оставшись последние двое суток без машины, в чужом поселке, где его никто не знает, Митя ощутил вдруг свою как бы неполноценность. Он многое пережил и перечувствовал. Особенно в ту ночь, в овраге, когда он едва не околел. Кошмарная, унизительная ночь! В краю здешнего сурового бездорожья он привык чувствовать себя хозяином положения. Это чувство дарила ему машина. Даже бывалые, вечно хмурые шоферы-дальнерейсовики, встретившись в пути, высовывали руку, открывали в одержанной приветствии ладонь, и все звали его просто Митя. Он понимал: уважением к себе он также обязан ей, своей атээске, ее умной мощи и всепроходимости. Но ведь правда и то, что его предшественник, которого он сменил на водительском месте, был однажды вытащен из кабины и натурально побит, когда проехал мимо застрявшей в распадке колонны, оправдываясь тем, что от перегруза у него «разувается» гусеница. Побив шофера, нашли в его инструментальном ящике стяжной ключ, подтянули гусеницу и заставили-таки выдернуть себя из распадка.
Так что машина машиной, а человек человеком…
Наконец Митя, вымыв соляром руки и насухо вытерев их, влез в кабину, стал готовить двигатель к запуску. Та́нюшка сидела тут же, с интересом глядя, как он трогает рычаги, щелкает тумблерами, деловито крутит какой-то вентиль. Движения при этом несуетливые, уверенные, не то что давеча с вожжами!
– Ну! – сказал он, весело и тревожно взглянув на Та́нюшку. – Господи, родимая атээсочка, не помни грехи наши!.. Ты ведь, Тань, счастливая, мы с тобой это, кажется, установили (та молча улыбнулась). Видишь вот эту ручку? Это кран-редуктор. Возьмись за нее и быстро открой. Ну, смелее!
Та́нюшка, тоже почувствовав волнение и важность наступившего момента, осторожно взялась за прохладную, гладкую рукоятку внизу кабины и, зажмурившись, не зная, что же должно за этим последовать, потянула к себе.
В двигателе, в его таинственной утробе, что-то тяжело, натужно крякнуло и провернулось, потом еще раз и еще. Та́нюшка тревожно поглядела на Митю. Лицо его было напряжено.
Тогда она, закусив губу, потянула изо всех сил.
Дизель заурчал громче, с подвывом, в нем что-то стрельнуло, кабина мелко затряслась – и вот уже ровный, громыхающий гул объял всю машину и запахло выхлопными газами.
– Закрывай! – ликующе крикнул Митя, смеясь, схватил Та́нюшкину руку, и они общим усилием водворили кран на место: – Я же говорю – счастливая!
Та́нюшка, сияя глазами, будто и в самом деле двигатель завелся благодаря ее легкой руке, подпрыгнула на пружинах, сказала:
– А можно я с тобой съезжу? Сережку бесштанного помогу спасти!
– Поехали! Чего там! Спасем! – великодушно сказал Митя. – Вот только аккумуляторы подзарядим!
Двигатель рокотал на холостых повышенных оборотах, и Митя, откинувшись и разбросив по спинке сиденья руки, слушал его мощный и спокойный, мужественный рокот, как самую прекрасную и волнующую музыку; как голос прощения своей вины, которая тихо мучила его два этих долгих праздничных дня.
Потом он перевел взгляд на Та́нюшку. Она сидела рядом, в своей старой трикотажной кофте, в штанах, кончиками пальцев плавно водила по стеклышкам приборов. Она точно гладила их. У Мити было ощущение – это Та́нюшка гладит его самого. Когда она отклонялась к спинке сиденья, пышный плафончик ее волос прикасался к его вытянутой руке. Волосы были мягки и упруги.
Он спросил:
– Таня, а сколько Тамаре лет?
Она удивленно обернулась, брови ее прыгнули.
– Двадцать пять. А тебе сколько надо?
– Мне-то? Все! – засмеялся Митя и стал смотреть на нее очень внимательно. Ему почему-то пришла на память пушкинская строчка: «И полно, Таня! В эти лета…» Под обвисшим воротом ее кофты блеснула серебряная ниточка – будто лучик зажегся.
– Слушай, я все хочу спросить: что это за камень ты носишь на шее? Амулет какой, что ли? – Он, шутливо полуобняв ее, поддел пальцем нитку, легко дернул. Камушек выскочил из-под ворота, заболтался поверх кофты.
У Та́нюшки меж бровей обозначилась складочка, она слегка отклонилась, возвращая камешек на место, и он впервые увидел, как на ее лице гаснет улыбка.
– Это не камень, – сказала она. – Это папин последний осколок.
Митина рука замерла, потом медленно опустилась на сиденье.
– Прости…
Гудел двигатель. Стрелка амперметра нетерпеливо подрагивала. Ожившие приборы помаргивали светом, вентилятор отопительной системы погнал в кабину тепло. На шум дизеля вышел из дому Петр Игнатьевич, стоял возле калитки, курил, покашливал, смотрел на притихших в кабине Митю и Та́нюшку. Потом появилась Тамара в своем сверкающем, праздничном платье, упругой плавной походкой подошла, остановилась, кокетливо постучала согнутым пальцем по кабине.
– Можно мне с вами посидеть?
Та́нюшка, не открывая дверцы, приспустила стекло, высунулась, быстро сказала:
– Тамарочка, ты такая нарядная, а тут грязно-прегрязно, тут можно только в рабочем… – И засмеялась чему-то.








