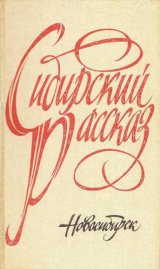
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск IV"
Автор книги: Валентин Распутин
Соавторы: Виктор Астафьев,Аскольд Якубовский,Вячеслав Сукачев,Николай Самохин,Василий Афонин,Валерий Хайрюзов,Владимир Коньков,Леонид Чикин,Николай Шипилов,Илья Картушин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
– Чего же ты, Константиныч, молчком?
В платье этом ну прямо девка молодая и краска в лице от растерянности.
– Проходи уж, проходи, подотру, – пригласила, когда Дмитрий Константинович за дверную ручку взялся. – Посиди со мной, поговори. Аль тоже боишься? – и засмеялась. – Не бойся! Давай-ка лучше сигаретку выкурим, пока моих нет. При них-то прячусь, бабка не любит. Она у меня совсем обезручила, – сокрушалась Наталья, как о родной. – Вчера уж и парила ее, и жиром растирала, а сегодня куда-то за мазью уплелась; добрая она, все: доченька да доченька…
– Так-то и будешь по домам всю жизнь? – спросил Дмитрий Константинович. Он осторожно прошел от порога и присел на подставленную Натальей табуретку, которую та предварительно рукой отерла.
– А чего мне? – Наталья присела напротив Дмитрия Константиновича на сундук. – Птица вольная.
– Сорока вон тоже вольная птица.
– По мне лучше уж сорокой. Сосед твой все синичек ловит да по рублю за штуку продает, на бутылку всегда набирает, а сорок-то не ловят и не продают!
– А как же ты все ж без мужика в такой поре живешь, Наталья?
– Почто это так? Вон на любой Родниковой, у всякой собаки спроси, и та знает про моих мужиков.
– Я про другое, – Дмитрий Константинович сидел, опершись на палку. – На улице чего не наговорят. Слышал даже, будто ты Марье недостачу сделала.
– Почему это будто? Ей тащи сколько влезет, обсчитывай, а другим нельзя? – обозлилась. – У меня все на глазах.
– Да брось ты на себя наговаривать. И чего собираешь…
– Я так ей и сказала: выведу я тебя на чистую воду. Сама сяду, а тебя выведу. Она Куркину девчонку на двадцать копеек обмишурила и глазом не повела. Девчонку дома выпороли, а она, стерва, в золоте, ходит. А правды боится.
– Из-за чего ж ты все такая колючая, а? – все любопытствовал Дмитрий Константинович. – И с бабами со всеми переругалась, и уж горда очень. Поди, и мужик-то из-за этого бросил?
– Ты бы лучше, Константиныч, про сороку рассказал, – Наталья вдруг рассердилась. – Ну, чего пристал? Я тебе подследственная? Допрос снимаешь? Живу, как хочу. – И тихо добавила: – Жизнь как выйдет, так уж и не отвернешь. Своротков, может, и много, а где он твой, попробуй угадай.
– Я что пришел, – вдруг сказал Дмитрий Константинович, – зашла бы когда поубрать в избе, постирать, заплатил бы. Сам, что ни говори, не то дело.
– И мужик, Константиныч, ты кажешься самостоятельным, а совсем, как Петро, чушь несешь. На кой ляд мне твоя плата? – Открыла печку, бросила в нее недокуренную сигарету, – Приду как-нибудь. Подсоблю. – И поинтересовалась: – Сын-то пишет? Занятой он больно у тебя, ох уж и занятой…
После того разговора, когда Дмитрий Константинович пригласил Наталью помочь по делу, она только через неделю собралась. Дмитрий Константинович, видимо, не ждал. Растерялся, стал извиняться, отговариваться, дескать, и сам он со всем управляется, пошутил тогда, много ли старику надо. Однако Наталья послала его топить баню, воды греть для стирки а сама в это время принялась за уборку.
Часа через три уже белье вывесила. Веревку натягивали они вместе, сама же за прищепками к Лешаковым сходила – у Дмитрия Константиновича растерялись все. Ужин тоже Наталья готовила – долго ли картошку нажарить, а уходя, наказала, чтобы купил прищепки, чего это по людям ходить.
И в другой раз пришла. И опять они ужинали вдвоем, Дмитрий Константинович вспоминал свою жизнь, как с покойницей дом ставили. На шахте все говорили: и чего в глухомань залазить, а он на своем настоял. Гляди теперь – глухомань. Посчитай, все его бригадники, с которыми работал, сейчас на Родниковых живут. Воздух – приволье, и до города три остановки по асфальту.
Так и стала она заходить к нему. Вечером одним Дмитрий Константинович спохватился:
– Что-то я, Наталья, тебе табачку-то не предлагаю, ты уж не стесняйся, закуривай. – Это когда он закурил, а она убирала со стола. – А то, вроде, ты меня, как своей, бабки, стесняешься.
Наталья засмеялась:
– Да я вовсе и не курю, Константиныч, это так, с горя да со злости. – И радостно добавила: – А Марью утихомирила я все ж. Ребятишек не обсчитывает теперь. Ну, баб да пьяных – черт с ней, а вот ребятишек – угомонилась. – Она засмеялась. Засмеялся и Дмитрий Константинович. Весело ему бывало в те дни, когда в доме объявлялась Наталья. Шума много становилось в его тихой избе, и потом, когда ночью вставал он курить (давно уж у него эта привычка появилась), все еще в шорохах ему слышалось это веселое эхо.
…Геннадий Дмитриевич воротился в избу, когда Григорий ушел. Наталья сидела за столом в горнице, на ней был черный с красными розами платок.
Материи – узнал Геннадий Дмитриевич, и неприязнь к этой толстозадой молодухе с большей силой вскипела в нем.
– Я ведь всего на несколько часов, – никак не называя ее, заговорил он. – Автобус у меня в пять. А еще тут дел разных. – Он сел. – Надо бы бумаги поглядеть, думаю, вы понимаете. Дело в том, чтобы еще успеть к нотариусу…
Наталья подняла голову, посмотрела в глаза Геннадию Дмитриевичу, и, как она ни была ему неприятна, не сумел он не отметить, хоть и с ненавистью, красоту ее лица. От этого он еще больше ожесточился. Припомнился последний разговор с отцом, в Междуреченске у нее.
– Ты все: старик, старик, – выговаривал Дмитрий Константинович, когда они с сыном вышли на балкой. В доме Оськина-младшего курить было не принято. – Действительно, годы не паспорт, их не потеряешь. И хочу я, чтобы ты знал, что вроде как бедою мы сошлись. Ей, беде, что старый, что молодой. Было их две беды, две разные, а теперь счастьем одним обернулись. Поначалу даже боязно было. Думал, не от корысти ли от какой пошла? А душу-то разглядел когда, а она у нее, как у малой дитяти, незамутненная, незапятнанная паскудством и срамотою. Мне теперь и помирать ровно не боязно. Не один я. В памяти ее буду жить. Любим мы, сынок, друг друга. Может, и осудишь, тебя я тоже понимаю. Мать-покойница твоя хорошая женщина была. И врать не стану, без обмана и без упреков мы с ней век прожили. А вот волнения, – старик кулаком по груди постучал, – никогда не было. «Покойно мне с тобой», – все она говорила. Думал я: так и должно быть…
– Как же так, Геннадий Дмитриевич, – не утерпела больше Наталья, вырвалась боль и в горе слезами брызнула. – Ведь не чужая я ему-то была. – Сказала и испуганно ладошкой рот прикрыла. Однако собралась с мыслями. – Как же такое смогли вы? – И протянула руку за папиросой, Геннадий Дмитриевич пачку на стол положил.
Геннадий Дмитриевич поглядел на Наталью сдержанно, потому что раздражение в нем уже злостью кипятилось.
– Сами понимаете, что старик уж, можно сказать, был не в себе, поэтому суд полностью будет на нашей стороне. Мало ли у него было сожительниц.
Наталья подняла голову. Наверное, в молодости Константиныч был такой же. Суровый, резкий. Сын очень на отца похож.
– Что вы, Геннадий Дмитриевич, какие у него сожительницы! Да он же такой человек, он, знаете, какой человек? – Горе в воспоминании, видно, чуть загородилось, вот и вышло облегчение улыбкой, быстрой, но неуместной, оттого виноватой, и сразу же она пропала. – Самостоятельный человек, серьезный, – повторяет Наталья, – и не сожительница я ему, – заявила она, – а жена. – И твердо так повторила: – Жена была… – и укрыла лицо черным платком с красными розами.
И могла бы вспомнить, если бы была в силах, как в самом начале апреля сломала она, Наталья, ногу. Разгружали ящики в магазине, она подскользнулась и упала, а ящик и придавил. Благо, больница рядом…
Дмитрий Константинович пришел на третий день к ней в палату. Вставать она не могла, нога привешена была к железяке – вытягивали кость. И она впервые заметила, какой он высокий, стройный и красивый. Она так и сказала ему, когда первая минута неловкости прошла:
– Ты, Константиныч, как доктор прямо. Солидный, Красивый. Только что не щупаешь. – Все в палате засмеялись, а Дмитрий Константинович смутился. И от смущения его, и оттого, что не знал, куда банку с вареньем поставить, вовсе развеселилась Наталья и болтала без умолку, а вся палата так хохотала, что заглянула даже дежурная сестра и предупредила:
– Кончайте концерт, не в клубе находитесь.
До конца месяца Наталья пролежала в больнице. Перед самой ее выпиской Дмитрий Константинович, а он носил передачи через день, наклонившись к подушке, чтоб никто не услышал, прошептал:
– Наташа, чего тебе у стариков делать, шла бы ко мне жить? Не все ли тебе где?
Наталья ему перед этим только сетовала, что неудобно ей перед бабкой будет, все ж человек она чужой, а по дому делать ничего не сможет еще. Нога-то в гипсе. Но такой оборот дела прямо огорошил ее.
– Как же мне тебя понимать, Константиныч? – со слезами в голосе спросила она. – Я к тебе, как к родне, можно сказать, а ты вон как поворачиваешь. Что же ты, в полюбовницы надумал взять? – Тут уж совсем разозлилась. – А вдруг не справишься?
– Да как у тебя язык поворачивается, Наталья? – зашипел Константиныч. – Видать, полюбил я тебя.
– Да за что? – Наталья только рукой махнула: дескать, уйди. Весь день и проплакала.
Дмитрий Константинович пришел за Натальей в больницу. Отвел ее к старикам, а назавтра пришел, сели за стол, и объявил, что просит он Наталью Никитичну выйти за него замуж. Когда он осторожно, нога-то не гнется, вел ее по улице к дому, все соседи высыпали. И стыдно, и горько, и радостно было Наталье. Она поднялась быстро, хозяйкой оказалась умелой, а с работы Дмитрий Константинович ее рассчитал. Зашел к ним однажды Петро, посидел, покурил, что-то про жизнь молодую спросил, но выставила его Наталья, Дмитрий Константинович и слова сказать не успел.
Соседи судили, рядили, ее осуждали, его жалели, словом, по-соседски перемывали им косточки, А Наталья, не обращая на все это внимания, лаской да шуткой обходилась со всеми. Она и сама не умела объяснить, отчего согласилась перейти жить к Дмитрию Константиновичу, что-то толкнуло ее к нему, каким-то незнакомым праздником поманил и не обманул, не разочаровал, а понес поперек молвы и хулы вместе с ней обиды и горечи, и забылись они в его сдержанной ласке, в его удивлении ею…
Ах, как она не соглашалась, уговаривала, но Дмитрий Константинович все-таки настоял на своем, и они сходили в ЗАГС, купили кольца, созвали соседей.
И пили соседи вино, и кричали «горько», а они улыбались. Она любила слушать его тихие слова, уложив голову на его плечо, когда они весенними вечерами после дневной работы сидели на крыльце. Днем они обшивали заново дом.
– Будет он у нас с тобой, как игрушка, – говорил Дмитрий Константинович.
А еще он придумал сходить за рябиной. Объявил вечером. На крыльце сидели. Руку протянул к старому дереву. Чему то засмеялся. Потом объявил:
– Надо бы и другое посадить – рябинку, а? Завтра и сходим. Вроде выходного у нас выйдет. – Они долго шли через лог, поднимались в гору, опускались опять в лог, пока пришли в перелесок, где чуть ли не до самых белых весенних облаков тянулись к небу красноствольные деревья.
Дмитрий Константинович облюбовал прутик росточком чуть повыше его, аккуратно, не повредить бы корни, выкопал, и обратную дорогу они несли его по очереди. Отдыхали, напившись воды из родника над дорогой, который так и бежит с незапамятных времен.
Геннадий Дмитриевич приехал с семьей на другой день после того, как они посадили деревце. Тогда-то в первый раз у них вышел крупный разговор с отцом.
…– Мне, Геннадий Дмитриевич, ничего не надо. Вы и не думайте, я и сегодня уйду, – говорит Наталья, утирая концом платка глаза. – Вот, если разрешите, платок возьму, память о нем… если разрешите. А вы его не знаете. Полюбовницы. Он строгости душевной был.
– Надо дарственную написать вам, – решился, наконец, объявить Наталье Геннадий Дмитриевич то, ради чего, собственно, он и приехал. – Отец завещание на вас оставил. – Ему совсем уж надоела эта бабенка, и время торопило.
– Какое завещание? Да я и не умею, – Наталья непонимающе смотрела на него, – сказала же я вам. Делайте что надо. Я хоть сегодня уйду.
– Я заготовил, – Геннадий Дмитриевич положил на стол бумагу, – только надо вам к нотариусу сходить.
– Схожу, конечно, только бы не сегодня… – умоляюще поглядела на него Наталья. – Я совсем что-то не могу, – она было улыбнулась, но губы только искривились, глаза сузились, и все лицо некрасиво изломалось.
– Конечно, конечно, – Геннадию Дмитриевичу это явно было не по душе, но настаивать он не решился. – Вот и все, и мне, правду сказать, пора.
Наталья вышла вслед за ним на крыльцо. Геннадий Дмитриевич шел быстро, твердо, и хоть не хромал, а было в его стати что-то от отца.
В конце зимы Геннадий Дмитриевич купил машину. Деньги от продажи дома они поделили с сестрой, и две тысячи, пришедшиеся на его долю, оказались к месту. Выехал он в первый раз, когда совсем уже все высохло. Прокатил свое семейство по городу, потом через Усу в Ольжерас, доехали до Распадской. Домой вернулись веселые и счастливые. Он долго оставался в гараже, а когда поздно вечером ужинали, жена ему сказала:
– Знаешь, ведь завтра родительский день?
– С чего ты об этом? – удивился Геннадий Дмитриевич. Религиозные праздники у них в доме не отмечались.
– Михайловна, соседка, заходила, сказала. Надо бы к отцу съездить. Ни разу ведь не были.
Отцовскую могилу нашли не сразу. Прибавилось около нее, затеснили. Подошли к оградке. Помешкали, прежде чем открыть калитку. Вошли. Геннадий Дмитриевич глядел на потускневший отцовский портрет, и тот, чьи черты хранила эмалированная пластинка, виделся совсем чужим.
– Когда ты посадил? – жена указала пальцем на тонкий безлистный прутик, торчавший справа у входа, у самой калитки.
– Я? – удивился Геннадий Дмитриевич. Он даже не заметил серую веточку. – Я? Нет, это не я. Это, наверно, она, Наталья, – Геннадий Дмитриевич впервые назвал имя женщины, и оно теперь неразрывно стало с именем отца, хотелось бы того сыну или нет.
У Геннадия Дмитриевича задрожало внутри. Так случается от неожиданного оклика на дороге. Идешь и вдруг слышишь – позвали. Оглянешься и увидишь очень дорогого, только совсем покинутого тобою Человека.
И поднялась обидой в душе Геннадия Дмитриевича досадная признательность к чужой женщине. Но больше всего язвило от сознания своей непоправимой вины перед отцом и еще от стыдливой нежданной зависти к нему – покойному – за пережитую на земле такую женскую верность.
К горлу тоской поднялась жалость уже к себе. Геннадий Дмитриевич по-иному совсем всматривается в отцовский портрет на железной пирамидке, и другой, не похожей на прежнюю, замерещилась ему его дальнейшая жизнь. А над могилой и над еще не разродившейся зеленью землей бился сизым трепетом день…
Владимир Мазаев
ТАНЮШКА
Всхлипывая от натуги, Митя жал педаль главного фрикциона, одновременно рвал на себя рычаги управления – темнело в глазах. Тягач с заторможенными мертво гусеницами вяло сползал по скату оврага в клубящуюся воду: три тонны груза на платформе делали свое дело.
Мелкие замусоренные волны омыли решетки фар, запрыгали по капоту и вдруг – ртутно искрясь – лизнули смотровое стекло. Двигатель заглох, понесло горячим паром, в наступившей тишине отчетливо стало слышно хищное шипение, плеск проникавшей в кабину воды.
Капитан милиции Шварченков, ехавший попутным пассажиром, судорожно дергал ручку бокового стекла, перепутав с дверной.
– Куда! – крикнул Митя жалобно, не отпуская рычагов. – В люк!
Шварченков, в черном овчинном полушубке со смятыми погонами, грузный, перепоясанный офицерским ремнем на последней дырочке, боднул годовой люк; крышка хряснула, откинувшись, и Шварченков, суча сапогами по обшивке сиденья, задыхаясь, полез вон; весело затрещал под мышками полушубок.
Ледяной обруч сжал Мите колени. Он ахнул, заболтал ногами, бросил рычаги – сунулся следом за капитаном. Пальцы, занемевшие на рукоятках рычагов, никак не ухватывали ребристый край люка.
Он сполз на четвереньках с крыши кабины на платформу и пополз дальше, по лоснящимся, скользким штангам.
Сумерки стерли четкость линий, но на кромке воды и суши дрожали такие же, как там, на стекле, ртутные искры, и было видать, что до берега метра четыре, не меньше. Там уже стоял приплясывая Шварченков, запихивал под воротник выбившийся шарф, повторял хрипло:
– Давай-давай, парень! Давай прыгай, так-перетак!..
Митя трусливо прыгнул, но не рассчитал, конечно. Лицо ожгли черные стеклянные иглы. Он закашлялся, выплевывая воду. В голове отдаленно, усыпляюще зазвенело. На мгновение стало темно. И подумал: всё, конец!
Хватаясь руками за скользкое, отвратительное на ощупь дно, стал карабкаться на берег. Шварченков потянул его за плечи, но поскользнулся на глине и едва не столкнул обратно.
Они сели на пласт подмытого дерна, захрустевшего прошлогодними сухими будыльями. Тягач отсюда, сверху, походил в темноте на полузатопленный плот. Несущиеся в невидимом потоке обломки дерева, глыбки льда постукивали по буровым штангам, которыми был загружай тягач. Хлестал порывами ветер, нанося промозглостью прелой травы, старого снега; на том берегу сиротливо шуршал голый кустарник.
– Как же ты, парень? – сказал Шварченков, отворачиваясь, тщетно пытаясь прикурить на ветру, спички ломались.
– Хрен его знает… – Митя стукнул зубами, принялся злыми рывками сдергивать с себя сапоги, с каждым рывком приговаривая: – Я ж по этой!.. дороге!.. сто раз!..
– Вот то-то и оно! – Шварченков, ругнувшись, стад бить по коробку сразу целым пучком спичек. Пламя яро пыхнуло, обуглив полпапиросы, выхватив его напряженно сжатые на мундштуке губы, с черными сверлышками зрачков растерянные глаза. – Давай выжимайся, да потопали скорее, пока не околели, – сказал он уже спокойнее. – До поселка недалеко. Там у меня родня, обсушишься… Э, да ты, брат, без шапки остался, – протянул он, всмотревшись в Митю. – Обронил, что ли?
Митя провел растопыренными пальцами по голове, волосы торчали сосульками и уже слегка заледенели. Он молча сполз с обрыва, побрел к машине. Вода сейчас не показалась обжигающей, только живот почему-то втянулся сам собой да стало стеснять дыхание.
Взобравшись на кабину, он свесился в люк, протянул руку, пытаясь дотянуться до выключателя «массы» (хотя в этом уже было мало смысла). Вода плескалась в кабине, как в ванне, на уровне приборного щитка. Это было неправдоподобно и дико, хоть бейся лбом о железное ребро люка. Слабо мерцала на щитке, умирая, какая-то лампочка.
– Не нашел, что ли, шапку-то? – озабоченно спросил Шварченков, когда Митя вернулся.
– К-куда тал, – сказал Митя. – Жалко, ч-черт. Почти что новая, тридцатку нынче, отдал. – Он расстегнул телогрейку. – Давайте-ка выжмем, а то меня уже к-колотун берет.
Кое-как выжали телогрейку. Шварченков отдал ему свой шарф, Митя обмотал им голову на манер чалмы, и они пошли вверх по сипящему в своей глубине, булькающему оврагу.
Был предпоследний день апреля, вернее – уже ночь.
Запоздалая нынче весна давала о себе знать. Под ногами кое-где хлюпала снежная каша, а ветер дул, казалось, из самого неба, глухого и холодного, точно обледенелый колодец. Они то продирались сквозь кустарник, то шагали по бесконечным и твердым, как пни, кочкам. «Околею», – подумал Митя, ощущая плечами, всем телом сырость одежды, которая уже не грела, а лишь тяжело давила.
Только сейчас до Мити стала доходить вся жестокая, чудовищная реальность произошедшего.
– Убил машину! – сказал он сам себе с тоской и расслабляющим чувством непоправимости.
Всего какие-то минуты назад они сидели в теплой, уютной кабине. Дизель гудел рабочим уваренным ритмом, гнал в кабину горячий сухой воздух. За стеклами гулял ветер, это видно было по ряби луж: собачьим холодом веяло от низких раздерганных облаков и пронзительно-голого ивняка по сторонам дороги.
И вот ничего нет – ни тепла, ни уюта, ни уверенности и силы. Все к чертям сломалось враз, в какие-то мгновения.
Он вспомнил, как вывел машину на склон оврага, по дну его всегда тек ручей, летом – бойко, радужно сверкая донными камушками, зимой – дымясь полыньями от теплых береговых ключей. Прожекторы уперлись в непривычно широкую несущуюся гладь воды, высветили до другого берега, когда машину уже тянуло вниз по склону и она юзила, загребая приторможенными гусеницами вал грязи.
До воды, вернее, до того критического момента, когда вода достигнет сапуна и воздухоочистителя, оставались считанные секунды – секунд семь. Можно было попытаться переключить на задний ход, а там вся надежда – мощный двигатель.
Но для этого надо было немедля проделать несколько точных, безошибочных операций. И пока Митя изо всех сил выжимал тормоза, надеясь приостановить сползание, секунды прошли: двигатель, всосав воду, заглох.
Теперь Митя, расчленив в памяти эти семь секунд, увидел отчетливо, что он просто размазня – растерялся. Машина, которая никогда его не подводила, выручила бы и на этот раз, прояви он расторопность.
Он много раз принимался отсчитывать про себя до семи, все больше убеждаясь, какое, в сущности, огромное время – семь секунд! Выжать педаль главного фрикциона – одна секунда; бросить рычаги управления и врубить заднюю – две; быстро и плавно отпустить сцепление и дать газ – три, пусть четыре. И еще три секунды звонящею рева двигателя, хищного вгрызания гусеничных шпор в дорожную хлябь.
Эх, если бы вернуть эти проклятые семь секунд!
Митя даже застонал вслух, так что Шварченков, шедший впереди, обернулся, вглядываясь, окликнул озабоченно:
– Ты чего там, ушибся?
У оврага, по всей вероятности, не было конца. К нему то и дело сбегались маленькие, кривые овражки, смутно белея нерастаявшим снегом, в глубине их побулькивало. Подлые овражки! Приходилось огибать и эти дополнительные препятствия, отчего Мите стало казаться, что они с капитаном просто мотаются из стороны в сторону – на манер охотничьей собаки, потерявший след.
На полузасохших болотцах ноги путались в длинных и жестких травах. Митя несколько раз падал – сначала на колени, потом, не удержавшись, на локоть правой руки. В ноздри ему ударяло оттаявшей земляной гнилью, и что-то осклизлое, мерзкое касалось разгоряченного лица.
При каждом падении в крепко, инстинктивно зажмуривающихся глазах его вспыхивали, плыли светящиеся сетки, и он, подымаясь, мстительно шептал себе: так тебе, гад, и надо… так тебе, гад, и надо.
Повалил снег. Мокрые невидимые хлопья косыми иглами кололи щеку, с шуршаньем залепляли ухо, ледяными струйками текли с «чалмы», за воротник.
Поселок, куда они шли, казался Мите с каждой минутой все нереальней, все недосягаемей, так что и думать о нем не хотелось. Надо было еще подняться до конца этого сволочного оврага и по другой его стороне снова – только в обратном порядке – вернуться на дорогу. А уж там по дороге – к поселку.
Однако вскоре Шварченков свернул в сторону, стал спускаться по овражному склону; перед ними в темной массе кустарника обозначился просвет, что-то вроде просеки. Под ногами захлюпали жердочки, упругие порубленные ветки. Шварченков остановился, чиркнул спичкой. Спичка тут же сникла и погасла. В мгновенном свете ее можно было успеть различить неширокий ручей впереди и переброшенное через него сучкастое, с облезлой корой, бревно.
– Ну что, форсируем? – спросил Шварченков, и ветки под его тяжестью зачавкали, хотя сам он не двинулся; должно быть, только пробовал крепость гати. – Лучшего нам, пожалуй, близко не найти.
– Не знаю… – пробормотал Митя, тяжело дыша. – Загремлю я как пить дать.
– Ничего, ничего. Сперва я попробую, ты постой пока.
Капитан маячил над ручьем, согнувшись в три погибели, придерживаясь за торчащие сучья, тихо, ободряюще ругался. Митя уже поставил ногу на бревно, как впереди снова вспыхнула спичка, и он во всю длину увидел бревно – мокрые свисающие ошметья коры и блеснувшую под ними черную воду, – трусливо отступил.
– Где ты там? – подал из темноты голос Шварченков. – Давай помалу, не поскользнись. Я тут подстрахую.
Митя набрал полную грудь воздуха, словно нырять собрался, и шагнул. Однако не на бревно, а сразу в ручей, держась за бревно, как за перила. Вода была неглубокой, но пугающе стремительной, ладони скользили по округлости дерева. Митя перехватился за сучок, сучок хрустнул. Он упал на четвереньки, охнув от хлынувшей за пазуху воды и снежной каши.
– И неловкий же ты, парень, – сказал Шварченков с досадой в голосе, когда Митя выбрался на берег. – Чего же по бревну сдрейфил?
– Оступился я, один черт – мокрый весь, – соврал Митя, удрученный своим вторичным падением в воду, и тут же, стуча зубами, добавил: – Костер бы, что ли?.. А то сдохну.
– Какой костер, сухой палочки не сыщешь, капитально! Потопали быстрей, теперь мы, считай, дома…
Шварченков понимал, что с парнем плохо и что дело принимает скверный оборот. Он сейчас почти бежал, часто оборачиваясь, заставляя бежать Митю.
Небо в одной своей точке впереди внезапно посветлело, точка расплылась в пятно – проглянула ущербная луна. Ветер стих; стало заметно подмораживать.
Они давно уже свернули от оврага, шли старым пахотным полем, уставленным скирдами соломы, напрямик. Борозды при луне пестрели от только что выпавшего снега, заледенелые гребни, мягко продавливаясь, хрумкали под сапогом. Телогрейка и штаны на Мите отвердели. Мокрые трусы скрутились, жгли в паху. Он уже не думал ни о чем связно, на какие-то моменты он даже стал терять контакт с реальностью, оглох и как бы почувствовал себя в невесомости. Сначала это пугало его, однако потом он решил, что так даже лучше, экономятся силы; может быть, и совсем никаких усилий делать не нужно. Просто сжаться до предела, чтобы боль в обмерзающих руках, в паху отошла, отделилась и шла рядом самостоятельно. Он больше не в силах нести ее в себе. Только бы не потерять спину капитана. Грузная фигура его тоже кажется невесомой, легко скользит над взбугренным, оцепеневшим полем, плывет, размывается в мерцающей темени.
Встретились они несколько часов назад, на выезде из города. Капитан стоял возле пятнистой будки ГАИ с требовательно поднятой рукой. Митя знал: это автоинспектор. Однажды, еще прошлой осенью, он оштрафовал Митю – за въезд в город на заляпанной грязью машине. Штраф был пустяковый, но Митя не забыл обиды. Во-первых, он ехал из тайги, вытащив попутно несколько буксовавших на дороге автомашин, во-вторых, ему пришлось тут же, возле колонки, остановиться и битый час приводить свою атээску в божеский вид. По этой причине он опоздал на базу, пришлось ночевать в кабине, а не дома у матери, как он рассчитывал.
Увидев возле будки капитана, Митя слегка пал духом, готовясь к какой-нибудь новой пакости. Тот подошел быстрым шагом, почти подбежал, и у Мити отлегло: значит, не нарушение. Наверное, подбросить надо. Обычно инспектор, взмахнув палкой, приближается не спеша, вразвалочку, даже как бы скучая, давая возможность водителю прочувствовать меру его вины…
Сейчас капитан явно растворялся в ночи, и Митя, силясь догнать его, не замечал, что топчется на месте, тщетно пытаясь перешагнуть глубокую, закругленную борозду по краю поля. Он уже хотел крикнуть «эй!», но только судорожно всхлипнул и закашлялся, сел на земляной ком.
Капитан тотчас же оказался рядом, он и шел почти что рядом, всему виной была луна, то освещавшая поле призрачным светом, то погружавшая все в белесую мглу.
– Э, парень, – сказал он встревоженно, склонившись над Митей, трогая за плечо. – Да ты, я смотрю, совсем никуда.
Митю колотила дрожь, он не мог выговорить слова и только всхлипывал, отворачивая мокрое, в слезах, лицо.
– Эх, мать честная! – сказал Шварченков, хлопнув в сердцах по полушубку руками. – Еще километра три. Чертов овраг, увел куда! Ну ладно, подымайся, чего уж. Вон скирда, кажись. Погреемся.
Он помог Мите встать и пошел с ним вполуобнимку к скирде. Огромными охапками стал выдергивать, выдирать солому, бросать в кучу, поодаль, приговаривая:
– Ты молчишь, а мне, дураку, невдомек… Сейчас тепло будет, погоди… Дергай, дергай, не стой. Разгоняй кровь, разогревайся.
Митя тоже запустил вяло руки в скирду, но вытащил только пучочек скользких соломин – скрюченные от холода пальцы не ухватывали.
Шварченков быстро накидал кучу и поджег. Огонь весело, с хрустом запрыгал вверх, топорща соломинки, и вдруг сразу загудел столбом, сгущая и отбрасывая темноту. «А у меня и спичек нету». Митя протянул руки в самое пламя, ощущая только яростное покалывание пальцев. Повернулся спиной. Блаженное, размягчающее влажное тепло струйками потекло под одежду, пощипывая кожу.
– Раздевайся! – крикнул Шварченков. – Сушись капитально.
Митя поспешно сдернул телогрейку, разулся, встал босыми ногами на голенища сапог. От одежды запахло паром Охапки, которые неутомимо бросал в огонь Шварченков, сгорали в момент. Потрошить скирду становилось все труднее, солому за зиму точно спрессовали. Наконец Шварченков остановился возле костра, шумно вздохнул:
– Фух-х!.. Ты согрелся или нет – а я вполне. Аж лопатки взмокрели. Как зовут-то хоть? – спросил он без всякого перехода. – Хоть не хошь, а знакомиться надо. Тебя, кажется, Митей зовут?
– Ага, – сказал Митя, шмыгнув носом. Он уже чувствовал себя неловко: толстый капитан этот ради него, собственно, хлещется здесь, жжет костер, вспотел даже на собачьем холоде. Откуда он знает его имя? И за слезы свои тоже было стыдно – хоть не хотел он этих слез, даже не осознал сразу, что плачет.
– А меня – Петр. Петр Игнатьевич. – Шварченков сел на землю, стал с сопением переобуваться, поправлять сбившийся шерстяной носок. Лицо его освещал неровный и уже затухающий огонь костра. Оно было полным, слегка одутловатым, в редких ямках оспин. И если бы не погоны на плечах да герб, вдавленный в козырек шапки, да еще клок овчины из надорванного в подмышке полушубка, его вполне можно было принять за председателя местного преуспевающего колхоза.
Надев сапог, он вскочил, притопнул. «Порядок!» Потом стал задирать рукав полушубка, пытаясь заглянуть под него.
– Ого, четверть второго? Бежим, Митя, бежим. Недалеко осталось. Может, банька не остыла еще – сегодня, как-никак, суббота. Вот уж там мы с тобой отогреемся, на полную катушку.
Оказалось – в самом деле недалеко, или от передышки с обогревом сил прибавилось? Вскоре они входили уже во двор большого пятистенного дома. Хрустнули вмерзшие в свежий ледок мостки. Дом спал. В темных квадратах окон отразился, потек свет уличного фонаря.
Едва они со стуком взошли на крыльцо – дверь щелкнула, отворилась внутрь, женский голос позвал из темноты сеней:
– Ты, Петра́?
– Я, мать, – сказал Петр Игнатьевич, – Не спишь, что ли?
– Ково тут, почитай, выспалась. Думали, уж не приедешь… Ты не один, никак?








