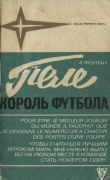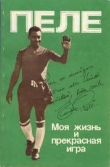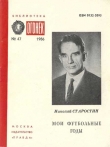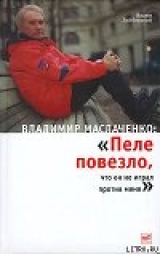
Текст книги "Владимир Маслаченко: «Пеле повезло, что он не играл против меня»"
Автор книги: Вадим Лейбовский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Его стиль
Ему выпало играть в годы бурного прогресса мирового и отечественного футбола, выдвинувшего целую плеяду блестящих исполнителей, в их числе и вратарей. Помимо, разумеется, Льва Яшина, это Борис Разинский, Валентин Ивакин, Олег Макаров, Владимир Беляев, Сергей Котрикадзе, Анзор Кавазашвили, Альберт Денисенко. Маслаченко был среди них, лучших. Лучше большинства из них. Его нередко приглашали на «сольное выступление» в другие наши команды, чтобы усилить их для участия в каком-то международном товарищеском матче – в ту пору это было принято. И такое приглашение, несомненно, было знаком признания высокого класса голкипера.
Прогрессирующий футбол побуждал Владимира вносить в игру свое личное видение, личное понимание техники и тактики вратарской игры. Например, игра на линии ворот – своего рода «альфа» и «омега» вратарского искусства. Еще ни одного вратаря не взяли в команду мастеров, если он хорош на выходах и плох на линии ворот. Часто бывает наоборот. И это самое слабое место многих. И здесь, в прямоугольнике штрафной площади – самые сложные для вратаря действия. Владимир был очень хорошо подготовлен функционально, прежде всего, благодаря занятиям многими видами спорта – другими спортивными играми и легкой атлетикой. Он стремился использовать приобретенные при этом качества в воротах и штрафной площади. Но и в этом стремлении, в этих поисках были помехи и трудности.
Он довольно рано попал в сборную страны – сначала молодежную, затем и в основную команду. И там, в сборной, в силу новых веяний в футболе бытовало мнение: атаку необходимо начинать от своих ворот. Был пример – Яшин (который, кстати сказать, не скрывал, что приемы игры на выходах он заимствовал у болгарского вратаря Соколова). Он так играл в сборной и в «Динамо». Однако в «Локомотиве» с осторожностью считали: мы еще не та команда, которая способна вести подобного рода комбинационную игру от своей штрафной площади, а потеря мяча на своей половине поля или пусть даже в центре, куда вратарь может забросить его рукой, чревата осложнениями. Вот и не стоит рисковать. А так как Маслаченко был способен выбивать мяч далеко, при желании даже до самых ворот, то такая игра ему, в сущности, и предписывалась – ногой и подальше. К тому же впереди у команды был неплохой центральный нападающий Виктор Соколов, который мог успешно за мяч побороться.
Маслаченко раньше других своих коллег убедился, что вратарь – это начало атаки. Но получалось, что теперь он сам вынужденно тормозил развитие своей же философии игры. Справедливости ради нужно заметить: не то чтобы ему запрещалось начинать атаку, но в установке на игру неизменно проговаривалось: «Вратарь выбивает мяч в поле». Так они и жили. У Н. П. Морозова вообще было кредо: «Нужно идти в ногу со временем, но на шаг сзади». Он частенько повторял это правило. И следовал ему.
Владимир понимал: так долго продолжаться не может, нужно ломать эти принципы, эти традиции. Он все острее чувствовал, что и его обкрадывают и что он обкрадывает себя. Нужно искать приемы, варианты.
И нотой взял на вооружение и развил новый прием, однажды увиденный в исполнении вратаря несильной канадской команды, приехавшей в нашу страну для товарищеских игр. Это был бросок мяча одной рукой из-за головы – крюком. Увидев такой прием в игре вратаря при встрече «Локомотива» с канадской командой, Маслаченко на следующий же день отправился на тренировку своих дублеров. Где и стал разучивать, отрабатывать новый для себя способ введения мяча в игру. Будучи хорошим баскетболистом, он быстро почувствовал вкус к новому приему. В этот день он сделал не меньше пятисот бросков. Он нашел наилучшую траекторию. Он пошел дальше канадца. Он научился подкручивать мяч так, что тот получал обратное вращение, а это должно было облегчить своему игроку прием мяча.
Первые же матчи подтвердили: вратарь уже добился успеха. Он посылал мяч партнеру на дальнюю от соперника ногу. Или на грудь, или на голову. Посылал точно. Причем так, что соперник, даже находясь рядом с адресатом, чаще всего не мог вмешаться и отобрать мяч. Теперь атаку начинал вратарь.
Потом при таком вбрасывании мяча он стал применять финты. Кричал: «Вася!» – а бросал Коле. Или кричал: «Коля!» – а отправлял Пете. И соперники на это лукавство покупались, попадались, однако поделать ничего не могли – настолько правдоподобно Маслаченко исполнял свой фирменный, единственный и никем неповторимый финт.
По правилам той поры вратарю и защитнику при ударе от ворот разрешалось разыгрывать мяч. Маслаченко вместе с Владимиром Петровым добились такого совершенства исполнения этого приема, которого не наблюдалось ни у кого во всем мировом футболе. То же самое вратарь позже отработал с Алексеем Корнеевым и Анатолием Крутиковым. Бдительные нападающие соперников ничего не могли поделать, ни разу не удалось им выкрасть мяч.
Но отдельная статья – это, конечно, игра на выходах. Когда появилась система 4-2-4, Маслаченко быстро уяснил для себя, что популярные яшинские выходы из ворот, да порой еще и с игрой вратаря головой, уходят в прошлое. Игра становится все более стремительной, подачи в штрафную все чаще направляются по крутой низкой траектории, много резаных подач, штрафная площадь оказывается более насыщенной игровыми событиями. «Парашюты» стали себя изживать.
На первый план теперь выходила быстрота мышления вратаря, понимание им игры, его стартовая скорость. Он приходил к выводу, что не всегда целесообразно ловить летящий мяч. И не потому, что в толкотне его можно выронить, а потому, что на этом можно потерять время. Он говорил себе: «Если ты можешь даже в безопасной ситуации – когда соперник тебя не атакует – ударить кулаком по летящему мячу, причем прицельно, точно, тот тем самым ты имеешь возможность начать раннюю атаку, когда соперник к ней не готов, и обезоружить его». Разумеется, к этому мгновению вратарь должен моментально прочитать обстановку на ноле. Маслаченко стал действовать именно так. Через много лет его товарищ по спартаковской команде Геннадий Логофет скажет по телевидению: «Так, как Маслаченко действовал на выходах, в нашей стране не играл ни один вратарь».
В это непросто поверить, но он первым из наших вратарей при отражении мяча, летящего в ворота, стал играть ногами, хотя традиционно было принято считать, что сие не есть высокий вратарский стиль. Вратари знают, сколь коварен мяч, летящий в ворота рядом всего в полуметре или метре от тебя. Казалось бы, он нетруден, но это не так. Вратарь попросту не успевает «сложиться». Статистика показывает, что именно такие мячи часто бывают голевыми.
И вот Маслаченко решил попробовать сыграть, как хоккейный вратарь, – ногой. Причем если мяч точно отбить, то можно направить его своему полузащитнику или нападающему и тем самым начать неожиданную атаку. Случалось, что он не ловил даже мяч, летящий низом к нему в руки, пусть и в безопасной обстановке. Он отбивал ногой, но – своему. Начал отрабатывать такой прием на тренировках, и вскоре этот прием стал одним из его фирменных знаков. Раз в Алма-Ате нападающий «Кайрата» Остроушко бил ему в упор с четырех метров. Казалось, шансов никаких. Но он успел подставить ногу и отбил. Спартаковцы тот матч выиграли – 1:0. Но однажды в Киеве он пропустил прекрасно пробитый Андреем Бибой именно «ближний» мяч. В тот момент он словно забыл про новый отработанный прием и «сложился». Опоздал, и тот гол стал единственным в матче. Непростительный гол.
Интересно, что в разработке приемов и тактики вратарской игры никто из наших тренеров участия не принимал. Правда, теперь уже Маслаченко никто не мешал так играть. Позже старший тренер «Спартака» Никита Симонян говорил во время установки на игру: «Мы должны стремиться начинать атаку от своих ворот. Володя вводит мяч в игру. Так мы начинаем атаку».
Маслаченко превратил тренировку вратаря, методику его подготовки в почти культовое понятие и действие – ничего подобного ранее у нас не разрабатывалось, не создавалось. Он пришел к выводу, что за полтора-два часа тренировочных занятий команды даже одаренный и старательный вратарь при существующей практике подготовки будет прогрессировать медленно. И потому во вратарской подготовке все нужно менять. Что он, в конечном счете, и сделал и сам же на себе испробовал. Он использовал свои знания анатомии и физиологии, собственную практику и опыт. Много позже Валерий Лобановский попросил у него своего рода небольшое методическое пособие для тренировки вратарей киевлян. Маслаченко согласился, но с оговоркой: «Я должен сам следить за тем, как они будут выполнять мои рекомендации». Так они и не договорились.
Однажды (во время полета над Атлантикой в самом центре Бермудского треугольника) старший тренер «Зенита» Юрий Морозов предложил ему: каждый месяц Маслаченко приезжает в команду на десять дней и занимается по своей методике с вратарями. Но тот уже активно работал на телевидении и сказал, что не сможет выкроить для этого время. Морозов настаивал, сообщил, что с этой просьбой к Сергею Лапину (председателю Гостелерадио) обратится сам Григорий Романов (первый секретарь ленинградского горкома партии, член Политбюро ЦК КПСС). Но Маслаченко так и не согласился. Он уже был с головой в телевизионных делах и не мог раздваиваться.
Он охотно и умело руководил игрой своих ребят. Это было актуально, так как в ту пору контакт игроков и тренера команды был затруднен, ибо место тренеру отводилось на трибуне. Вратарь в ходе игры мог внести перестановку в персональной опеке. Если, к примеру, кто-то не справлялся со Стрельцовым, Маслаченко прикреплял к нему другого опекуна.
А как он руководил обороной! Л как заводил своих, вселял в них боевой дух! Однажды в матче против торпедовцев он так их накачал, что ребята, проигрывая, переломили ход игры, сравняли счет, а потом забили решающий гол. Мэтр советской спортивной журналистики Юрий Ваньят, он же известный приверженец автозаводцев, разрешился тогда на страницах своего «Труда» пространной хулой в адрес спартаковского вратаря: тот-де орал на своих громче всех болельщиков вместе взятых.
Вскоре спартаковцы играли в Ворошиловграде против местной «Зари». И опять поначалу проигрывали. Но снова голкипер взял игру в свои руки и довел ее до победного итога.
Все в одночасье изменилось. Завершилась, как– то сразу оборвавшись, целая эпоха в его жизни. В свои неполные тридцать три он полагал, надеялся, верил, что будет играть в большой футбол еще лет семь-восемь. Причем оставаясь среди лучших, на уровне сборной страны. Конечно, если не вмешается серьезная затяжная травма. Такому строю мыслей и состоянию духа способствовала достаточно трезвая самооценка: он проживал в тот период свои лучшие годы на иоле, был в отличной форме, он не устал, не утратил свежести и чувства радости, приносимого игрой. Он был строг к себе, не имел вредных привычек и склонностей, усердно тренировался и вообще тщательно и всесторонне поддерживал свое боевое состояние, что, несомненно, способствовало бы долгой жизни на поле, будь она желанна и востребована. Вдохновлял и пример Льва Яшина, который приближался к сорокалетию, но по-прежнему был в порядке.
Владимиру Маслаченко пришлось завершить большую игру на девять лет раньше. В полном здравии. Напомню, что произошло это в начале 1969 года, когда он узнал, что в «Спартак» из «Торпедо» переходит Анзор Кавазашвили, на которого старший тренер Н. Симонян решил сделать ставку в роли вратаря в предстоящем сезоне. Маслаченко тут же подал заявление об уходе.
И Гранаткин предложил
Он пока еще не знал, чем займется, в каком направлении продолжит свою дальнейшую жизнь. Знал только главное: другой команды у него уже не будет никогда. Он предвидел, что заманчивых предложений из других клубов получит немало, так и оказалось. Однако давно, задолго до этого, и навсегда он решил, что свою жизнь на футбольном поле завершит в московском «Спартаке». Мечта эта родилась у него еще в юношеские криворожские годы, верность ей он пронес через всю жизнь.
Он бережно хранил в себе спартаковский дух, чтил традиции команды. Он не предал свой «Спартак» даже тогда, когда команда «изменила ему с другим». Гордостью наполнял душу красно-белый цвет. Она же уберегла его от разборок, от выяснения отношений с начальником команды и старшим тренером: что же произошло? Он ничего не стал выяснять. Он не хлопнул дверью, а, попрощавшись, тихо затворил ее. Но поступил так не из соображений рациональной целесообразности, а просто и в этом случае остался самим собой, полагая, что чувство собственного достоинства – самое рациональное и плодотворное качество человека во всех ситуациях, положениях и состояниях. Правда, через год с небольшим Старостин предложил ему вернуться в команду, объяснив, что, несмотря на новенькие золотые медали чемпиона страны 1969 года, в команде складывается неблагоприятный моральный климат и что он, Маслаченко, своим авторитетом и влиянием сможет способствовать нормализации отношений в коллективе. Тот, однако, предложение не принял, у него уже были другие дела.
Он тогда заканчивал учебу в Институте физической культуры. В этом вузе в то же самое время была организована элитная группа, в которую для прохождения курса высшей квалификации включили самых известных тренеров. В порядке исключения в состав слушателей курсов ввели свежего выпускника Владимира Маслаченко.
У него, правда, возникли некоторые затруднения, связанные с материальным обеспечением собственной семьи. Согласно действовавшему положению ЦК профсоюзов, футболисту команды мастеров, завершившему выступления на поле, поучившемуся в вузе, сохранялась профсоюзная стипендия вплоть до окончания учебы – за счет бюджета самой команды. Однако администрация профсоюзной команды «Спартак» исполнять этот святой долг не стала. Может, решила, что «гонорары» от игр за команду ветеранов советского футбола, в которых порой участвовал бывший вратарь «Спартака», с лихвой перекрывают скромную профсоюзную стипендию? И лишь когда об этой неосведомленности спартаковской администрации узнал руководитель профсоюзного спорта Николай Ряшенцев, когда он удивленно поднял брови на Николая Петровича и произнес соответствующий монолог, тот незамедлительно исполнил свой долг.
Но вскоре в жизни моего героя произошло два знаковых события, каждое из которых имело все основания определить дальнейшую судьбу человека, стоявшего на развилке дорог. Его пригласил к себе на беседу председатель Федерации футбола СССР и вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин. Оказалось, что он знает о Владимире буквально все. Даже то, что в играх ветеранов тот показывает прекрасную игру. Улыбнулся: «Не хочешь ли вернуться в большой футбол? А то у меня на тебя столько предложений… Ладно, тогда будем говорить дальше. Итак, тебе предлагается поступить на десятимесячные курсы по углубленному изучению иностранного языка – по восемь часов занятий в день. По окончании учебы мы направим тебя на работу в одну из развивающихся стран…» Отказаться от столь соблазнительного предложения было и грешно, и неразумно. Он понимал, что его жизнь в радиожурналистике еще только начинается и неизвестно, как в ней все сложится. Да и сложится ли вообще.
Впрочем, о ней, о радиожурналистике, рассказ я, кажется, еще не начал. Так что пора. По привычке и потребности, если время позволяло, Владимир ездил иногда на футбол. И однажды столкнулся с Н. И. Озеровым. Тот торопливо спросил, как дела и чем он занимается. И, кажется, не особенно вникая в ответы, предложил: «Пойдем сейчас в комментаторскую кабину, там поговорим перед микрофоном – экспромтом». Теперь уж не вспомнить, какой это был матч. Но Озерову беседа понравилась, хотя и длилась она всего минут семь. Потом они еще раз встретились у микрофона.
Первые слова
Затем ему позвонила Светлана Ломакина, технический редактор отдела спорта радио «Маяк», ему выписали портативный магнитофон. Он стал приезжать на матчи чемпионата страны, входил в комментаторскую кабину и вел репортажи на пленку. Потом сам предложил Озерову: «Давайте вместе прослушаем мои записи». Тот согласился. Они включили магнитофон. Через пятнадцать минут Озеров прервал: «Достаточно». Высказал свои замечания. Больше Николай Николаевич в жизни и работе Маслаченко-комментатора участия не принимал никогда. Когда Маслаченко спрашивают: «Правда ли, что Николай Озеров был вашим учителем в радиожурналистике?» – он не возражает. Однако, положи руку на сердце, согласимся с тем, что на фоне нынешнего поколения блестящих, умных, всесторонне эрудированных, глубоко знающих предмет комментаторов, таких, как Уткин, Черданцев, Андронов, Гусев, Розанов, Казаков (дабы не получить упрек в пристрастности, давайте в этом ряду Владимира Маслаченко вообще упоминать не будем), Николай Николаевич был бы малоинтересен. Он даже не пытался прочитывать футбольную игру. Он мало что понимал в тактике. Он никогда не позволял себе шуток. Он просто передавал в эфир то, что видел сам. То, что видели на экране все. Его любило высшее руководство страны – видимо, еще и потому, что долгое время он занимал едва ль не весь футбольный эфир, других гам словно и не было. Сравнивать его было не с кем.
В памяти народа остался всеми любимый Вадим Синявский. Но мне кажется, что сравнивать его с Озеровым нельзя: Вадим Святославович работал в дотелевизионную пору, через радиоэфир он великолепно, добросердечно и остроумно вносил в наш дом атмосферу стадиона. Он достаточно тонко понимал игру. Когда Маслаченко начал работать в эфире, Синявский обстоятельно поговорил с ним. И благословил. А Николаю Николаевичу отдельное спасибо: ведь началось-то все с него, именно он «вбросил» в эфир нашего комментатора Владимира Маслаченко, который это свято и благодарно хранит в памяти.
И вот настал день, когда в кабину Маслаченко, привычно комментировавшего на магнитофон очередной футбольный матч, вошла целая команда всем нам известных товарищей во главе (или лучшем скажем, в числе) которых был Шамиль Мелик-Пашаев, заведующий отделом спорта «Маяка». «Володя, – сказал он, – у меня есть несколько замечаний по вашим репортажам. Но об этом поговорим позже. Я хочу вам предложить перейти к нам на постоянную работу в штат».
Маслаченко сказал, что готов с радостью принять это предложение. Однако в настоящее время он учится на курсах французского языка, чтобы по окончании учебы уехать работать за границу тренером, и что права отказаться от учебы у него нет: повязан соответствующими документами и уплаченными за него деньгами.
Однако, выяснив, что сроки отъезда еще не определены, что но окончании учебы Маслаченко просто перейдет в резерв соответствующего отдела ЦК КПСС, Мелик-Пашаев все-таки оставил свое предложение в силе. «Давайте начнем работать уже сейчас», – сказал он. Они ударили по рукам. На другой день молодой комментатор явился на Пятницкую улицу в отдел кадров.
Началась другая жизнь. Ему явно повезло. Он оказался в коллективе, где царил дух доброжелательности, уважения и взаимопомощи. Где не было склок и интриг. Впрочем, всему этому было важное «извиняющее» обстоятельство: здесь работали высокие профессионалы, истинные мастера радиожурналистики: Владислав Семенов, Борис Губин, Владимир Писаревский, Анатолий Малявин, Владимир Марканов, Владимир Рашмаджан, Нина Еремина, Роза Крайнова. А Мелик-Пашаев был лидером истинным – профессиональным, духовным и харизматическим.
Однако на Старой площади и в Федерации футбола про Маслаченко не забыли. Через год его вызвали и предложили – Кувейт. Он согласился. Его не смутило даже то, что страна англоязычная, он знал свои способности к языкам, был уверен, что через короткое время заговорит и по-английски. Радовало то, что оговоренный срок командировки – всего три месяца. Значит, через каких-то три месяца он вернется и продолжит работу в эфире. Он вступил в полосу удивительной жизни.
Длительная командировка за границу предвиделась, подразумевалась заранее. Не нужно было принять как неизбежность и отработать добросовестно, а значит, с удовольствием. Впрочем, он так всегда и делал.
Но странное дело – время шло, неделя за неделей, потом потекли месяцы, а все оставалось на своих местах – и Кувейт, и Маслаченко, и чиновники. Много позже один знакомый дипломат, работавший в Кувейте, сказал ему: «Мы вас так ждали. Я даже рассказывал о вас по местному телевидению». В общем, эта командировка так и не состоялась – сыграла свою роль обычная бюрократическая косность советской чиновничьей канцелярии. И все. И ничего более. В результате наша страна потеряла это место в Кувейте. А Владимир Маслаченко безо всякой печали остался на своем – в эфире. Уже в прямом.
Это сейчас прямой эфир на радио и телевидении мы воспринимаем как данность – а как же иначе? А вот так, как было в совсем еще свежей памяти времена, когда допуск к работе в прямом эфире являлся своего рода сертификатом высокой надежности радиожурналиста, его абсолютной лояльности к строю и власти, «верности идеалам». Это как на режимном предприятии получить допуск к работе с документами с грифом ОВ – «особой важности». Излишне говорить, что первым условием такого допуска было наличие билета члена КПСС, причем с незапятнанной учетной карточкой. Получение права на работу в прямом эфире было всегда событием в профессиональной биографии сотрудника радио.
В общем, Владимир продолжал работу. Он вел футбольные репортажи, готовил и выпускал информационные программы. Иногда на несколько дней уезжал для участия в матчах ветеранов. Это были поездки по всей стране, подчас по самым удаленным ее уголкам, куда ему в иное время никогда б и не выбраться. Это было интересно и познавательно. Это было общение на поле и вне его с бывшими партнерами и соперниками. Не умолчим здесь и об оплате труда, хотя и в скромной, а подчас специфической форме.
Как-то на Камчатке они за две недели провели одиннадцать матчей. Играли иногда не на футбольных нолях, а просто на мало-мальски ровных площадках. Однажды, в колхозе-миллионере, вместо футбольных ворот поставили нарты, а вместо денег ветеранам выдали по мешку крабовых и других экзотических консервов. В другом колхозе гонорар выплатили красной рыбой, а после заключительного матча игроки получили по брикету мороженого морского гребешка и трепангов. На следующий день они вылетали домой, и Алексей Петрович Хомич задумал довезти продукцию до Москвы. В полете морепродукты стали оттаивать, и запах распространился по всему салону. Тогда бортинженер открыл багажный отсек, куда и переместили товар, дальнейшая судьба которого уже не прослеживается.
Отправляясь в очередную поездку с командой ветеранов, Владимир брал с собой магнитофон «Репортер» и, как правило, привозил один или несколько сюжетов о жизни физкультурных коллективов на местах. Материалы неизменно выходили в эфир. В общем, Владимир Никитович время напрасно не тратил. Важно и то, что участие в играх позволяло ему поддерживать спортивную форму. Это было нужно еще и потому, что он почти наверняка знал: недалек тот день, когда придется собрать чемоданы и отправиться за рубеж работать тренером. А значит, выходить на иоле и играть. Между прочим, едва ль не после каждого такого турне он получал очередное предложение вернуться в большой футбол, занять место в воротах команды класса А.
В другом, не безызвестном ведомстве о нем действительно не забыли. Пришел час, и его снова вызвали и предложили: республика Чад, что находится в Центральной Африке близ самого экватора. 5 марта 1972 года, в день своего тридцатишестилетия, Владимир Маслаченко с женой Ольгой Леонидовной отбыли в место командирования. Перед отъездом продали старенькую «Волгу», купили мебель и вспорхнули с чувством необыкновенной легкости, ибо ни в сберкассе, ни в домашней заначке не осталось ни единого рубля. Таков, стало быть, один из текущих на то время итогов жизни и семнадцатилетней футбольной карьеры одного из лучших футболистов страны Советов.