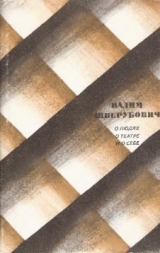
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
Как актер Стахович был… вернее, он просто не был актером. Это была маска аристократа, живое амплуа. Лучше всего он играл Степана Верховенского в «Николае Ставрогине» – там он был самим собой. В Репетилове он был тем же Стаховичем. В Дон Карлосе («Каменный гость») он был ужасен – вялый барин, петербургский лев, а не сжигаемый пламенем любви и ненависти испанский гранд.
Мы (дети, юноши и девушки) ненавидели его за постоянную фразу: «Это не для молодых ушей», – после чего нам приходилось оставлять комнату. Могли же другие отложить рассказ, дождавшись, когда мы сами уйдем, или завуалировать его. Прислугу он умел не замечать или «дружить» с ней так, что это получалось обиднее хамства. Он считал, что великолепно умеет обходиться с «людьми», что они его любят и преданы ему, – это они ему блестяще доказали в апреле 1917 года, разгромив его имение в Орловской губернии.
Революция была для Стаховича и экономической и моральной катастрофой – ему во всех смыслах стало нечем жить, она его опустошила и выжгла. В возможность, в свою способность стать профессиональным актером, живущим на свой заработок, он не верил, а уехать за границу и жить на содержании у брата или сына – не хотел. В марте 1919 года он повесился.
Спасское – имение Ливенов, где он нас устроил в 1908 году, было барским имением англо-русского стиля. Дом-дворец в пятьдесят-шестьдесят комнат, с несколькими террасами, галереями, балконами; перед ним – круглая, диаметром в двести саженей, поляна с подстриженным газоном. По ее окружности проезжали лошадей их завода, которых готовили к бегам. Недалеко от дома была идеальная (лучше, чем в Санкт-Петербургском яхт-клубе, как говорил Стахович) теннисная площадка. В конюшнях для господских выездов и для верховой езды стояло двадцать пять – тридцать лошадей. В оранжерее росли орхидеи и ананасы. Вокруг дома был парк, в котором были «руины замка», специально построенные в начале прошлого века. В середине пруда был остров, где во времена крепостного права играл оркестр.
Имение было старинное, но дом-дворец все время модернизировали, все в нем и вокруг него было новым, нарядным, дорогим, первосортным. Хозяева, видимо, не были «разоряющимся дворянством», скорее они чувствовали себя благополучными английскими лендлордами викторианской эпохи.
Нам сдали (как это ни странно, за довольно дорогую плату) домик, в котором жил прежний, женатый управляющий. Теперешний управляющий был холостым, и его поселили в комнату при конторе. Домик был каменный, с водопроводом и теплой уборной, комнатах о шести, с огромной террасой. Жили той же компанией – семья Эфросов и Смирновых и наше семейство с тетей Сашей и моей двоюродной сестрой Верой.
Гостили у нас Надежда Ивановна Комаровская со своим мужем – художником Константином Коровиным. Он писал у нас на завитой хмелем террасе, а Надя Комаровская в красной шелковой кофте позировала ему для пятна-контраста. Ходили к нам в гости и молодые жильцы из дворца – Андрей, Петрик, Машенька, красавица Дженнинька и шестнадцатилетняя Драшка (Александра) – дочери Стаховича. Думаю, что им было у наших скучно: ни спорта, ни спирта, ни флирта у нас не было, а споры о Шопенгауэре, Скрябине, Врубеле и Ленском им были неинтересны. Пришла как-то и сама «светлейшая» княгиня Ливен, села на террасе, сделала широкий жест и… разбила синюю стеклянную вазу, очень смутилась и велела мне с ней идти во дворец, чтобы прислать со мной другую вазу. Я пошел. Она ушла в дом, оставив меня, в холле. Через несколько минут ливрейный лакей вручил мне серебряное кашпо с металлопластикой. Лакей постучал пальцем, чтобы я услышал звон, и сказал: «Серебро. Небось их светлость дрянь разбили, а отдают!.. Ведь это какая вещь, ведь это капитал!» И вздохнул. Я чуть не заплакал и не убежал, но побоялся демонстрации. Дома я ничего не рассказал, тоже боялся демонстрации, которую могла бы устроить мать. Только зимой рассказал и оказался прав, что молчал, – мать вышла из себя от обиды даже через полгода после происшествия. Отец смеялся: «Лакей же нахамил, а не она, а если бы сказать – ему была бы неприятность. Молодец, что смолчал и там и дома. Вообще хамить нельзя, а стерпеть хамство можно. Даже хорошо. Потом хорошо будет вспомнить, что тебе нахамили, а не ты. А вот если нахамишь – потом тошно бывает на десять лет».
Для меня это лето было знаменательно и памятно тем, что в его середине от нас ушла моя фрау Митци.
Смирнова и Эфрос увидели, что она лупит меня по щекам, и, несмотря на то, что я отрицал это, наши поверили им, а не мне, и ее рассчитали. Я почему-то скрывал ее методы воспитания, хотя меня родители и спрашивали, не бьет ли она меня, так как сигналы до них доходили об этом неоднократно. Скрывал я это из боязни скандала, из страха перемен (вдруг другая еще больнее будет бить) и, как это ни дико, из… любви. Да, я ее, мою тиранку, очень любил и боялся ее лишиться.
Зиму 1908/09 года помню плохо. Праздновался десятилетний юбилей театра. Хотя Василий Иванович был поистине ведущим, как теперь говорят, актером (тогда говорили «премьер»), то, что он не был основателем, ему дали почувствовать. Он был этим очень огорчен. Кроме того, он был очень обижен за мать. Ее как-то уж очень формально приглашали на празднество. Она совсем не пошла, да ей и не хотелось показываться хромой, с палками, «жалкой калекой», как она говорила.
Как прошли юбилейные дни – я не знаю, об этом у нас дома не говорили совсем. Стахович, который пришел приглашать отца и мать на какой-то из юбилейных банкетов, был встречен очень неприветливо не только матерью, но и Василием Ивановичем. Он потом сказал Марии Петровне: «Ils m’ont traité comme un chien» («Они обошлись со мной как с собакой»).
В доме было уныло, мать очень тяжело переносила свое положение калеки. Ей стало лучше, она уже ходила просто с палочкой, но и это ее терзало. Бросалась в изучение то английского языка, то шахмат… Отец очень много работал, и репетировал, и играл, и начал выступать в концертах со стихами и прозой. Проверял свой репертуар очень охотно на мне – не скучно ли мне его слушать, особенно помню «Ярмарку в Голтве» Горького и «Рассказ переплетчика» – не знаю чей. Мать тоже готовила концертный репертуар – хотела попробовать недоступную ей сцену заменить эстрадой и стать чтицей, но и сама была недовольна собой, и у отца все-таки хватило мужества раскритиковать ее. Она и плакала, и приходила в отчаяние от его критики, обвиняла его в жестокости («Отнимаешь у человека последнюю надежду, вместо того чтобы помочь»), но все-таки поверила ему и работу прекратила.
Летом 1909 года мать поехала в Вену, к мировой знаменитости – хирургу, профессору Лоренцу. Он сделал ей бескровную, но невероятно болезненную операцию – выломал и вытянул из тазобедренного сустава ногу. После этой операции она должна была шесть недель быть в гипсовом корсете. Эти шесть недель мы с ней (сначала только я и бонна, а потом и отец) прожили в Чехии, в крошечном городке – местечке Босковиц. Состояние у матери было мучительное – почти полная неподвижность и, главное, невыносимая для очень самолюбивой и гордой матери зависимость от окружающих. Она ничего, буквально ничего не могла сделать сама, а моя помощь, которой она была вынуждена постоянно пользоваться, ее безумно раздражала – я был исключительно неуклюж, неловок и туп. Она плакала от беспомощности и от моей тупости, я – от стыда. Улучшения операция и гипсовый корсет не принесли, и мать уехала с той же хромотой.
По дороге в Москву мы заехали в Вильно, чтобы повидаться с дедом, он был уже очень плох, перенес удар и едва ходил и говорил. Позднее мы его уже не видели – через год он умер.
Сезон 1909/10 года принес отцу один из самых грандиозных успехов в его актерской жизни. Он сыграл Анатэму. Пьеса даже и тогда казалась плохой, псевдоглубокой, с претензией на философскую проблемность, но образ дьявола, страдальца и богоборца, перевоплощавшегося в дельца, очевидно, как-то на редкость удачно «лег» на актерские данные отца. Это был триумф. Не знаю, что писала пресса, но помню заплаканного, с красным носом, с мокрыми от слез усами Н. Е. Эфроса, который прибежал к нам прямо из редакции «Русских ведомостей» утром, когда еще родители спали, как он схватил меня на руки, целовал и приговаривал: «Твой отец гений, гений твой Вася!» Правда, потом он ругательски ругал Андреева, и театр, и рецензентов, хваливших автора и пьесу. Но отца он ценил предельно высоко.
Другим свидетельством успеха отца была реакция обучавшей меня французскому языку усатой испанки м‑м Перера, которая приходила ко мне в двенадцать часов дня и оставалась с нами обедать; так вот, после того как она посмотрела «Анатэму», она, увидев отца, побледнела, закрестилась и, бормоча какие-то не то молитвы, не то заговоры, ушла домой и за стол с отцом не садилась недели две. Она говорила, что у нее сжимается сердце, когда она видит его руки, его пальцы дьявола – «ses doigts crispés du satan», – на которых она видела длинные черные когти. Когтей не было, их сочинила суеверная фантазия старой испанки, учившейся в иезуитском монастыре, но грим был действительно необыкновенно удачен. Изменены были весь череп, шея, грудная клетка, кисти рук. Лицо было преображено и гримом и долгим трудом выработанной мимикой.
Я спектакля не видел, слышал только сначала дома, потом в концертах монологи из него. Мне они никогда не нравились, и, когда я признался в этом отцу, он сказал, что я прав, что у меня правильный вкус, потому что это все дешевка, трюк и кривлянье, что и Константину Сергеевичу это все тоже не нравится, – «можешь этим гордиться».
В том же сезоне отец сыграл Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты». Успех тоже был огромный, может быть, только у другой несколько публики. «Анатэма» нравилась студенческой и философствующей молодежи, читателям Мережковского и Розанова, молодым ницшеанцам и штирнерианцам, членам клубов самоубийц, девицам-садисткам и т. п. московской накипи. «Мудрец» был козырем для поклонников МХТ: «Вот и Островского они играют лучше, чем в Малом». Им восторгались и интеллигенция и буржуазия. Успех Василия Ивановича был огромен. Кроме актерского успеха он имел еще и грандиозный «мужской» успех – он был очень красив, очень по-мужски обаятелен в этой роли. Поклонниц развелись стада, не только ему, даже и мне не давали прохода – «Твой папа красавец», «Божество, вот что такое твой отец», «Аполлон», «Дионис»… Мы выходили из дома черным ходом. Телефон был засекречен – его не было в телефонной книге, его не сообщала справочная, и все-таки номер меняли по два раза в год (у матери была такая запись в телефонной книжке: «Телефонный господин Карл Иванович» – это был кто-то из начальников телефонной станции, который устраивал этот обмен).
Как позже выяснилось, одна из наших горничных продавала поклонницам поношенные носки отца по десять рублей за носок, по двадцать пять рублей за пару. Его носовые платки ходили по пятнадцать-двадцать рублей, окурки – по рублю за штуку.
Отец и этой своей («На всякого мудреца») работой был недоволен. Недоволен тем, что не мог заставить себя быть смелым, не бояться снижения успеха, того, что «не примут». Понимал, чувствовал, что надо добиваться не успеха и «приема», а высот истинного искусства и высот истины в искусстве. Он мне говорил о сцене из этого спектакля, разрешение которой и определяло и ставило эту проблему. Во втором акте Глумов, оставшись наедине с влюбленной в него Мамаевой, объясняется ей в любви. Он ее не любит, роман с ней нужен ему только для карьеры, кроме того, он боится, что ее муж, его дядя Мамаев, может застать их. В другом театре актер играл бы обманщика, притворщика, вздыхал бы и явно лгал о пламенной любви. Отец же говорил горячо, страстно, как будтоискренне. Все мастерство его в этой сцене, за которую его хвалили буквально все (кроме… но о том, кроме кого, – дальше), заключалось в том, что его интонации звучали настолько искренно, настолько правдоподобно, что Мамаева, слушавшая его отвернувшись, могла действительно верить ему, и публика, если бы только слушала его, то верила бы, что Глумов исступленно влюблен, но публика не только слушала, но и видела то, как он оглядывается, какие тревожные и настороженные взгляды бросает на дверь… У него были глаза человека, слушавшего одновременно и себя и шаги за дверью; фигура человека, готового вскочить и принять во мгновение ока «глумовскую», выражающую готовность услужить позу. Это страшно нравилось, в этой двойственности видели высокое искусство замечательного мастера.
А Константин Сергеевич, игравший Крутицкого, несколько раз оставался на сцене и из кулис смотрел эту сцену и после нескольких спектаклей спросил Василия Ивановича: «А вам не противно, не стыдно таким дешевым приемом завоевывать успех, дешевый успех?» Я не могу цитировать Константина Сергеевича, так как не только не слыхал его слов, но и отец рассказывал лишь смысл его, Константина Сергеевича, понимания этой сцены, а через нее и всего образа Глумова, а значит, и основного смысла всей пьесы.
Глумов большой актер, он не жулик, он одержим карьеризмом, он всегда страстен по-настоящему, ему верят потому, что он, увлеченный своей целью, увлекается и каждой задачей, становящейся перед ним на его пути. Любви Мамаевой он может добиться только любовью к Мамаевой, и в момент объяснения, во всяком случае в этот момент, он «бешено», «страстно» – и как там еще говорится в роли – любит ее. Это поднимает и его, и Мамаеву, и всю пьесу.
Отец, недавний Карено, Анатэма, изучавший Гамлета и готовившийся к нему, стремился всей душой ко всякому осерьезниванию любой роли, был полностью готов к такой перестройке этой сцены, а потом и всей роли. Но… не мог. Не мог расстаться с успехом. Не мог набраться мужества отказаться от него. Это он клеймил в себе всю жизнь, «трусостью» называл он эту боязнь остаться непонятым, боязнь остаться в одиночестве, без связи со зрительным залом.
Случай с Глумовым я запомнил потому, что отец приводил его как пример и высоты требований, и глубины понимания Константина Сергеевича, и трудности актеру идти за ним. Особенно ему, такому «трусу и кокотке», говорил он. Чтобы объяснить Константину Сергеевичу, почему он не может перестроиться, он сказал, что Владимиру Ивановичу нравится то, что он делает, и то, как он это делает, и менять что-либо было бы бестактным по отношению к нему. Хотя на самом деле он был уверен, что и Владимир Иванович и Мария Николаевна Германова (Мамаева) с радостью согласились бы на это.
Лето 1910 года жили, как и обычно, с Эфросами на Влахернской платформе по Савеловской дороге (теперь станция Турист). Снимали большой дом у самого женского монастыря Влахернской божьей матери. Дом принадлежал свояченице одного из крупнейших помещиков Средней России Федора Александровича Головина. Неподалеку было и имение самого Головина с дивным парком, переходившим в глухой бор, через который протекала узенькая, но многоводная и быстрая речка Икша. Мать чувствовала себя много крепче, начала ходить без палки. Лето было хорошее. Второго (пятнадцатого) июля праздновали десятилетие свадьбы моих родителей. Приехали гости из Москвы и, конечно, остались ночевать. Было очень шумно и весело. Нас, детей – Катю, Надю (племянниц Н. А. Смирновой) и меня – под надзором «бабы Анисьи» на весь вечер отправили в деревню Свистуху к извозчику Прохору («другу» эфросовской кухарки Фени). Эту ночевку в чистой, просторной крестьянской избе на полу, на душистом сене, накрытом еще более душистыми попонами и нашими простынями, я запомнил на всю жизнь. За стеной всю ночь хрупали сеном десять или двенадцать лошадей Прохора, мычали коровы, с рассветом пели петухи.
Фенечка была необыкновенной женщиной. Она постоянно кого-то выхаживала и выкармливала: то грача со сломанным крылом, то кота, которого чуть не растерзали собаки, то собаку с перебитой лапой. К этому все привыкли. Но когда она приютила беглого арестанта с пулей в ключице и целый месяц лечила его, кормила, мыла и обшивала, пряча его в дровяном сарайчике, а к этому постояльцу еще присоединились его товарищи с воли, – хозяева перепугались, как бы эти люди не зарезали их. Фенечка упросила оставить их у нее и клялась, что они смирные и добрые ребята. Их оставили. И вот когда тем летом во всей округе начались грабежи и воровство – у нас все было в порядке, а Фенины молодцы кололи ей дрова, носили воду, ставили самовар и т. д.
Н. Е. Эфрос и Н. А. Смирнова долго спорили по этому поводу об исправлении зла добром, о непротивлении злу, о любви христианской… В конце концов все согласились, что если бы не Фенечкины питомцы, нам пришлось бы каждый день убирать все с террасы и запирать все двери и окна или нанимать сторожа с ружьем, и все-таки мы не могли бы спать спокойно.
Благодаря же Фене и ее любви к несчастненьким мы были в полной безопасности, спали с открытыми окнами и сутками оставляли белье на веревках.
В том же году мои родители познакомились с владельцами небольшого именьица, вернее, дачного участка с зимней дачей в Свистухе – семьей инженера Барсова. Впоследствии эта семья стала моей первой взрослой компанией. Мать назвала их потом «Димкины Станиславские» – я бывал у них так же часто и охотно, как Василий Иванович у Станиславских. Семья состояла из самого «инженера» – его так и звали многие, его жены Екатерины Ивановны и сына Кости. Инженер был странной фигурой. Истеричный, болезненный, с ущемленным самолюбием, с комплексом неполноценности, он со своим комплексом боролся тем, что с молодых лет вылгал себе диаметрально противоположный своей истинной сущности образ. Основой была внешность. Можно сказать, костюм и грим – он ходил, когда это было мало-мальски возможно, в коричневой из «чертовой кожи» блузе с широким кожаным ремнем, в высоких охотничьих сапогах, носил большую бороду и длинные волосы. Ходил большими шагами, поводил казавшимися (вернее, желательными ему) широкими, на самом деле щуплыми плечами. Говорил фальшиво-глубоким басом, громко откашливался, харкал на весь дом и плевал в окно. Сморкался в пальцы, вытирая после этого руки шелковым фуляром. «Истинное дитя природы», «столбовой дворянин», «коренной русак», «барин-мужик» – вот чем он хотел казаться. Любил щегольнуть немецкими непристойными стихами, строчкой из трагедии Озерова, игрой на корнет‑а‑пистоне и, главное, пением арий из итальянских опер. Фальшивил, но орал так, что синел от напряжения, от его трескучего баритона лопались барабанные перепонки, а аккомпанировала ему обладавшая слухом жена, хотя морщилась и страдала… «Понимал мужика» (они смеялись над ним), «был близок ко всякой животине», поэтому все ел в холодном виде – «ни одна скотина горячего жрать не будет», чувствовал природу – предсказывал погоду, «ноздрей чуял дождь», «ухом слышал вёдро», «горбом ощущал заморозки» – все и всегда невпопад. Говорил он так: «Похарчуй нас, мамахен!», «Испить бы кваску», «Напёрся редьки, аж брюхо трещит», «Что ж ты не жрешь? Али брезгуешь?» Ненавидел немцев, поляков, «хохлов», «чухонцев», петербуржцев, «уважал» почему-то японцев, хотя ни одного японца не видел. Из актеров ценил Сальвини и Мамонта Дальского. Из художников – Васнецова, про которого врал: «Мы с ним водки море выжрали». Говорил: «Пора на полати да храповицкого задавать, а то дюже притомился я нонеча». Жену называл «мамахен» или «Катюха».
Катюха эта была институтка-смольнянка, в восемнадцать лет выскочившая за него сдуру замуж и всю жизнь мучившаяся и стыдившаяся этого поступка. Беременная, она ездила по всей Европе, смотрела на статуи, картины и просто на красивых людей, надеялась таким способом родить сына, похожего не на отца, а на микеланджеловского Давида или на Вильгельма Телля. Сын родился действительно не похожим на отца, он был много некрасивее его, был похож (я знал его девятнадцати лет) на собственную бабушку. Зато был очень умен и добр бесконечно. Может быть, сыграло роль то, что мать его во время беременности слушала в Женеве лекции по романской лингвистике…
Екатерина Ивановна была прелестная женщина, образованная, талантливая переводчица – она переводила Бодлера в очень хороших русских стихах. Были у нее и смешные и неожиданные для смольнянки странности – она всегда и во всем жульничала: в карты с ней играть было абсолютно невозможно, даже в крокет она ухитрялась ловчить – длинным подолом юбки, в которую для этой цели вшита была проволока, она, становясь над шаром, подводила его на хорошую позицию. Приходилось обрисовывать шар на песке кружочком. Она постоянно раскладывала пасьянс, и, если незаметно следить за ней, видно было, что она передергивала карты, жульничала сама с собой.
Но все таланты Екатерины Ивановны развернулись, когда компания свистухинских «помещиков» и их гостей увлеклась спиритизмом. К ним повадился «являться» дух отца Евлампия, он был (по его словам, записанным через блюдечко) беглым монахом, расстригой, пьяницей и ёрником. Подозревать Екатерину Ивановну в данном случае было невозможно: Евлампий произносил такие изощренные ругательства, какие даже понимать не могла бывшая смольнянка, но тем не менее через несколько лет выяснилось, что лексикон Евлампия принадлежал Екатерине Ивановне. Сын ее Костя учился на физико-математическом, а потом на медицинском факультете, но, кроме того, рисовал, лепил (и то и другое совсем не плохо) и учился петь.
Я стал часто бывать у них, сначала с родителями, а потом и самостоятельно. Лет с двенадцати я стал их постоянным гостем в Москве, а на дачу к ним ездил, как к себе. Как это ни странно, но я был принят в этом семействе (вернее, в части его, то есть у Екатерины Ивановны и Кости, так как «инженер» меня терпеть не мог) за равного. Ко мне относились как к взрослому другу дома. В моем развитии, в выработке миросозерцания общение с ними и их друзьями – соседями и гостями – сыграло огромную роль.
Осень 1910 года началась для театра катастрофически – Константин Сергеевич к сезону не приехал: он лежал больной брюшным тифом в Кисловодске. Планировавшаяся работа над «Гамлетом» была отложена; срочно приступили к «Карамазовым». Я их тогда еще не читал, поэтому, когда у Барсовых приступили к чтению по вечерам отдельных глав из романа, я с огромным интересом слушал эти чтения. Образ Ивана мне не нравился – казался неясным, слишком сложным. Я имел нахальство считать, что Достоевскому средний брат не удался. Разве можно его сравнить с таким живым и страстным Дмитрием и с добрым и умным Алешей?
В «Легенде о великом инквизиторе» я просто ничего не понял. За отца я был огорчен и обижен, что ему дали роль Ивана. Думал, что, если бы Константин Сергеевич был в Москве, такого безобразия бы не произошло. Но, как выяснилось очень скоро, я был не прав – роль Ивана Карамазова стала одной из лучших в репертуаре Василия Ивановича.
«Карамазовых» я стал читать почти ежегодно и лет в шестнадцать понял (вернее – казалось мне, что понял) и оценил и глубоко полюбил именно Ивана с его «Легендой» и «Кошмаром».
Отец, как это ни странно (а может быть, это и не странно), бесконечно серьезно и глубоко работая над Достоевским, над всем романом и особенно, конечно, над философией Ивана, очень полюбив образ Ивана, вернее, сжившись с ним, – философию Достоевского, Достоевского как философа разлюбил и отверг совершенно.
В том же сезоне у отца был и еще один громадный успех – набоб Пер Баст в пьесе Гамсуна «У жизни в лапах». Мне кажется, ни одной роли ни до, ни после он не играл с таким наслаждением. Он немного стеснялся своего удовольствия от этой роли, уж очень она была сравнительно с шекспировским, достоевским, островским, чеховским репертуаром легковесна, мелодраматична, внешне эффектна, бессодержательна. Ведь даже в дурнотонном «Анатэме» были проблемы более серьезные и глубокие, чем трагедия старения и «власти жизни». Но играть человека смелого, уверенного в себе, своем праве на счастье, страстного жизнелюбца, быть хоть на сцене таким, каким хотел, но не мог быть в жизни Василий Иванович, потому что ему мешал его лабильный темперамент, освободиться от вечных сомнений и колебаний – было весело и приятно. Играл он Баста изумительно. Он был красив, мужествен, дерзок, обаятелен, он был соблазнителен (как говорили женщины). Многие считали, что он был в Басте больше Дон Жуаном, чем в «Каменном госте».
С огромным увлечением занимался Василий Иванович своей внешностью для этой роли – придумывал «коски» для увеличения роста, толщинку для расширения груди и плеч (от нее он потом отказался, она его стесняла и тяжелила фигуру, не придавая ей мощи), парик, цвет лица, нос, бороду. Даже для зубов он придумал грим – покрывал их слоем гримировального лака. Результат был отличный – фигура получилась могучая и, как говорили, «солнечная».
Весь этот сезон он усиленно занимался гимнастикой, чтобы выработать в себе пластичность походки, изучил приемы, помогавшие ему ложиться, садиться, вскакивать легко, «как ягуар».
На генеральной репетиции я почему-то оказался рядом с А. А. Стаховичем. Когда Василий Иванович давил кобру (для треска «черепа кобры» под ковер клали несколько пустых спичечных коробок), я вскочил и дернулся к рампе, и вместе со мной рванулся и Стахович. Оба мы сконфуженно сели на свои места, но крепко, видимо, забирало публику происходящее на сцене, если такая реакция никого не удивила. Потом Стахович сказал: «Вполне понятно, что Дима рванулся, я и сам чуть не вскочил», но на самом деле он вскочил даже раньше меня.








