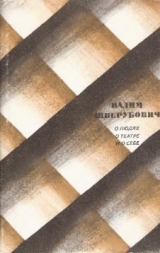
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
София
27 сентября на рассвете мы были уже в Батуме и к концу дня погрузились и в этот раз тоже на итальянский пароход – «Тренто». Но теперь мы путешествовали со значительно большим комфортом, чем на «Праге». Пароход был товаро-пассажирский, и кают на нем было очень мало. Нам дали три очень хорошие каюты. В одной поместились Ольга Леонардовна с Машенькой Крыжановской (Крыжановская была у нас единственная одинокая девушка – все остальные были при мужьях), в другой – М. Н. Германова с мужем и сыном, в третьей – Василий Иванович и Нина Николаевна. Мы, остальные, включая и Леонидова с его женой, и Сураварди, и всех, всех, поместились в большой тридцатипятиместной каюте – кубрике команды.
Итальянская команда имела два кубрика, по одному для каждой вахты. За очень скромную сумму в английских фунтах они согласились жить все в одном кубрике (все равно спит только одна вахта), и мы чудесно устроились в другом. В нем были расположенные в два яруса пружинные сетки, рундуки для сидения и тумбочки вместо столов; кормили нас той же пищей, что и команду, это было по нашим тифлисским привычкам скудновато, но достаточно вкусно и питательно. В пути мы были всего двое с половиной суток, погода была хорошая, плыли мы вдоль никому из нас еще не известных берегов Турции, заходили в Трапезунд, Синоп и еще какой-то порт недалеко от Босфора. Городки эти были жалкими, нищими, грузчики в портах выглядели голодными, истощенными оборванцами.
Наш «Тренто» принял в Синопе голов триста баранов. Страшно и жалко было смотреть, как их загоняли по десять-пятнадцать штук на веревочную сетку, края сетки заворачивались веревками, и кран поднимал высоко в воздух такую пачку, такой пучок баранов – во все стороны торчали ноги с головами вперемешку, их опускали в трюм, сгоняли там с сетки, и пустая сетка плыла по воздуху за новой порцией. После этого до конца путешествия весь наш пароход пропах бараньим салом.
Тридцатого сентября мы вошли в Босфор. В предвкушении его красот мы, уже проходившие через него шесть лет тому назад, рассказывали о садах и дворцах, украшавших его берега, но ожидало нас что-то совсем другое. До сих пор не понимаю, что это было: сознательное унижение и оскорбление русского народа в нашем лице или действительно боязнь тифа. Примерно в середине Босфора наш пароход остановили, и всем пассажирам, ехавшим в третьем классе, а также и нам, ехавшим в кубрике, велено было пройти в санпропускник.
Организовано это было в какой-то барже, стоявшей у берега, – туда на катерах свезли нас всех под конвоем местных полицейских, заставили раздеться донага, сдать всю одежду и в голом виде (женщин конвоировали вооруженные бабы-полицейские) прогнали под еле капающим тепловатым душем, потом, продержав минут сорок голыми в холодном трюме баржи, выдали прожаренную, вдребезги испорченную одежду – все было до такой степени стойко и прочно измятым, что носить ее уже не было возможно. Каждого пятого или шестого еще осматривал врач и совал ему вынутый из чужой подмышки немытый градусник…
Вернулись мы на пароход оплеванными и угнетенными. Это было первым сигналом того, что нас ожидало в Константинополе.
К городу мы подошли поздно вечером и простояли ночь на рейде. Мы с Иваном Яковлевичем не спали всю ночь и встретили рассвет на палубе. Я не умею и не берусь описывать красоты природы, но это было чем-то до такой степени сказочно прекрасным, этот рассвет после ясной лунной ночи, что… Одним словом, мне очень грустно, что я не умею рассказать о нем. Лезут все уже многократно использованные сравнения и образы, а свежих, достойных этой совсем не сладко-одеколонной и ароматно-конфетной, а ясной, древней, греко-византийской и в то же время восточной красоты, – таких слов нет.
Жаль, что я не могу поделиться с людьми всем тем восторгом, который помню до сих пор.
Утром нас ввели в Золотой Рог, и мы разгрузились в Галате. Нас загнали в тесную комнату и раздали всем анкетные листочки, которые мы должны были заполнить и вместе с паспортами сдать французскому офицеру из Межсоюзнической миссии. Анкеты были какие-то несерьезные, и мы заполняли их тоже несерьезно. Так как я знал языки, то мне это и было поручено. Дошло дело до Сураварди – паспорт у него был, как у всех нас, грузинский, национальность была тоже, как у всех, – русская.
Был вопрос – имя отца, имя матери, девичья фамилия матери: я написал вместо «Зэхавари» или как-то вроде этого (имя отца Сураварди) – Захар; вместо «Луидхуш» (имя матери) – Лидия; основное местожительство – Москва и т. д. Писали мы все это с шутками, весело и безответственно. Молодой французик флиртовал с Юлией Гремиславской, Греч и Орловой, он тоже как будто несерьезно относился ко всей этой процедуре…
Через час все было закончено, и Леонидов помчался в Перу. Мы, сдав на хранение большой багаж, часа три сидели на пристани, пока не вернулся Леонидов с несколькими подручными – он умел мгновенно обрастать какими-то очень вежливыми и юркими помощниками, – и мы, погрузив свои чемоданы на огромную подводу, на которой поехал Орлов, пошли пешком по крутым улицам, соединяющим Галату (город-порт) с Перой (европейской частью Константинополя), на улицу Пера, где нам были приготовлены в двух или трех третьесортных гостиницах второсортные номера.
Вечером Берсенев разнес нам деньги на три-четыре дня вперед, по сколько-то турецких лир на день. Я жил в одной комнате с Комиссаровым и Александровым. Вечером, найдя русский эмигрантский ресторан, мы уже пили в нем «настоящую смирновскую водку», закусывали сборной солянкой и слушали «Черные глаза»…
На другой день рано утром Берсенев отправился, прихватив меня в качестве переводчика, в межсоюзническую миссию, чтобы, получив паспорта, поставить на них болгарскую визу. Здание, где помещалась межсоюзническая миссия, было небольшим особняком на глухой улице. Принял нас французский капитан по фамилии Бадэ. Фамилию эту я запомнил, так как мы с Берсеневым дали друг другу торжественную клятву, что, где бы, когда бы мы его ни встретили, мы будем мстить ему чем и как только сможем. Боже мой, как мы ненавидели этого человека! Это был красивый, довольно рослый блондин с холеными брезгливыми руками. Брезгливыми потому, что, как-то коснувшись моей руки, он отдернул руку, как будто дотронулся до змеи. Он ненавидел и презирал нас, очевидно, и как русских и как актеров, ненавидел активно, стремясь сделать нам как можно больше неприятностей. В этот день мы ничего не получили, ни паспортов, ни виз. Но чтобы отказать нам, он заставил нас четыре раза приходить в свою контору, каждый раз по получасу ждать пропуска у ворот, где над нами издевались сенегальские негры из охраны, скалившие зубы нам в лицо; а пройдя в контору, стоять перед его столом по часу-полтора, чтобы услышать «demain» – «завтра».
Это продолжалось пять или шесть дней в совершенно точно повторявшемся порядке. После этого он сообщил нам, что нашего дела, «дела тридцати шести русских», у него вовсе нет – оно у англичан, а к нему поступит только через две‑три недели, но англичане не принимают по делам выдачи виз на Балканы. Вот если бы мы ехали в Азию или Африку, о визе пришлось бы просить у британцев, «и они охотно бы эти визы дали – в Судане и Родезии нужны рабочие руки». Когда мы начали протестовать и доказывать, что мы ждать не можем, что у нас нет больше средств на жизнь, он с хохотом сказал: «Давайте свои представления на базаре». Увидев по нашим лицам, что мы оскорблены, он приказал «flanquer á la porte cette canaille» – «вышвырнуть за дверь эту сволочь», и нас буквально вышвырнули на улицу, причем так, что Иван Николаевич упал, а я пролетел до другой стороны улицы… А негры и их белые хозяева хохотали, глядя на нас из окон.
Положение становилось страшным: деньги таяли, а надо было еще иметь средства дожить и довезти багаж до Софии, да заплатить за хранение наших, теперь уже двенадцати-пятнадцати, корзин и ящиков. Гостиница, хоть и третьесортная, стоила очень дорого, переезжать в откровенные ночлежки было бы уж полным падением. Впервые за все наше существование мы почувствовали себя до такой степени беспомощными. Обратиться не к кому было – не было здесь для нас никаких покровителей. Мы привыкли, где бы мы ни были, быть привилегированными, особо уважаемыми людьми. Здесь же любой эмигрант из офицеров, спекулянтов или чиновников, бежавший от большевиков, был почтеннее, чем «труппа комедиантов из Москвы», едва ли не большевистских шутов и прихлебателей.
Попытался было свою светскость и дипломатические таланты проявить Бертенсон, но и он вылетел вместе с Леонидовым из миссии кувырком. Не помогли ему визитные карточки с титулом «доктор», которые он посылал Бадэ.
Было страшно, одиноко и неуютно. Белоэмигрантский посол и консул только плечами пожимали – они тоже были беспомощны, их самих «союзники» терпели только из милости.
Решили и для пополнения кассы и главным образом для завоевания авторитета, популярности, для повышения престижа группы сыграть спектакль. Театра подходящего не было, сняли какой-то полукафешантан, полумюзик-холл и 11 октября поставили в нем концерт. Билетов продано было так мало, что и за прокат зала уплатить не хватило, не говоря уже о расходах на афиши, рекламу, билеты и т. д. Никто из миссии не пришел, хотя всем (в том числе и Бадэ) были посланы приглашения. Собралось человек двести русских эмигрантов, которых пришлось пустить бесплатно, да человек сто-полтораста пьяных солдат и матросов, которые, думая увидеть голых русских девчонок, купили билеты, а увидев «Хирургию», «Злоумышленника», «В гавани» и послушав чтение стихов, накурили, наплевали, насорили и с руганью ушли.
Казалось, что мы испили чашу до дна, дальше некуда. Но на этом «концерте» судьба наша была решена. В антракте, когда мы, подавленные, стояли в садике, который заменял в этом «театре» фойе, и, «мрачному предавшись пессимизму», высчитывали, сколько мы доложим за этот концерт и как будем жить дальше, в сад вошла группа из нескольких английских военных и штатских. Один из штатских спросил по-русски, есть ли в труппе Сураварди, его, мол, хочет видеть его друг. Я с радостью побежал звать Шахида, он также радостно и доверчиво подошел к ним, и вдруг… на его руках оказались стальные браслеты наручников. Его окружили и увели.
Мы были ошеломлены и испуганы. Я чувствовал себя по меньшей мере Иудой, «целованьем своим» предавшим друга.
Ночь мы никто не спали – положение было совершенно отчаянным: ко всему еще аресты! Но оказалось наоборот – нас не выпускали именно из-за Сураварди: французы тянули, потому что англичане расследовали биографию и деятельность Сураварди. То, что мы индуса, британского подданного, пытались провезти в Европу под русским именем, навлекало на него подозрение в измене родине, его сочли тайным агентом Коминтерна, пробирающимся в Индию. Он прочно засел в тюрьме под угрозой смертной казни. Зато на следующий же день нам было приказано явиться в миссию. Мы пошли туда с Берсеневым, и после обычных унижений Бадэ принял нас и приказал на другой день всей «группе 36», как он нас называл, явиться за получением паспортов и виз. Мы попытались было просить не вызывать всех старых и больных, женщин и детей, но он был непреклонен: нет, все тридцать шесть должны быть у него.
Все явились и, простояв два часа в грязном, холодном коридоре, лично расписавшись и поставив отпечатки своих пальцев, получили паспорта с разрешением выезда в Болгарию. Получить визы в болгарском консульстве, достать товарный вагон для вещей и для всех нас было уже сравнительно нетрудно, и 14 октября мы погрузились и поехали в Софию.
Было стыдно бросить Сураварди, было страшно и за него и за себя – денег уже не было почти совсем, еле хватило на оплату вагона и на покупку хлеба и обрезков колбасы на ужин для всей группы.
Мы ехали ночью, было холодно, голодно и жутко. И все-таки наши актеры пели хором, Орлова и Греч пели свой дуэт «Когда будешь большая», Калитинский в темноте рассказывал о Византии и болгарах, о щите Олега на вратах Царьграда, о Фракии, по которой мы ехали… Опять почти никто не спал до рассвета.
Наутро мы оказались где-то на запасных путях софийского вокзала. Леонидов ушел часов в восемь в город, а мы, голодные, синие от холода, сидели, завернувшись в пледы, одеяла, зимние пальто, и ничего хорошего не ждали. Все хорошее осталось там, в России, здесь мы жалкие, никому не нужные беженцы. Даже Берсенев пал духом, у него пропал голос и болели горло и уши. Подходили какие-то носатые, темноволосые, бедно и странно одетые люди, рассматривали нас бесцеремонно и жалостливо и говорили про нас на каком-то странном, напоминающем церковные молитвы, языке. Время шло к десяти, хотелось есть, пить, мы чувствовали себя грязными, мятыми, ныло тело от бессонной, проведенной на чемоданах ночи…
Вдруг где-то за триста-четыреста метров мы увидели группу людей, которые быстро приближались к нашему вагону, вот уже мы увидели, что во главе ее, рядом с быстро семенящим толстеньким Леонидовым, катит свое толстое брюхо какой-то лысый, толстощекий человек – лицо его показалось нашим знакомым – ближе, ближе – ура! Это Дуван, наш Исаак Эзрович Дуван-Торцов, бывший актер МХТ, один из основателей Второй студии, а за ним еще какие-то черноглазые и белозубые оживленные люди, человек двадцать-тридцать. Наши высыпали из вагона, один из пришедших бросился к Василию Ивановичу, обнял его, схватил его руку и поцеловал ее. «Братушка Киров, Стефан Киров!» – узнал его отец. Дувана и Кирова узнавали и другие. Киров был когда-то сотрудником Художественного театра и назывался тогда просто «братушкой» – так раньше называли в России болгар. Их целовали, обнимали, все перемешалось – приветствия, возгласы, рукопожатия…
Подъехали какие-то телеги-дрезины, на них сложили наши вещи, и все оживленной толпой двинулись к вокзалу. Там нас ждали уже штук десять экипажей, два‑три автомобиля, все быстро расселись в них, и через полчаса мы оказались кто в гостинице, а кто (как, например, мы с отцом) в частных домах актеров и друзей театра. Нас с отцом пригласил к себе Стефан Киров – один из ведущих актеров Софийского драматического театра, и его жена – красавица Констанца Кирова, актриса того же театра.
Ольгу Леонардовну и Нину Николаевну пригласила к себе премьерша театра (фамилии не помню).
Опять, как в Поти, – от мрака к свету, от унижения к почету, от тоски к ликованию вывело нас светлое имя нашего дорогого Театра! Вот уж, действительно, «не мне, не мне, но имени Твоему!» – могли бы воскликнуть мы: любовь людей к Художественному театру спасла нас еще раз. Только что мы были жалкими, голодными беженцами, вчера нас пинал ошпоренный сапог элегантного хама Бадэ – сегодня мы дорогие, почетные, знатные гости всей этой маленькой, но доброй и сердечной страны, этого ласкового и щедрого города.
Быстро и легко мы пришли в себя, обрели хорошее настроение, бодрость и веру в свою счастливую звезду. Нам предоставили театр на сколько угодно времени на самых льготных условиях, и закипела работа. Прием и вдохновил нас и взволновал – стала ясна необходимость особенно серьезно ответить на такое отношение.
За четыре дня мы приготовили оформление и срепетировали и «Вишневый сад» и «Врата» и 20‑го открылись «Вишневым садом». Спектакль шел как-то вдохновенно, приподнято по настроению и на сцене и в зале. В ложе сидел царь Борис с большой свитой, партер был заполнен всем софийским высшим светом. То же было и на другой день, и на третий, и на четвертый, когда играли «Врата». И покатился наш долгий софийский сезон, который продолжался почти полтора месяца, с 20 октября по 2 декабря. Правда, играли не каждый день, так как наши спектакли чередовались со спектаклями болгарской труппы.
Была пьеса, которую играли и мы и они, – «У жизни в лапах». Спектакль у них шел намного хуже, чем у нас, но оформление у них было очень эффектным; мы же играли в сукнах, с подобранной мебелью. Несмотря на это, публика и пресса оценили наш спектакль много выше своего, болгарского.
После шестидневного перерыва для репетиций 9 и 10 ноября были сыграны «Братья Карамазовы» в два вечера. Интересна судьба этого спектакля. Начали с одного «Кошмара», потом прибавили «Обе вместе», «Мокрое» и «Суд»; в Тифлисе добавили еще «За коньячком». Играли, конечно, в один вечер. Теперь ввели еще ряд картин и стали играть в два вечера. В первый вечер играли: 1) «За коньячком», 2) «Обе вместе», 3) «У калитки», 4) «Луковка» (Ракитин – Берсенев), 5) «Внезапное решение», 6) «Мокрое», «Допрос». На втором вечере шло: 1) «Последнее свидание», 2) «Кошмар» и 3) «Суд». Чтецом был вместо уж очень скучного, по чиновничьи-петербургски читавшего в Тифлисе и раньше Бертенсона наш новый актер А. С. Астаров. Читал он не бог весть как глубоко и интересно, но все-таки какие-то эмоции привносил.
В первом вечере у Василия Ивановича были только две сцены, сравнительно легкие, не требовавшие от него особого напряжения, и он весь спектакль сидел за спиной Астарова и слушал его с экземпляром текста в руках и потом очень серьезно и внимательно работал с ним, иногда просто учил его с голоса.
Мне кажется, что спектакль шел очень хорошо, но, видимо, публике это было тяжело (два вечера подряд в театре), так как в Софии сыграли «Карамазовых» всего два раза, но зато мы четыре дня (с 9 по 12 ноября) жили в атмосфере Достоевского.
Болгарские актеры и вообще все друзья театра и после первого и особенно после второго вечера толпились за кулисами, восхищались и поражались умом и глубиной постановки, талантом и мастерством наших актеров. Я думаю, что их слезы и восторги были искренними, так как на оба вечера они опять почти все пришли в театр.
Оформлен спектакль был по-московски, в сукнах, с подбором мебели и реквизита. Это в Софии удалось сделать довольно хорошо.
Четырнадцатого ноября состоялся юбилейный спектакль Исаака Эзровича Дуван-Торцова. Дуван был крупным провинциальным режиссером-антрепренером, одно время даже «держал сезон» в Киеве, но потом передал свои коммерческие дела каким-то компаньонам, а сам переехал в Москву и вступил в труппу МХТ. Играл он очень мало и держал себя чрезвычайно скромно, даже робко. Я помню его в крошечной роли кузена Теодора («У жизни в лапах») и Хлеба («Синяя птица») и во Второй студии, где он в очередь с Аслановым играл в «Зеленом кольце» роль отца Финочки. После революции он каким-то образом оказался в Софии, где его пригласили на должность главного режиссера драматической труппы. В его юбилей шли отрывки из поставленных им болгарских спектаклей и в исполнении наших актеров, но с участием Дувана «Где тонко, там и рвется» Тургенева. Книппер, Качалов, Массалитинов, Берсенев играли свои роли и в Москве. Верочку играла В. Г. Орлова, гувернантку – В. М. Греч, приживалку – Е. Ф. Скульская и капитана – сам юбиляр.
Весь юбилейный спектакль, а «Где тонко» особенно, имел огромный успех. Берсенев хотел было повторить «Где тонко», но Ольга Леонардовна и Василий Иванович воспротивились. Возражали они потому, что уж очень не свою роль играла Орлова и ужасен был сам Дуван – для юбилея это еще куда ни шло, но для спектакля гастролей МХТ это было недопустимо. Официальной причиной отказа было то, что надо репетировать, а репетировать нет времени – надо все силы бросить на «Три сестры». И действительно, начиная с 15 ноября все дни и даже частично в те вечера, когда у нас не было спектаклей, мы очень интенсивно репетировали «Три сестры».
Насколько беспомощна была Нина Николаевна в качестве режиссера в «Потопе», настолько же она была на высоте в «Трех сестрах». Она и сама играла в этом спектакле в свое время Ирину и очень хорошо знала всю пьесу, очень ее любила и глубоко понимала. Под ее руководством с большой радостью работали даже Ольга Леонардовна и Германова, давно игравшие свои роли. Ольга Леонардовна увлеклась репетициями, перестала ворчать и «охранять основы», как это было на первых репетициях в Грузии.
Василий Иванович работал с каким-то особенным смаком, он много говорил с Иваном Николаевичем и помог ему в работе над ролью Тузенбаха. Вершинина он репетировал заново, ему хотелось найти в нем совсем другое, чем то, каким его играл Константин Сергеевич. Ранее же он играл эту роль в рисунке Константина Сергеевича. Не знаю, удалось ли ему это, мне трудно судить, думаю, что он был другим, чем Константин Сергеевич; его Вершинин был «офицеристее», правдоподобнее, чем Константина Сергеевича, но К. С. Станиславский был единственным, неповторимым, тогда как качаловский Вершинин был типичным. Я не знаю, что важнее: неповторимость и единственность или типичность; когда говоришь себе: «Я таких знаю, вот в Н. есть что-то от Вершинина, а в С. – другое от него» – или когда видишь живого, настоящего человека, который один, который никого не напоминает. Во всяком случае, смотреть на то, как репетировал Василий Иванович в те дни, было наслаждением. Много работал он и дома. Часами он искал вершининское самочувствие и внешнюю форму поведения – как тот сидел, как вставал, как снимал шашку, как кланялся, как здоровался с женщиной, со штатским, с молодым офицером…
Ольга Леонардовна тоже искала новое, она была гораздо влюбленнее в Василия Ивановича, чем в Константина Сергеевича. «… А впрочем, говорите, мне все равно…» – во втором действии у нее звучало: «Я хочу вашей любви», – она уже любила его. Поэтому так понятно было ее раздражение и на няньку и на всех после ухода Вершинина: его отняли у нее, когда он уже был ей дорог, нужен… Не принимала она совсем Германову и очень раздражалась на нее. Думаю, что в чем-то она была права. Доброй мудрости (или мудрой доброты) Ольги в Марии Николаевне не было. Она не была старшей сестрой – матерью своих сестер и брата, не растворялась в семье, а была как-то сама по себе, сама для себя. Но она была породиста, красива, обаятельна, умна…
Машенька Крыжановская – Ирина была очень проста, искренна… Ей мешала, особенно в первом действии, ее некрасивость – у нее были небольшие, какие-то запухшие сверху глаза и очень толстые щеки. Лучше всего она играла четвертое действие. Но партнер у нее для четвертого действия Тузенбах – Берсенев был трудный. Весь спектакль, до прощания, он играл без особых глубин, без обаяния, но на вполне достойном уровне, но самое тонкое, самое лиричное место роли (про потерянный ключ, «я не пил сегодня кофе», про вечность жизни) он совсем не чувствовал и, по-моему, просто не понимал. Он не был чеховским актером.
Бакшеев играл Соленого немного грубовато, без всякого второго плана, но крепко и убедительно. У Павлова – Чебутыкина все было на месте, но глубины любви к семье Прозоровых, к Ирине у него не чувствовалось. Мать очень много работала с ним, но у Павлова не было в палитре нужных красок, а в душе – способности любить. Зато ирония над собой, трагический юмор и, главное, отчаяние от погибшей жизни – пьяная сцена третьего действия ему очень удавалась.
Массалитинов был интеллигентный, трогательный Андрей. В. Г. Орлова была яркой и сочной Наташей, очень женственной и обаятельной в первом действии, глупой и ничтожной во втором и страшноватой и омерзительной в третьем и четвертом. Но, конечно, далеко ей было до тонкой, ювелирной филиграни Марии Петровны Лилиной. Я лично этого не сознавал, но все наши «старики» вздыхали об этом постоянно.
Но самой большой радостью спектакля была, конечно, Ольга Леонардовна. От свиста и прощания («мерлехлюндия») в первом действии до «У лукоморья» в четвертом – она была непрерывно прекрасна. Я не могу перечислить и описать даже сотую долю ее удач. Я особенно любил, как она снимала шляпу: «Я остаюсь завтракать», – так она вдруг наполнялась радостью, светом, будто в ней лампочка засветилась. А второе действие – с Вершининым? А «Мне хочется каяться, милые сестры» – какая вдруг отвага, лихость, нежность к Вершинину наполняли ее каждый раз… Ну, да что писать, разве можно найти слова для того, чтобы передать всю сложность, глубину, нежность, разнообразие красок этого перла женского актерского творчества! Иногда мне кажется, что Ольга Леонардовна играла Машу даже лучше, чем Раневскую…
Оформлен этот спектакль был почти точно по Симову, только без входа снизу в первом и втором действии, и с несколько условным, обобщенным домом четвертого действия. Костюмы были очень хороши – и военные, и штатские, и женские были сшиты еще в Тифлисе очень хорошо, правильно и со вкусом. Мебель и реквизит подобраны и частично сделаны отлично.
Неудача на генеральной была только одна – это музыка, военный оркестр, марш четвертого действия. Бертенсон, который обычно занимался у нас музыкой, подобрал какой-то марш из репертуара сценического оркестра театра, и его сыграли. Ольга Леонардовна зарыдала от ужаса – вместо и веселого и грустного, трогательно-лиричного и в то же время мажорного, оптимистического марша, под который Ольга Леонардовна сотни раз кончала пьесу, был сыгран примитивный и грубый прусский марш. Ольга Леонардовна категорически отказалась играть под него, но положение казалось безвыходным – генеральная была за три дня до премьеры, и времени уже не было.
Только любовь всех нас в группе к Ольге Леонардовне могла сделать чудо, и оно было совершено. Василий Иванович и Иван Яковлевич Гремиславский напели московский марш и подобрали его на рояле, местный концертмейстер записал его, и за сутки молодой болгарский композитор оркестровал его.
К премьере оркестр разучил и сыграл старый московский марш, тот, под который кончались «Три сестры» с 1901 года. Ольга Леонардовна была счастлива и благодарила… С. Л. Бертенсона. Он любезно принял изъявление ее благодарности, хотя палец о палец не ударил для этого и, наоборот, утверждал, что выбранный им марш много лучше московского и что все это несносные капризы и глупые сантименты.
Спектакль имел совсем особый успех. Особый по сравнению с успехом всего остального. Вообще говорить о том, что в Софии имело больший успех, что меньший – нельзя: каждый спектакль был триумфом русского искусства. При хотя бы беглом знакомстве с пьесой (а болгары знали русскую литературу) язык не был препятствием, понимали если не каждое слово, то смысл каждой фразы. В зале постоянно слышались вздохи, какие-то сочувственные или возмущенные междометия, часто всхлипывания, еще чаще смех. Публика была влюблена в театр, в спектакли… Труппу знал весь город – в магазинах, в «млекарницах» (кафе-кондитерских), где мы завтракали и закусывали в перерывах в работе, нам кивали головой, как-то особенно покачивая ею, улыбались и старались угодить всеми силами.
Но, повторяю, «Три сестры» имели особый успех. Тоска по Москве в эту вторую зиму нашего отрыва от нее овладела даже самыми равнодушными из группы, у других же она была непрерывно щемящей и кровоточащей раной. Поэтому ли, или просто глубоко волновал и вскрыл какие-то душевные каналы замечательный чеховский текст, но все последнее действие шло на таком нерве, в таком почти ненормальном, граничащем с психозом и истерикой напряжении, что превращалось во что-то подобное сектантскому радению. Не думаю, что это было настоящим, высоким искусством, но это заражало зрительный зал и создавало там то же перенапряженное нервное состояние, что-то вроде массового психоза. Публика большей части партера и лож не расходилась, а оставалась сидеть по получасу после последнего занавеса и плакала, или просто молчала, или тихо-тихо разговаривала…
Такими были эти два спектакля «Трех сестер», которыми мы закончили наш софийский сезон. Предстояло ехать в Белград. Расставаться с Болгарией было грустно. Уж очень хорошо нас приняли здесь, очень полюбили…
Город София был в 1920 году маленьким, очень провинциальным. Только центр состоял из четырех– и пятиэтажных зданий, а чуть в сторону – и уже дома одноэтажные, с садиками, много глухих глиняных заборов и домов без окон, вернее, с окнами в закрытые дворы – влияние Турции, Востока…
Жили мы почти все в двух отелях – «Хотел сплендид палас» и «Хотел палас». Почему два отеля назывались почти одинаково, не знаю. Это вызывало много недоразумений, когда кое-кого из наших привозили вместо одного «хотела» в другой. Правда, скоро уже все извозчики знали, где кто из нас живет.
Язык усвоили быстро – он похож на язык православного богослужения, на язык молитв. Долго только не могли привыкнуть к жестам, обозначающим «да» и «нет»: болгары качают головой, когда утверждают, и кивают снизу вверх, когда отрицают.
Очень нам нравилась еда – острые мясные блюда с паприкой (красный перец), вкуснейшие изделия из молока – каймак, югурт, оригинальные сладкие – пахлава, кодеиф…
Начиналась зима, и скоро нас должны были вызвать в Милан на съемки представители фирмы, с которой был в Тифлисе подписан договор. Можно было бы, конечно, ждать их вызова и здесь, в Болгарии, но тогда надо было переходить в другой театр – нельзя же было превращать национальный театр Болгарии в русский театр. Да и на сборах у болгар наши спектакли отражались катастрофически. Затевать организацию постоянного театра не стоило, а гастролировать дальше, вернее, дольше было как-то неудобно, ведь с 20 октября по 2 декабря – это полтора месяца. Да и как хорошо, и тепло, и приветно нам здесь ни жилось, как успешно ни работалось, все-таки хотелось на пути к Родине, к Театру, о котором мы никогда не забывали, посмотреть широкий мир, проверить себя – «людей посмотреть и себя показать». Ведь Болгария была только началом зарубежных странствий.
Во время нашего софийского сезона в России произошло великое событие: Красная Армия разгромила Врангеля и овладела последним оплотом белых в России – Крым был очищен от контрреволюции. По моим тогдашним нелепым убеждениям, в России должен был появиться Бонапарт.
Мне безумно захотелось на Родину еще и ради того, чтобы не пропустить этого момента и оказаться где-то возле него, возле того, кому я мечтал служить.
Перед самым нашим отъездом в «государство СХС» (сербов, хорват, словенцев), как тогда называли Югославию, мы получили известие о том, что компания, которая собиралась нас снимать, лопнула. Деньги, которые мы от них получили и на которые добрались от Тифлиса до Софии, были все истрачены до сантима, правда, возврата их никто от нас и не требовал. В общем, хотя многих из нас и волновала мысль о съемках, освобождение от контракта было нам теперь выгодно. Нас манила, хотя и пугала «большая Европа». Главное, что пугало, – это страх покинуть страны славянского языка – в них нас понимали, а как нас поймут и примут в странах немецкого языка, бог весть!








