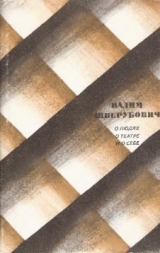
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
С 8 по 11 апреля Леонидов повез Василия Ивановича и М. Н. Германову на гастроли в Ригу. Они играли там с актерами местного русского театра «У врат царства», сцены из «Братьев Карамазовых» и еще что-то, не помню. Василий Иванович выступал и там и в Ковно с концертами. Я в эту поездку не ездил, в журнале спектаклей группы, который вел С. Л. Бертенсон, ни об этой поездке, ни о завершающей наше странствие поездке по Скандинавии нет никаких следов – ни городов, ни дат, ни пьес…
В эти дни в Берлине произошло событие, произведшее большое и чрезвычайно тяжелое впечатление на всю нашу группу, особенно на Василия Ивановича и Н. Г. Александрова. В одном из берлинских клубов с докладом о политическом положении Европы выступал лидер кадетской партии, депутат Государственной думы, профессор П. Н. Милюков. Не знаю, конечно, цели и содержания его доклада. Вероятно, это были очередные пророчества о приближении краха Советской власти и призывы к единению всех эмигрантов и подготовке их к принятию «большевистского наследства». Организовал это собрание и председательствовал на нем В. Д. Набоков, хороший знакомый отца и Александрова по комиссаровскому дому. Во время речи Милюкова из рядов вышел какой-то человек и двинулся по проходу к эстраде. Подойдя метра на три-четыре, он крикнул: «Вот тебе, мерзавец, за оскорбление государыни-императрицы!» – и, выхватив револьвер, направил его на оратора. Набоков вскочил, бросился вперед и загородил собой Милюкова. Раздался выстрел, и предназначенная лидеру кадетов пуля попала в его защитника. Он был убит. Самые оголтелые монархисты даже Милюкова считали крамольником – не могли простить ему разоблачительных речей в Государственной думе, произнесенных пять лет тому назад. Незадолго до этого Набоков встречался с отцом, он очень сочувственно относился к его возвращению на родину и сам задумывал среди эмигрантов «Союз возвращения». Он рассказывал Василию Ивановичу о своих встречах с А. Н. Толстым, который в это время тоже собирался вернуться в Россию.
Это убийство – самая возможность его, живучесть среди эмигрантов таких диких монархических настроений через пять лет после свержения самодержавия – угнетающе подействовало на Василия Ивановича. Не то чтобы он испугался, но как-то неуютно почувствовал себя. «Как будто через стадо проходишь, черт его знает, что бык может сделать…» – как-то сказал он. Нет, скорее, скорее домой, в Москву.
Оставалось еще одно, последнее обстоятельство – трехнедельная поездка в Скандинавию. Незадолго до нашего отъезда в Копенгаген в Берлин приехала из Москвы секретарь Владимира Ивановича Немировича-Данченко Ольга Сергеевна Бокшанская. Привезла с собой много писем от московских друзей. Кроме писем от товарищей по театру она передала Василию Ивановичу письма от Эфроса, Смирновой, Санина, его давнишней корреспондентки А. В. Агапитовой, которая подробно писала о жизни его сестер Александры Ивановны и Софьи Ивановны, об их воспитаннице Наташе, о племяннице Вере, о положении с квартирой на Малой Никитской.
От этих писем и от рассказов Ольги Сергеевны о театре и театрах, о жизни в Москве, – а рассказывала она очень живо и интересно, с умным пониманием, что именно интересует ее слушателей, – в Москву захотелось уже совершенно нестерпимо.
Был день, когда Василий Иванович совсем было решил отказаться от гастрольной поездки, придумал даже такой выход: он даст в Берлине, Ковно, Риге большие концерты с тем, чтобы сбор шел в пользу остающейся за границей части группы. Этим он думал компенсировать то, что они потеряли бы с его отказом ехать в Скандинавию. Но не тут-то было – был договор с неустойкой в валюте. А никакие концерты в Берлине и в Прибалтике валюты, которая могла бы идти в сравнение с датскими и шведскими кронами, дать не могли. Надо было ехать.
Последние гастроли
Четырнадцатого апреля выехали в Копенгаген. Настроение было тяжелое. Атмосфера в группе была нехорошая. Даже дорога, самое путешествие в поезде было теперь совсем другим – не было ни песен под гитару, ни хождений «в гости» из купе в купе. Ехали тихо и уныло. Даже и размещение в вагоне подчеркивало разделение группы: «москвичи» ехали с «москвичами», остающиеся – отдельно.
Рано-рано утром, часов в пять, мы переехали границу. Василий Иванович, который ехал в одном купе с Ольгой Леонардовной и Ниной Николаевной, плохо спал и вышел в коридор покурить. Поезд уже шел по Дании. На откидной скамеечке сидел какой-то маленький и худенький человек, он смущенно и приветливо улыбался Василию Ивановичу. Можно себе представить, как поражен был отец, когда узнал в этой фигуре Сандро Моисси! Это была огромная радость. Наш верный друг гастролировал в это время в Копенгагене. Услышав о приезде группы и зная о тяжелой атмосфере в ней, опасаясь, что эта атмосфера может отразиться на художественной стороне спектакля, особенно «Гамлета», он ночью после своего спектакля (он играл Гамлета с датской труппой) выехал на границу, чтобы встретить Василия Ивановича… Что тут можно сказать еще? Разве это не вершина человеческого благородства? Ради того, чтобы поднять настроение друга и соперника (два Гамлета в одном городе в одно время), он не спал ночь после такого спектакля и перед таким спектаклем (в день нашего приезда он тоже играл), в сущности, чтобы пожать ему руку и просидеть с ним два‑три часа в купе, пока поезд шел от границы до Копенгагена.
Пресса и, конечно, наши «менеджеры» сделали из этого рекламный шум, но ведь Моисси этот шум не нужен был, больше того, с точки зрения «конкуренции» он ему был вреден. До конца своих дней Василий Иванович помнил об этом и с огромной нежностью и глубоким уважением относился к Моисси. А тогда он был ему бесконечно благодарен за это проявление внимания, подчеркнувшее то, как высоко Моисси ценил и его лично и наши спектакли в целом. Трудно выразить, но мне кажется, что это и так понятно, как эта встреча изменила все настроение и самочувствие всех нас и как отразилась на настроении вокруг нас.
Моисси сумел сделать наш приезд праздником, и в праздничном же духе началась наша работа в Копенгагене.
Шестнадцатого апреля мы открылись, как и в зимний период, «Вишневым садом». С волнением ждали, будут ли опять аплодировать на «приезд», но нет, это не повторилось. Видимо, этого нарочно не добьешься. Такое удается лишь раз. Но принимали очень хорошо и после каждого действия и после конца хлопали дружно, энергично и долго.
Восемнадцатого играли «Гамлета». Это был, пожалуй, лучший спектакль из всех, то есть я не знаю, именно ли первый спектакль, но вообще все три «Гамлета», сыгранные в Копенгагене, были лучшими из всей поездки. То ли он «отстоялся», то ли волнение перед Москвой, то ли отношение Роозе, Моисси и других друзей-ценителей сказалось, не знаю, но Василий Иванович играл сильнее, крепче, страстнее и, главное, смелее, чем когда бы то ни было в жизни. Это он сам так определил: «Совсем почему-то не трусил. Чувствовал какие-то флюиды симпатии». Пресса была не плохая, но и не восторженная; очень подчеркивалось «славянство», «русскость» этого Гамлета. Но мы, по совести говоря, ни одной рецензии не прочли: языка датского никто из нас не понимал, Роозе переводил нам те места, которые находил нужными.
Работа по монтировке спектаклей вообще, а «Гамлета» в особенности была трудна из-за того, что всеми работниками сцены руководила ненавидевшая русских заведующая постановочной частью. Это была пожилая женщина, хромая и горбатая, до того свирепая, что ее боялись, как огня, буквально все в театре. На моих глазах она палкой, без которой не могла передвигаться по сцене, так хватила по спине здоровенного рабочего, что он скрючился. Остальные реагировали на это молчаливыми насмешливыми улыбками и подмигиванием. Смеяться вслух, а тем более возмущаться никто не осмеливался. Она была аристократического происхождения, носила не то баронский, не то графский титул, что-то, какую-то собственность, земельную или торговую, не знаю, потеряла в России и потому так плохо относилась к русским.
Узнав же, что большинство из нас не эмигранты (которых она хоть и презирала, но жалела), а советские, она возненавидела нас совсем уже люто. Но кое-как благодаря нажиму Роозе и хорошему (теперь лучшему, чем в первый приезд) отношению к нам рабочих все сладилось, и спектакли шли хорошо, без накладок. Наш «технический персонал» обогатился за счет того, что в него вошел племянник Ольги Леонардовны – Лев Константинович Книппер, позднее известный композитор. Он работал моим помощником вместо покойного Вани Орлова. Благодаря высокому интеллекту, вкусу, спортивной ловкости, энергии, темпераменту, быстроте реакции он очень скоро стал отличным помощником и совершенно затмил не только Орлова, но и меня самого.
Жили мы в гостиницах всю поездку с ним вдвоем и благодаря этому и, главное, благодаря совместной работе еще крепче сдружились. В группе мы с ним тоже были всегда «по одну сторону баррикад» – оба рьяно стояли за возвращение.
Двадцать третьего апреля мы сыграли последний спектакль в Копенгагене и тепло и трогательно простились с милым семейством Роозе и со многими датскими актерами, бывавшими у нас за кулисами и подружившимися с нами. Одна из них, прекрасная драматическая инженю и героиня Бодиль Ипсен, которой наши очень восхищались в Катарине («Укрощение строптивой»), особенно подружилась с Ольгой Леонардовной и потом переписывалась с ней. Моисси уехал из Копенгагена раньше нас.
Рано утром на пароме переправились мы в шведский городок Гельсинборг. Там мы в ужасном, типично провинциальном театре сыграли «Вишневый сад». Сцена была крошечная, декорации скверные. Мы кое-как подобрали для первого и третьего действия какие-то павильоны, а для второго, кроме задника с морским пейзажем, ничего не было. Пришлось закатать «море», оставив только голубоватое небо, которое было так низко, что мы вынуждены были опустить черные падуги почти до голов актеров. Самое же страшное – не было реостатов, и весь спектакль шел при ровном белом свете. Иван Яковлевич возмутился, что его не предупредили, не получили его и режиссуры согласия на проведение спектаклей в таких позорных условиях. Однако успех совершенно не соответствовал этому – он был грандиозным.
После спектакля городские власти и работники театра устроили нам банкет. Это было бы очень приятно, если бы не одно «недоразумение». Наши хозяева, не очень разбиравшиеся в истории и в политике, желая почтить нас, распорядились, чтобы оркестр при входе нашей группы встретил ее русским гимном. Другого, кроме «Боже, царя храни», оркестр не знал. Конфуз вышел великий, особенно для «москвичей» – хорошее напутствие для возвращения в Советскую Россию! Но, кроме злосчастного гимна, все было хорошо: приветливые лица «отцов города» и наших коллег – шведских актеров, хорошенькие девушки и молодые женщины, вкусная еда. В другое время, намного месяцев раньше, мы, вероятно, наслаждались бы этим и беззаботно и радостно отдыхали и веселились. Но теперь это был «не в коня корм».
Конечно, внешне все было как полагается, обменялись несколькими тостами, нам пели какие-то шведские застольные песни, и мы пели бургомистру и директору театра и первой актрисе «Чарочку» и «Как цветок душистый» и т. д., но было это формально и пусто, каждый думал о скором конце нашей группы…
Одни с тревогой гадали о своей будущей судьбе, удастся ли найти работу и сохранить куцый коллектив, другие – о том, как их встретит родина.
Когда через много лет Василий Иванович в одну из своих заграничных поездок встретился с Ф. И. Шаляпиным, тот говорил ему о своей тоске по родине, о мечте спеть в Москве, но и о непобедимом страхе перед этим. «В Париже сегодня спел хуже, завтра спою лучше. А вот если после первого выступления в Москвенарод скажет: „Это Шаляпин? Э‑э‑э… Я думал, действительно что-то особенное, а это та‑ак…“ – тут-то я бы и помер». Василий Иванович, рассказывая об этом, говорил, что совершенно те же страхи владели им при его возвращении после трехлетнего отсутствия. Он все время и напряженно думал об этом, готовил себя к возможности если не провала, то к известному разочарованию в нем, к крушению «легенды о Качалове».
Да, разно, но тревожно было на душе почти у всех. Один только наш портной Бодулин, охмелевший от крепкого шведского грога, объяснял Ольге Леонардовне, почему он не хочет возвращаться: «Там в Москве в театре я как был „портное“, так и помру в этом звании, а здесь, видите, – на банкете я всем ровня, за мое здоровье городская голова пьет!» Он был вполне спокоен и доволен своей судьбой – будет ли группа, нет ли, ему, опытному и трудолюбивому театральному портному, работа, дескать, всегда будет. Кстати, умер он в нищете в Нью-Йорке, где остался в 1924 году после гастролей МХАТ.
Утром мы уже были в пути на Гётеборг.
Это был большой портовый, торговый город с процветающей культурной жизнью – в нем были университет, торговый политехникум, интересный музей и замечательный театр, вроде Дрезденского если не по технике, то по организации.
Сыграли мы там, к сожалению, только два спектакля: 25 апреля «Дядю Ваню» и 26‑го «На дне». С «На дне» помучились – найти декорацию, подходящую для «ночлежки», подобрать мебель было трудно. Самые бедные лачуги в шведском понимании бедности и убожества годились бы разве что для русского купеческого или мещанского жилья. Но опыт у нас (вернее, у Ивана Яковлевича Гремиславского) был большой: одна стенка лежа, другая наизнанку, тут рваный мешок, здесь рогожа (мы из Тифлиса вывезли и больше шелка и бархата берегли пять-шесть рогожных кулей), вместо стола – старый ящик, вместо кровати – лавка, застеленная рваным лоскутным одеялом, – какое-то подобие русского «Дна» получилось.
С «Дядей Ваней», наоборот, было легко – для каждого действия свой павильон, который можно было выбирать из десятка, любые гарнитуры прекрасной мебели.
Успех и здесь был большой и шумный. Хотели и тут чествовать нас банкетом, но наши нашли предлог отклонить приглашение, да к тому же мы ночью после второго спектакля уже выехали в Стокгольм. Здесь мы играли с 28 апреля по 3 мая. Сыграли весь наш основной репертуар, включая «Гамлета». Успех был не ниже копенгагенского. Кое в чем он был даже выше – как я уже писал, здесь больше было знающих русский язык. Была неожиданная и не особенно приятная для нашей семьи встреча.
В начале своих воспоминаний я рассказывал, как в 1917 году мы сбежали от пригласившего нас на лето семейства Марк. Так вот, в Стокгольме за кулисы явилась сама Лили Гуговна с сыном. За эти несколько лет она почти забыла русский язык, стала еще надменнее и противнее. Узнав, что через две недели мы едем в Москву, она посмотрела на нас с презрительной жалостью, быстро прекратила все разговоры и ушла. Ольга Леонардовна, как девчонка, высунула им вслед язык.
Театр, в котором мы играли, был хорошим, чистым старым театром, без особых технических новшеств, но с прекрасным штатом технического персонала. Это были большие, сильные, хорошо упитанные, часто даже толстые люди. Работали они как будто не торопясь, без всякой судороги-спешки, а получалось все быстро. В отношении языка с ними было тоже легче, чем в Дании, – они старались понять мою смесь немецкого с английским и с десятком шведских слов.
Очень большой интерес и к нашим спектаклям и к труппе проявляли шведские актеры, особенно молодежь. Они все время пробирались за кулисы, на сцену, в буфет и во все глаза смотрели на наших. Мужчины были все как на подбор – рослые, красивые, скромные и тихие. Одного из них я узнал – он был героем в ряде очень тогда гремевших шведских фильмов, в частности «Эротикона» и «Огненно-красного цветка», которые, кажется, показывались и в Советской России.
Наших остающихся очень чествовали в огромной семье Нобелей (нефтяников). Едущих в Москву туда не приглашали, чем наши были очень довольны, – уж очень махрово антисоветски было это семейство настроено.
Свободного времени у нас было мало, так что города мы совсем не смотрели. Это было обидно – ведь так много интересного в нем было для нас. Что-то общее было у него с Петербургом. Самый воздух северного приморья, пронизанный устойчивым и ровным светом северной весны, белые ночи, торцовые мостовые, каналы… Много было и зданий, напоминающих петербургские. Для наших это напоминание было до боли, до нежной тоски любимо: весенние гастроли МХТ в Петербурге всегда были самой большой радостью их молодости.
Удивительно радостным было 1 мая в Стокгольме. Это у них праздник студенчества, молодежи. По улицам ходят, взявшись за руки, группы по шесть-восемь-десять юношей и девушек в белых студенческих фуражках на белокурых (у большинства) волосах, лица юные, веселые, сияют от радости, и от солнца, и от блеска солнца в витринах, и от белых фуражек. Они все что-то веселое и нежное напевают и скандируют, но никто не орет, не изображает «неудержимой радости» и «юной бодрости». Радость сдержана уважением к остальной улице, и от этой сдержанности она особенно насыщенна.
Мы до двух или трех часов ночи, вернее, утра, светлого майского утра, не могли уйти с улицы. Так радостно было за эту молодежь, не знавшую всего того, что сопровождало юность воевавшей Европы.
Третьего мая мы закончили гастроли в Стокгольме и выехали в Мальме. Ехали опять ночью и видели мало; сколько я ни старался бороться со сном и смотреть в окно, чтобы, пользуясь тем, что ночь весной короткая, хоть что-нибудь в Швеции увидеть и запомнить, – мне это не удалось, и проснулся я уже незадолго до приезда в Мальме.
Город был меньше Гётеборга, не говоря уже о Стокгольме, но чистенький и веселый. Очень чувствовалась близость моря. Театр был хороший. Играли мы тут два спектакля: «Вишневый сад» и «На дне». Можно было бы всей группой сюда и не ездить, но, так как в Мальме кончалась трехлетняя жизнь нашей группы, – решили не расставаться… чтобы торжественно расстаться.
На другой день после последнего спектакля в Мальме, последнего спектакля «качаловской группы», мы собрались в свадебном зале гостиницы, где жили. Собрались, чтобы попрощаться. По рисунку И. Я. Гремиславского были сделаны серебряные памятные значки нашего трехлетия, на них были даты и чайки, летящие в Москву. Больших речей не было. Выпили по бокалу шампанского, и все со всеми перецеловались. С зареванными лицами сели мы в вагоны, которые въехали на паром, перевозивший поезд через пролив в Германию.
«Качаловская группа» или, как она называлась официально, «Группа артистов Московского Художественного театра» – кончилась. Все. Конец.
Теперь мне хочется написать о нашем возвращении в Москву.
Возвращение
Шестнадцатого мая мы двинулись в путь. Весь день накануне Василий Иванович писал и рвал и опять писал свое прощальное письмо оставшейся группе. Они пока что оставались еще группой, только к своему названию прибавили слово «зарубежная».
В самый день нашего отъезда, или на другой день, не знаю, они отправлялись куда-то на гастроли, и на их афишах значилось: «Гастроли зарубежной группы артистов МХТ».
Так мучительно дававшееся Василию Ивановичу письмо или один из вариантов его сохранился. Вот оно:
«Дорогие товарищи!
Прошу вас принять мой прощальный привет. Не знаю, как вам со мной, а мне с вами грустно расставаться. Тем более расставаться при таких плохих отношениях, какие у меня с вами, с большинством из вас, установились за последнее время. Если бы ничего хорошего мы с вами не пережили за эти три года наших скитаний, то, может быть, и не было бы так грустно такрасставаться. Но ведь мы вместе пережили много всякого, много, слава богу, хорошего, мы многим душевно связаны друг с другом, и теперь мне грустно и даже больно отдираться от вас душой и телом. Некоторых из вас я очень люблю, ко многим очень привязался, но даже и те, кого люблю меньше, все равно мне близки и дороги, все без исключения. Само время, эти три года такой необычной жизни сблизили меня с вами и породнили, даже, может быть, помимо моей и вашей воли. И я скажу о себе – я верю, что пройдет совсем немного времени, и я всех вас буду вспоминать только добром, а горечь и обида, какие накоплялись против вас за эти годы, исчезнут как дым. Уже и теперь я смотрю вам вслед спокойно и дружелюбно, без злобы и раздражения. Эти дурные чувства исчезли из моей души, и исчезли не только потому, что мы с вами расстались, а еще более потому, что теперь, отойдя от вас на это маленькое расстояние и спокойно думая о наших взаимоотношениях, я понял то, чего не понимал и от чего раздражался, находясь с вами. Это мне стало ясно только теперь.
Мы все, кто больше, кто меньше, виноваты в том, что не создалась у нас за эти три года более чистая атмосфера и артистическая и, главное, человеческая. Посмотрим все друг на друга повнимательнее, заглянем каждый в свою душу, и мы увидим, что при всей внешней сплоченности, внешней близости и физической привычке друг к другу, – как мало было среди нас взаимного уважения и доверия, то есть самого главного в человеческих делах. В этом виноваты мы все. Но, – к тому я и веду речь, – но ради тех больших и важных моментов, какие мы вместепережили, ради тех радостных впечатлений, какие нам милостиво посылала судьба (вспомните отношение к нам публики хотя бы в Загребе), ради тех благословенных минут, какие нам давал господь бог в тишине и покое Бледа, в красоте Тифлиса и Гурзуфа, и моря, и гор, и проч. и проч., наконец, ради нашей первой общей потери нашего милого Орлова, которого все вместе любили, – простим, от всей души простим наши вины друг перед другом. Поистине у нас каждый перед всеми и все перед каждым виноваты. Если этим сознанием проникнемся, то и обиды наши, и раздражение, и даже, может быть, страдания наши действительно обратятся в радость, радость для нас самих.
Добрый вам путь и сейчас, когда мы еще вместе, и потом, когда вы разбредетесь в разные стороны.
Ваш Василий Качалов
15 мая 1922 г.»
Всем нам тяжело было расставаться, но все понимали неизбежность этого расставания. Неизбежность ли? В данном случае – да. Потому что это в значительной мере зависело от Василия Ивановича. Будь на его месте другой или будь он другим, все могло бы решиться иначе. Ведь он мог хоть попытаться поставить условием своего возвращения прием в театр всей группы, включения в репертуар МХАТ ее спектаклей целиком, так, как они шли в поездке.
Необходимость в нем, в Ольге Леонардовне и в еще некоторых была так остра, что не исключена была возможность, согласия на это руководства МХАТ, и тогда группа сохранилась бы и лишь с течением времени рассосалась бы в организме театра.
Но как мог Василий Иванович ставить какие бы то ни было условия, когда он считал себя виновником тех трудностей, которые родной театр перенес за эти годы, когда его терзало сознание греха перед Родиной – его дезертирства в самое тяжелое время… Не был он способен на это и по своей человеческой сущности и по своему ощущению себя в театре, в котором он всегда чувствовал себя переоцененным, считал себя всегда должником, всегда, а теперь не только должником, но еще и расточителем… Кроме того, вся группа все равно бы не вернулась. Ведь и до сих пор еще есть какая-то часть, цепляющаяся за что-то непонятное, что мешало им вернуться и в 1923 году, когда вернулся И. Н. Берсенев. Многие так и умерли там, а иные прозябают в самых тяжелых, унизительных условиях… Но теперь уже поздно: пути, начавшие расходиться в 1922 году, разошлись слишком далеко.
Как это иногда бывает в серьезнейшие, поворотные часы жизни, они-то из памяти и улетучиваются. Кто провожал нас на вокзал, какие слова говорились, даже времени дня – не помню. Запечатлелось почему-то, как проезжали Польский коридор. Это было ночью, но польские жандармы всех разбудили и, тщательно проверив паспорта (советские!!), встали у обоих выходов из вагона, причем разводивший их унтер встал у двери нашего купе и сказал, вернее, крикнул обоим стражам: «Смотрите, чтобы ни одна собака к дверям не подошла, и в уборные тоже не пускать!» – и отец перевел нам это. Услышавший этот перевод унтер, видимо, знавший русский язык, любезно спросил отца по-польски: «Пан знает польский язык?» Василий Иванович, побледнев от гнева, встал и прямо в лицо унтеру по-русски выговорил: «Нет, я этого языка не знаю». Тот шарахнулся, взяв под козырек, отошел и, уже тихо отдав еще какие-то приказания своим подчиненным, исчез из вагона.
Наутро мы были на старой русской границе в Вержболове. Наши вспоминали свои довоенные возвращения через эту станцию. Теперь за ней начиналась не Россия, а враждебная нам буржуазная Литва. Не знаю, как впоследствии, но в 1922 году она была еще в очень многом совсем русской. Во время долгой стоянки в Ковно смазчики и сцепщики вагонов говорили по-русски, а один, идя вдоль вагонов и простукивая буксы своим молотком на длинной ручке, совсем как где-нибудь в Твери или Бологом, пел высоким, типично русским тенорком: «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя».
Мы стояли у окна и радовались. Но официально мы еще далеко были от родины: границы, таможни, проверки паспортов, визы, визы… Польская, немецкая выездная, литовская въездная, литовская выездная, латвийская въездная… Все медленно, нелюбезно, подозрительно.
Наконец 18 мая утром – Рига. Долго сидели на вокзале, никак не могли выяснить, когда будет поезд на Москву. Случайно на вокзале оказался администратор театра, где Василий Иванович недавно выступал. Он быстро выяснил, что поезд на Зилупе (граница Латвии) пойдет вечером, к нему, вероятно, прицепят советский вагон, который передадут через границу в Себеж, а там… дело советских.
В нашем распоряжении был целый день. У всех оказались знакомые, у которых можно было пробыть хоть часть времени. Василий Иванович с Ниной Николаевной пошли к московским друзьям Цейтлиным, я – к своему гимназическому товарищу Саше Шульману. Сходили мы еще и в баню – кто знает, скоро ли мы сможем еще хорошо помыться, ведь мы совсем неясно представляли себе условия, в которых будем жить в Москве.
Поздно вечером мы забрались в темный, освещенный только светом зари и вокзальных фонарей вагон. Это был старый-старый вагон «микст», такой же, как тот, в котором мы три года тому назад уехали из Москвы в Харьков, а может быть, это он и есть? Вспомнили, кто в каком купе ехал, и даже какие-то опознавательные знаки обнаружили. Очень всем хотелось, чтобы было именно так, что-то в этом видели символическое, какое-то прощение грехов, вроде как страна наша ждала нас и сохранила нам наш вагон, чтобы сделать эти три года не бывшими, – сели в этот вагон в июне 1919 года, а из него вышли в мае 1922 года, а все, что было, – нам приснилось. Ничего будто и не было.
Спали все плохо, тревожно и беспокойно. Я несколько раз выходил в коридор и каждый раз встречался с кем-нибудь «вышедшим покурить». То Н. Г. Александров, то Петя Бакшеев, то Василий Иванович. Поезд шел плохо, часто и подолгу стоял на каких-то маленьких станциях – ведь это был местный латвийский поезд, связывающий Ригу с восточными окраинами страны. Где-то среди дня мы подошли к Зилупе. Последняя проверка паспортов, сверка их со списками и с лицами – очень почему-то внимательно сверяли фотокарточки с нашими физиономиями.
В Зилупе было очень много латвийских военных – и жандармы, и солдаты-пограничники, и просто солдаты, и офицеры. Все почему-то страшно мордастые, свирепые, подчеркнуто воинственные, вылощенные и подчеркнуто элегантные: сапоги их были до блеска начищены, франтовские мундиры туго и гладко облегали их упитанные тела. Масса оружия – винтовки, пистолеты, сабли, тесаки. На бетонных вышках – пулеметы, на самой станции – бронепоезд с расчехленными пушками. Как будто ожидается нападение врагов или уже идет война.
Мы долго пробыли в Зилупе. Одинокий наш вагон был отведен метров за сто от станции и там стоял, окруженный бдительными жандармами и пограничниками. Все двери были заперты, окна закрыты. Потом с советской стороны подошел паровоз, нас прицепили к нему, и мы медленно двинулись через нейтральную полосу.
Последнее, что мы видели в стране, которую покидали, были бульдожьи морды «защитников европейской законности и порядка», державших «у ноги» винтовки с примкнутыми штыками.
Но вот позади нейтральная полоса, вот арка с полусмытой дождями надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», вот землянка, на крыше которой два красноармейца. Один лежит на животе и помахивает в воздухе босой пяткой, из-под сдвинутой на затылок фуражки под белесыми бровями – покойные, любопытные глаза. Другой, спиной к нам, что-то наигрывает на гармошке. Мне не хочется видеть тут символы, но в этой противоположности характеров двух стоявших лицом друг к другу воинств были потрясающие образы, олицетворение двух миров. Одного – трусливого и потому фанфаронски задиристо-воинственного, и другого – мощного и потому спокойного и мирно-отважного. Одного – фальшиво напряженного, другого – искренне миролюбивого.
Василий Иванович радостно заулыбался, глядя на босого «вояку», – вот она, Русь, простая, легкая, свободная… И на душе стало светло и легко…
Через много лет я спросил его, помнит ли он въезд в Россию в 1922 году? «Как же, – сказал он, – босого красноармейца-то? Конечно, помню, разве такое забудешь?»
Мы подъехали к станции Себеж. На платформе шло обычное для провинциальной станции гулянье. Густая толпа перетиралась под окнами нашего вагона. Торговались, ругались, хохотали, пели… «И все по-русски», – невольно удивлялись мы. Было странно и непривычно от сплошь русской речи.
Нас довольно долго проверяли, осматривали ручной багаж (большой багаж пошел на московскую таможню).
Из Москвы навстречу нам выехал администратор МХАТ С. А. Трутников. Он довольно энергично способствовал ускорению всего процесса проверок, осмотра и, главное, отправки вагона, и ко второй половине дня мы уже ехали по России.
Мы не отрывались от окон, хотелось смотреть и смотреть; все казалось другим, чем везде, своим, родным… «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, – как слезы первые любви», – читал Василий Иванович, и, как никогда, остро, и сладко, и нежно, и страстно воспринимали мы эти слова. Мне кажется, никогда в жизни я не ощущал такой напряженной, такой переполняющей любви к Родине…
На другой день к вечеру мы были в Москве. Вокзал кишел народом, суетливым, неумелым, не приспособленным к путешествиям. С непортативным, нескладным багажом, с испуганными глазами, с красными, потными лицами, люди неслись куда-то не туда, их возвращали, они волокли свои мешки и сундучки обратно. Как это было не похоже на берлинский вокзал, с которого мы уезжали! Там все ездят привычно, спокойно, организованно. Но нам и в этом хаосе виделось что-то милое, теплое, свое, смешное и родное – ведь и в нас это было, ведь и мы где-то внутри были такими же неорганизованными. Но не в этом даже дело, просто все русское, все родное – нелепая суета вокзала, булыжник привокзальной площади, ни на каких других в мире не похожие извозчики с пролетками «в виде сломанных скрипок» – все, все вызывало наше умиление и приязнь. Уж очень всему были открыты наши души, уж очень иссохли от тоски по родине наши сердца. И все, что мы воспринимали родного, своеобразного, не похожего на заграницу, – все было на потребу, все радовало и грело. Так, вероятно, возвращался бы в родной аул надолго оторванный от него горец – бедная сакля, грязновато все, серо и тесно, но и серость и грязь родные, дорогие, в них прошли детство и юность.








