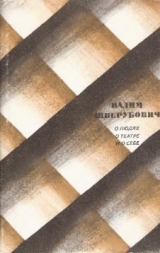
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Но вот уже прозвенел звонок – поезд, который был специально задержан, простоял свыше двадцати минут, но больше стоять он уже не мог. Мы, целуясь и обнимаясь одновременно с десятками друзей, кинулись к вагонам, но и тут нас встретила неожиданность – на каждом месте был поставлен картон с бутербродами, бутылками, конфетами, сигаретами. Все купе были надушены духами, на каждом столике стояли букеты цветов…
Паровоз загудел, толпа человек в двести пятьдесят грянула «Живио!», и под эти сердечные крики, едва видя сквозь слезы умиления и счастья дружеские и весело-заплаканные лица жителей нашего любимого Загреба, мы отъехали от вокзала. Ну как было не измениться нашему настроению? Как было не поверить в свое счастье, в свое право на успех, ведь если «маленькая Вена», как любили называть свой городок коренные загребцы, так исключительно полюбила нас, неужели же и большая, настоящая Вена не примет нас и не полюбит?..
Больше уже никто не дремал, все, перебивая друг друга, говорили об этой дивной встрече, об этой четверти часа, до краев наполненной любовью и таким ценным для нас признанием. Эта любовь еще теснее спаяла нас, ведь не только несчастье и горе объединяет людей, но и общая любовь…
Скоро была австрийская граница. В вагон вошли щеголеватые, любезные, чуть презрительно-фамильярные к пассажирам второго класса австрийские таможенники и жандармы – мы въезжали в Австрийскую республику. Часа через два мы были в Вене.
Это был самый трудный, самый ответственный наш сезон.
Как я уже писал, театр мы получили с огромным трудом. Никто не верил в серьезность и художественные достоинства нашей труппы.
Вена
Вена, как утверждали наши «старики», мало изменилась с 1906 года, она только обеднела и перестала быть столицей великой державы Австро-Венгрии с многомиллионным населением, а стала главным городом небольшой республики. Но верхушка общества осталась по составу той же, только обедневшей и постаревшей на пятнадцать лет. Они, все те, от кого зависела судьба наших гастролей, – директора государственных (бывших кесарско-королевских) театров, чиновники городского управления, ведавшие городскими театрами, писатели (Артур Шницлер, например), редакторы газет, театральные и художественные критики – все эти люди были если не на тех же, то около тех же постов, как и пятнадцать лет назад. И они, оказывается, отлично помнили гастроли Художественного театра. Но из тех, кого они помнили, теперь здесь была одна «госпожа Книппер-Чехова». Помнили они Немировича-Данченко, Москвина, даже Савицкую, Лужского и Артема, и, конечно, не по гастролям только, а и по частым упоминаниям в газетах и журналах знали Станиславского. Из приехавших даже Василия Ивановича мало кто помнил – в 1906 году он был далеко не выгодно для себя показан: Барон в «На дне», Тузенбах в «Трех сестрах», Петя Трофимов – все эти роли были второстепенными. А другие наши премьеры либо совсем не были в той поездке (Массалитинов, Берсенев, Бакшеев, Павлов), либо были «на выходах» (Александров, Германова).
Так вот, надо было пробить стену подозрительного и презрительного недоверия. Вот тут надо отдать должное С. Л. Бертенсону. Благодаря своему отличному немецкому языку, своей светскости, лоску, своим визитным карточкам с баронской короной и со званием «доктор» и частицей «фон», которые были на них напечатаны и которым вполне соответствовали его тон, манеры и лексикон, – он был охотно везде принят и сумел внушить доверие к труппе, которую представлял.
Открылись мы 8 апреля «Тремя сестрами» в помещении Stadttheater («Штадттеатр»).
Продажа билетов шла плохо. Чтобы как-то ее форсировать, нужна была реклама. Причем для Вены, бедной, полуголодной, продававшей американцам за хлеб, сахар и консервы свои изумительные гобелены, фарфор, хрусталь и другие сокровища музеев, нужна была не та реклама, какую мог дать Л. Д. Леонидов, то есть афиши, анонсы, объявления в газетах (хотя и это было трудно – мало было денег), нужна была тонкая, умная реклама – беседа с Артуром Шницлером, интервью с Раулем Асланом, репортаж о встрече Ольги Леонардовны с Блейбтрой, премьершей «Бургтеатра». Вот этого всего и добился Бертенсон.
Так что к первому открытию занавеса в Вене, когда М. Н. Германова сказала дрожащим от волнения голосом: «Отец умер ровно год назад…» – зал был, как говорил наш оптимист Леонидов, «наполовину полон». Волновались мы все! Так все было трудно, так холодно-враждебен казался нам весь этот город! Вена, город, который все бывавшие в нем хоть раз, вспоминают как самый любезный, самый радушный город в мире. Но нам он в эту первую неделю таким не казался. Уж очень на нас косо смотрели наши коллеги в театре. Чего стоило добиться в нашем и в принадлежавшем тому же хозяину Театре в Иозефштадте разрешения взять со складов старые декорации для перекраски их!
Для «На дне» мы нашли декорации, в 1911 или 1912 году сделанные по фотографиям МХТ для этой же пьесы, которую играла и которую провалила местная труппа. Это было счастье, так как иначе мы вынуждены были бы играть «На дне» в сукнах. Для «Трех сестер» легко подобрали павильоны для первого и третьего действия, но в четвертом у нас стоял дом не то из «Фауста», не то из «Нюрнбергских мейстерзингеров», правда, на нем висела большая табличка: «Доктор Чебутыкин».
С «Дядей Ваней» было нетрудно – играли все в одной декорации. Но вообще трудно было со всем: с мебелью, реквизитом, светом, трудно было от презрения к нам административно-технического персонала. Русские «варвары», с которыми недавно только воевали, о «зверствах, грязи, дикости» которых пропаганда рассказывала ужасы, эти полулюди осмеливаются показывать свое «искусство» в Вене, веселой Вене, которую они считали «центром мировой культуры».
Когда я, войдя на сцену театра, снял по нашему обычаю шляпу, один из старых рабочих спросил: «Когда тебя успели этому обучить?» – и не поверил мне, что это наш обычай, что мы по сцене не только в шляпах, но и в пальто не позволяем ходить ни себе, ни другим.
На этот раз обычного и привычного нам чуда коренного изменения в отношениях после первого спектакля не произошло. Любезнее и несколько уважительнее стали, но дружбы, сердечных взаимоотношений не получилось. Я думаю, что это из-за театра. Это был чисто коммерческий театр, где все определялось сборами, а мы проходили на шестьдесят-семьдесят процентов. И пресса была хорошая, но сенсации не было, а привлечь не понимающую языка публику могло только наличие именно сенсации, моды. Этого не получилось. Но изменение отношения «общества» произошло коренное: после премьеры «Вишневого сада», в котором Аню играла вступившая в нашу труппу Алла Тарасова, спектакля, прошедшего с огромным успехом, президент управления государственными театрами, тайный советник доктор Феттер пригласил всю труппу на большой прием, «на чашку чая».
Бертенсон, конечно, не захотел, чтобы все были туда допущены, он отобрал «семь пар чистых», только тех, кто, по его мнению, имел право представлять русскую интеллигенцию в венском свете. Я благодаря знанию немецкого языка был допущен, но на другой день получил уничижительный разнос за то, что поцеловал руку барышне – восемнадцатилетней дочери Феттера: «Где вы воспитывались, чему вас учили, если вы не знаете, что девушкам рук не целуют». Я от дикого конфуза, целуя пятнадцать дамских рук, не сообразил, что шестнадцатая – девичья…
Утром 16‑го мы играли «Три сестры» для Союза актеров. Вот тут был аншлаг! Театр был забит до отказа. «Эх, если бы такой сбор, да платный!» – скрежетал зубами Леонидов. Успех был огромный. Небывалый в обычные дни, как и наполненность зала.
Конечно, это был не Загреб, и не Любляны, и не София, не было ни слез, ни восторга, ни цветов, но для Вены и это было грандиозно.
После этого спектакля наши «главари» (а с ними и я) стали получать приглашения во все театры Вены, мы увидели ряд изумительных спектаклей. В Бургтеатре – «Мессинскую невесту» Шиллера с Блейбтрой и с Асланом; «Гамлета» с Иенсеном; и в замечательном оформлении, с дивными световыми эффектами «Росмерсхольм»; в опере слушали «Кольцо Нибелунга». В каком-то маленьком театре – «Тайфун», и много еще хорошо сыгранных, интересно поставленных и, что на меня произвело самое большое впечатление, очень художественно и технически совершенно оформленных. На всю жизнь не забуду призрака в «Гамлете», который шел по зубцам, наступал и на пустоту между ними, а сквозь него светили звезды… А заходящее солнце в «Росмерсхольме», луч которого перемещался с предмета на предмет, подымаясь все выше и выше и меняя цвет от желтого к оранжевому и красному, по мере того как садилось солнце… А как было освещено лицо, одно только лицо, почти одни глаза у Иенсена во время монолога «Быть или не быть…». А Блейбтрой – донна Изабелла в «Мессинской невесте» – как она была прекрасна!
В Вене наши премьеры поняли, почувствовали, что, как они ни хороши, как ни крепко сидит в них мхатовская закваска, но еще год‑два таких скитаний по миру без новой работы, главное, без контроля Константина Сергеевича и Владимира Ивановича – и мы скатимся к провинциализму, к самоэпигонству, к гибели…
Надо было подчистить, подтянуть и то, что мы играли, надо было повысить требования к себе и друг к другу. В этом смысле Вена сыграла огромную роль. Соприкосновение с требовательной и взыскательной публикой, публикой, не настроенной заранее гостеприимно и по-братски, как это бывало в славянских странах, и, с другой стороны, возможность соприкоснуться с высокой и глубокой театральной культурой – все это не могло не подействовать на нашу труппу, не могло не заставить ее подтянуться, почиститься, пересмотреть свою работу и повысить требовательность к своему мастерству.
Сыграло роль и появление в наших спектаклях Аллы Тарасовой. Она была совсем юной актрисой и по годам и по свежести, чистоте, свободе от штампов. Как всякая неофитка, она была сурово-требовательна к чистоте школы, к верности заветам, в которых еще недавно воспитывалась. Она никому не делала никаких замечаний, она просто удивлялась, а иногда краснела до слез, когда чувствовала фальшь, наигрыш, «представление», штамп. И если не все, то многие, очень многие подтягивались и убирали «ракушки». Не все в этом сознавались, но вот Василий Иванович при мне говорил, что даже растерялся от взгляда ее строгих и как будто смущенных за него глаз, когда он репетировал с ней Гаева; сразу слетали трючки, и серьезнее стало все. Ольга Леонардовна говорила на это свое «глупости какие», но по глазам было видно, что и она довольна этой атмосферой строгости и чистоты, которую несла с собой Алла Константиновна.
Отношение к нам работников театра к концу все-таки довольно сильно изменилось; в том, что вначале они так недоверчиво к нам отнеслись, было больше художественного, театрального патриотизма, нежели национальной неприязни. У австрийцев мы никогда не замечали злопамятности к нам как к бывшим врагам. Им просто трудно было допустить мысль, что те, кого они привыкли считать полудикарями, могут заниматься высоким искусством. Но вне театра мы ни в начале гастролей, ни в конце не ощущали враждебности; особенно, пожалуй, хорошо к нам относились те, кто должен был бы больше других нас ненавидеть, – это люди, бывшие в плену в России. Таких было очень много. И об этом они вспоминали без злобы, без ужаса, а скорее, пожалуй, наоборот – с теплом и любовью.
Как-то мы с Василием Ивановичем зашли в огромный ресторан-пивную – «Rathauskeller» («Погреб под ратушей»). Это была гигантская пивная, заставленная десятками ничем не покрытых столов, за которыми сидели в пальто и шляпах и пили пиво и закусывали самые разные люди: адвокаты с портфелями, служащие ратуши, ломовые извозчики, студенты-корпоранты, солдаты, целые бюргерские семьи с детьми.
Мы сели, заказали пива, сосисок. Под сводами подвала стоял ровный гул от негромких разговоров, стука и звона посуды, ножей и вилок. Вдруг Василий Иванович прислушался и, чуть привстав, потянулся ухом куда-то в сторону. Я тоже напряг слух – сквозь ровный многоголосый шум можно было ясно расслышать мелодию «Из‑за острова на стрежень», которую пело множество грубых мужских голосов. Потом запели еще что-то уже не русское, а потом опять русские песни. Мы решили, что это какое-нибудь белогвардейское сборище, но потом поющие так дружно прокричали трехкратное «хох», что мы усомнились, русские ли это.
Расплатившись, мы пошли на голоса, и что же оказалось? В углу подвала за тремя или четырьмя столами сидели человек тридцать-сорок мужчин, пили пиво и пели, главным образом русские песни. Они стройно, но с явно нерусским акцентом запели «Вниз по матушке по Волге». Спросили кельнершу, кто это такие, она нам объяснила, что это ежегодная встреча «русского землячества» – австрийских солдат и офицеров, проживших по два‑три года в плену в России. В определенный день они съезжаются в Вену и сходятся здесь, чтобы вспомнить годы плена.
Когда кельнерша рассказала им, что мы русские, нас заставили подсесть к ним, все хотели с нами выпить и наперебой рассказывали, как хорошо к ним отнеслись в России – в Сибири, на Урале, на Волге, где кто из них был, какой замечательный народ русские, как они хорошо поют, пьют, какие приветливые там женщины…
Мы вспомнили того мальчика-австрийца на трамвайном прицепе в Москве, которому старушка сунула булку. Это ведь такое свойство у нашей страны – все, кто в ней пожил, никогда ее не забывают и всегда вспоминают ее и русских людей с любовью и благодарностью.
В общем, у нас осталось от Австрии, вернее, от Вены хорошее воспоминание, хотя жилось нам трудно и из-за работы (особенно вначале) и из-за безденежья и вообще скудности во всем.
Сыграли мы там все три чеховские пьесы, «На дне», «Карамазовых» в два вечера и один раз «Врата». Ни «Лап», ни «Осенних скрипок», ни «Мудреца», ни, конечно, «Потопа» не играли. «Врата» прошли с успехом, слушали и принимали их очень хорошо, но сбор был совсем плохой – венская публика хотела видеть русских актеров только в русском репертуаре, смотреть их в пьесе Гамсуна ей было неинтересно.
Пресса в Вене была, в общем, хорошая, причем она улучшилась к концу гастролей, да и сборы имели тенденцию к повышению. Так что можно сказать, что Вену мы победили. Это не было, конечно, торжеством завоевания, как в Софии и Загребе, но и объект был другой! Вена – ведь это действительно одна из столиц мира, во всяком случае, в том, что касается культуры, искусства, театра.
Уехали мы из Вены все же с облегчением, с чувством людей, благополучно закончивших тяжелый и ответственный труд, завершивших его успешно.
Прага
Прага встретила нас тепло. Прежде всего тепло в буквальном, температурном смысле. Мы приехали туда в последние дни апреля. Были дивные весенние дни, а в Праге май удивительно прекрасен.
Поселились в двух отличных, близко друг к другу расположенных гостиницах «Граф» и «Беранек». Театр – «Виноградске дивадло» – был тоже недалеко, минутах в десяти-двенадцати от гостиниц. Театр был великолепный. Ивану Яковлевичу было из чего выбрать и павильоны и пейзажи. Да и отличные мастерские были предоставлены в его распоряжение – было где переписывать и переделывать декорации.
Завоевывать доверие и уважение здесь не пришлось – оно было завоевано с 1906 года. Здесь помнили, любили и уважали Художественный театр. Здесь любили все, в чем видели родственное, славянское. Ни одна славянская страна, вернее, ни один славянский народ не был так давно и крепко связан с Россией культурными, творческими каналами (если не считать Кирилла и Мефодия, но я не о тех далеких временах говорю, а о XIX веке), как чехи с русскими, как Прага с Москвой.
Мы как-то удивительно остро и радостно ощутили эту связь. Вокруг нас сразу, буквально с первых дней приезда, сгруппировалось целое общество самых разных, но одинаково дружелюбных и сердечно настроенных к Художественному театру людей. Нет, пожалуй, неправильно будет говорить о сердечности, это в Софии и Загребе была только сердечность, здесь не это главное, здесь, в Праге, главной была глубокая и умная заинтересованность в творчестве, в методе, стиле и характере нашего театра. Может быть, не было того семейного тепла, интимности и уюта, как в Загребе, но был внимательный, вдумчивый, доброжелательный и требовательный интерес. Да, требовательный, взыскательный взгляд следил за нашими спектаклями, концертами, выступлениями в печати.
Интересовались и планами на дальнейшее, репертуаром, писали, советовали готовить то или это. Были предложения создать школу, театральное училище или войти, влиться в чешскую консерваторию, открыв в ней русско-чешский драматический факультет.
Вообще как-то сразу, даже до открытия сезона вокруг театра создалась атмосфера стабильности, покоя, постоянства существования нашей группы в Праге. У всех, окружавших нас, было стремление создать у наших ощущение того, что они дома, что Прага – это не этап странствий, а завершение их.
За пять-шесть дней, которые мы прожили здесь со дня приезда и до открытия сезона, вокруг нас завертелась, закипела и успела перекипеть и выкристаллизоваться борьба русской эмигрантской колонии.
Как и везде в те времена за границей, в Праге были разные и резко враждебные друг другу лагеря и группировки эмиграции – от крайних монархистов до «левых кадетов» и даже эсеров. Все они пытались завербовать нашу группу, вовлечь ее в свои ряды. Берсенев, к которому, как к нашему представителю, вожаки этих организаций и групп в первую голову обращались, оказался на большой высоте. Он сумел сразу поставить нас не только вне каких бы то ни было их партийных группировок, но и вообще вне рядов эмиграции. Он, а за ним и все остальные при встречах и с эмигрантами и с чешскими политическими деятелями утверждали, что мы ни в коем случае не изгои, что путь к возвращению на родину для нас не закрыт.
Сначала он, а потом и Василий Иванович и Ольга Леонардовна подтвердили то, что мы, вероятно, вернемся на родину в ближайшем будущем. Это сразу оттолкнуло от нас «организованную эмиграцию» и наоборот, привлекло к нам массу в тот период колебавшихся, во всем сомневавшихся, готовых перестроиться и ждавших, жаждавших влияния извне, чтобы «сменить вехи», рядовых беженцев. Многие из них формально входили в разные партии, но в душе (во всяком случае, лучшие, честнейшие из них) больше всего томились и тосковали по родине.
То, что мы оказались вне всяких направлений, вне эмиграции, было очень одобрительно принято чешским обществом и даже правительством. Им эмигрантская шумная, визгливая драчливость, видимо, очень уж надоела. К тому же не сегодня-завтра в Праге ждали советскую делегацию для торговых (а может быть, и политических) переговоров. Ведь это была весна 1921 года – всем было уже ясно, что Советская власть утвердилась в России навсегда, что гражданская война закончена полной победой, интервенция разгромлена, Кронштадтский мятеж ликвидирован, что на всей почти территории России началось восстановление, а значит, в Европе начнется борьба за этот новый огромнейший рынок… А тут под боком идет эта грызня и склока.
Россию и русских здесь любили и традиционно и искренне, но эмигрантские счеты между собой, драки и плевание друг в друга раздражали. Наша внеэмигрантская позиция очень способствовала созданию вокруг нас атмосферы дружелюбия и почтения и побуждала к стремлению облегчить нашу работу и жизнь. Но основным, конечно, были наши спектакли.
Шли они очень хорошо, мне кажется, лучше, чем когда-либо. Очень многое дало труппе возвращение в нее Аллы Тарасовой. В Вене она своим участием подняла «Вишневый сад», который до нее, с Краснопольской, чья Аня была большим художественным компромиссом, шел много хуже. Теперь Тарасова стала играть Аню еще намного лучше и сыграла еще и Ирину в «Трех сестрах», где она была гораздо лучше Крыжановской. Она играла в очередь с ней, причем, когда та играла Ирину, Алла Константиновна играла горничную, чтобы не заставлять делать это обиженную Краснопольскую.
Кроме этого, Тарасова сыграла вместо Краснопольской и фрекен Норман в «Лапах» и вместо Орловой – Верочку в «Осенних скрипках». И все лучше предыдущих исполнительниц.
В нашем рукописном журнале, издававшемся «Серкомом» (С. М. Комиссаровым), появились стихи:
« Мужской хор:
Нашлась Тарасова,
Ура, ура, мы спасены.
Женский хор:
Пускай кричит „ура“ сова,
А мы молчим, мы смущены…»
Так оно было действительно: с приходом Тарасовой все встало на место, труппа стала полноценной, казалось даже странным, что мы могли существовать без актрисы такого необходимого амплуа.
Начав сезон 2 мая, мы закончили его 7 июня, играя каждый день без единого выходного. Мы сыграли за это время около сорока спектаклей, причем почти все с аншлагами. Пресса была все время самая хвалебная. Появились статьи о наших спектаклях и в «Berliner Tageblatt» («Берлинер тагеблатт») и в немецких театральных журналах. Не знаю, какие спектакли проходили хуже, какие лучше; кажется мне, что прием был разнообразным, но равно хорошим. Не играли только «Потоп».
Условия жизни были очень хорошие, выдачи «на марки» были превосходные, но Иван Николаевич от каждой получки откладывал такую сумму, что нам представилась возможность не работать совсем месяца два‑три. За это время решили готовить новый репертуар.
На бурных и продолжительных общих собраниях шли горячие споры о том, что ставить. Чего только не предлагали! И «Гамлет», и «Гроза», и «Лес», и «Чайка», и «Иванов», и «Лев Гурыч Синичкин».
К нашей группе тянулось много актеров, оказавшихся за границей. Шла переписка с Хмарой (он был в Берлине), с Жилинским и Соловьевой (в Ковно), с Ричардом Болеславским (сначала в Варшаве, потом в Берлине). Было и еще много писем с просьбой принять в группу, но я их не помню. Запомнил только тех, кто в результате вступил в нее.
Болеславский предлагал себя не только (вернее, не столько) как актера, сколько как режиссера. Он предлагал поставить «Гамлета», писал, что у него есть готовый постановочный план его. Это, мне кажется, решило выбор: раз он берется ставить «Гамлета», будем его играть. Как бы ни сложилась наша судьба, иметь в репертуаре «Гамлета» – это же замечательно!
Стали искать репетиционное помещение. Болеславский не собирался долго работать за столом, он предлагал приехать и приступить к делу в начале июля, с тем чтобы в середине месяца уже репетировать в мизансценах. Тогда решили на месяц разъехаться кто куда на отдых, а к 15 июля собраться в Праге – репетировать в репетиционном зале и две‑три недели на сцене. Перспективы жизни и работы в Праге в июле – августе нашу группу не радовали совсем. Как это ни странно, но Прагу мы, во всяком случае большинство из нас, не полюбили. Признавали ее красоту, удивительную прелесть Старого города, Влтавы, мостов, ратуши, признавали и ценили, но привязанности, родственного чувства к Праге не родилось. Умом понимали, что Прага во всех отношениях значительнее, да и красивее, чем Загреб, и все-таки при одном упоминании нашего милого Загреба у всех прояснялись лица и влажнели глаза. Я думаю, что это было оттого, что в Праге мы жили чисто «отельной» жизнью, с друзьями и поклонниками встречались на банкетах, раутах, вечерах и т. д. В Загребе же мы с хорватами работали в одном театре, мы как бы стали одной труппой – мы толклись у них в фойе и артистических уборных во время их спектаклей, они были как дома за кулисами у нас. Мы ходили на их репетиции, кое-кто, например, Иван Яковлевич и С. Л. Бертенсон, даже принимали участие в их постановках, они часто сидели на наших репетициях, их главный дирижер не брезговал налаживать музыкальное сопровождение и дирижировать сценическим оркестром в наших спектаклях, «еврейским оркестром» в «Вишневом саде», военным в «Трех сестрах» и «множеством тихих скрипок» в «У жизни в лапах». Эта общая работа сроднила нас с труппой, а через нее – и с городом. Ведь ничто так не сближает людей, как совместная работа, да еще работа в любимой области – в искусстве.
Но тут, в довершение всех благ (дотация в виде скидки с платы за аренду театра, снятие всех видов налогов, распоряжение владельцам отелей о взимании с нас платы за номера, как с чехов, так как иностранцы платили дороже, и т. д.), которыми осыпали нас чехи, они еще предоставили нам в прекрасной местности близ города Мелник дом «Замек Неуберг». Это была баронская усадьба с дивным парком, со всей обстановкой, с дворецким и экономкой, с постельным и столовым бельем, с кухонной и столовой посудой. И все это абсолютно бесплатно.
Берсенев организовал там хозяйство и коммунальное питание. Но самое главное, в этом «замке» был огромный полуподвал, в котором можно было репетировать. Иван Николаевич попросил провести туда освещение, так как дневного света там было мало. Проветривалось помещение очень хорошо, там было сухо и тепло, так как рядом с нашим будущим репетиционным помещением была бывшая прачечная с большой печкой. Таким образом, все отлично решалось – с 10 июня мы можем переехать в наш «замек», месяц там отдыхать, а с середины июля начать там репетировать.
Два с половиной месяца жизни на прекрасном воздухе и возможность в таких условиях приготовить «Гамлета»! Так мы и сделали.
Два часа поездом до Мелника и полчаса ходьбы от вокзала до нашей резиденции. «Замек Неуберг» (владелец которого, барон фон Неуберг, уехал в Австрию) принадлежал государству, старый дворецкий – чех пан Аугуст и экономка – пани Новакова составляли весь его штат. Берсенев нанял еще кухарку и уборщицу-судомойку. Подавать на стол, убирать со стола должны были дежурные из нашей группы. Нас там жило человек сорок, так что дежурить приходилось не чаще раза в неделю. Дежурили по четыре человека. Это было всегда темой шуток и смеха и проходило легко и весело.
Вообще жизнь наша наладилась. Замок стоял в лесу, от которого его отделяло шоссе, а от шоссе его двор был отгорожен высокой железной решеткой. Дом выходил одним фасадом на этот двор, другой фасад выходил в огромный и очень разнообразный парк, где были ели, пихты, лиственницы, липы, буки, дубы и масса цветов и кустов. Сейчас это немного одичало: пан Аугуст не мог ухаживать за садом, он был стар и слаб. Кое‑что привели в порядок наши дамы, но все-таки все выглядело немного дико и свободно, и это было еще лучше.
Наша группа-семья все росла и росла. В Загребе к нам вновь присоединился Сураварди, в Вене – Алла Тарасова с мужем, годовалым сыном и милой няней-украинкой «з пiд Катеринославу»; наша Машенька Крыжановская вышла замуж за скульптора Аркадия Бессмертного, который удивительно играл на гитаре и свистел; вскоре к нам приехал племянник Ольги Леонардовны – Лев Книппер (позже известный композитор); через месяц мы радостно и комически-торжественно встречали Ричарда Болеславского с женой Натальей Платоновой (бывшей петербургской кафешантанной певицей); потом приехал Г. М. Хмара, потом Жилинский с Соловьевой…
Совместно отмечали все дни рождения, именины, дни свадьбы и т. д. Особенно весело отпраздновали именины Ольги Леонардовны – пили, пели, гуляли всю ночь. Она всегда, а в то лето как-то совсем уж особенно была любимицей труппы.
Василий Иванович поздравил ее стихами, которые начинались так:
«Приветствовать Ольгу, мою Книпперушу,
Готов без конца я стихами,
Ведь я же люблю ее „больше, чем душу“,
Ну, словом, не скажешь словами.
О, сколько, Ольгуша, с тобою связалось
Прекрасного, светлого, всякого,
О, сколько событий пред нами промчалось
И сколько имен от Акима до Якова!»
Не жила с нами М. Н. Германова. Она была обижена на группу. Ее никак не устраивал «Гамлет». Она с семьей жила где-то под самой Прагой, где ее муж – профессор-археолог А. П. Калитинский – получил кафедру в университете. Не жил с нами и С. Л. Бертенсон – он лечился в Карловых Варах и приезжал к нам только раз‑два за лето, когда проводились общие собрания группы.
Кроме добавлений извне наша группа пополнялась еще и, так сказать, «изнутри»: Катруся Краснопольская, жена Массалитинова, лишившись с приходом Тарасовой ряда ролей, утешилась, родив прелестную девочку. Жена Берсенева – О. Н. Павлищева – тоже родила девочку. Теперь у нас в группе было уже пять детей: Андрюша Калитинский, Валя Гремиславский (по семи лет), Алеша Кузьмин (тарасовский) одного года и две новорожденные девочки.
Жили дружно и приятно. Каждый день часа по четыре – четыре с половиной репетировали в нашем «репетиционном помещении» в подвале. Там было тепло и сухо в дождливую и холодную погоду и прохладно в жаркие дни.
В часы репетиций все в доме и вокруг него замирало – все всегда помнили о работе, даже если в ней и не участвовали. В свободное время купались в реке, гуляли, играли в городки во дворе перед домом. Эта игра страшно заинтересовала чешскую молодежь, мальчишки и юноши, проходившие по шоссе мимо наших ворот, застревали перед ними на долгие часы, но со свойственной чехам воспитанностью к нам не заходили.
Василий Иванович очень много работал над текстом Гамлета. Он, как всегда, не удовлетворялся имеющимися переводами и комбинировал свой текст из них и, кроме того, додумывал и досочинял сам. Достали английский текст, и Сураварди переводил его и растолковывал смысл и особенности отдельных выражений.
Репетиции шли в удивительно легкой и хорошей атмосфере: все были довольны своими ролями, многие очень увлечены ими. Тарасова и Крыжановская по очереди репетировали Офелию. Обе работали в полную силу, а Алла Константиновна даже, можно сказать, самозабвенно. Это была ее первая большая роль, большая и в смысле «главности» и по ее месту в истории мировой литературы. Она это очень глубоко понимала и искала под руководством Нины Николаевны, которой очень верила еще со времен «Зеленого кольца», какие-то новые для себя приемы, добивалась особой, «высокой» дикции, ритмичности и музыкальности речи…
Ольга Леонардовна играла королеву Гертруду, а Н. О. Массалитинов короля в крэговско-станиславском спектакле. Играли, кажется, хорошо. Но, как они (вернее, Николай Осипович) говорили, мучительно боролись с собой во имя крэговского толкования. Теперь они были свободны. Режиссеры не давили на них, никуда их не тащили насильно. Никакой декларативности, полемичности в задачах режиссуры не было: стремились только к вдумчивому, глубокому пониманию мысли Шекспира и такой же передаче ее, но форму искали поэтичную и романтичную. Конечно, виденные нашими, особенно Ниной Николаевной и Ольгой Леонардовной, спектакли венского «Бургтеатра» («Гамлет», «Мессинская невеста» и другие), певучесть речи австрийских актеров, некоторая декламационная приподнятость речи, как она ни чужда нашему актеру, пленили их и внушали им неприятие слишком «низкой», слишком бытовой речи. В этом смысле труднее всех было преодолеть инерцию Павлова – Полония, которого тянуло то к Федору Павловичу Карамазову, то к Чебутыкину, то к какому-то «вообще папаше» из водевиля. Но он был одаренным человеком, способным к борьбе со своими штампами.








