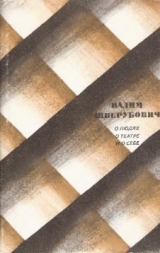
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Когда вечерами мать и отец шли играть в театр, я представлял себе, что они там играют в игру «театр». Да оно отчасти так и было – уж очень они молоды были все.
В 1904‑м (год, с которого я их помню) Станиславскому («старику») был сорок один, отцу – двадцать девять, Москвину – тридцать, матери – двадцать шесть, Сулеру – тридцать два. А другие – «молодежь»: Подгорный, Комаровская, Веригина, Асланов – были совсем юными.
Это восприятие театра как места игр или даже как игры поддерживалось постоянными увлеченными и увлекательными рассказами о том, сколько сегодня хохотали, когда «Костя», играя Вершинина («Три сестры»), представился Лужскому – Андрею Прозорову: «Прозоров» и Василий Васильевич взвыл, закрыл рот рукой и, шатаясь, выкатился со сцены. Смеялись весь спектакль; вспоминая намерение (конечно, в шутку) Лужского ответить Константину Сергеевичу: «Представьте, я тоже». Затем обычно шла серия оговорок: «Безумнейший, ты не в своей тарелке» (вместо «любезнейший» – «Горе от ума»), «пойдемте в гостиницу» (вместо «в гостиную» в «Трех сестрах») и так далее без конца.
К сожалению, я мало и плохо помню, уж очень давно это было, ведь больше полувека прошло.
Любили рассказывать о фантазерстве Константина Сергеевича, фантазерстве абсолютно бескорыстном. Для убедительности своего высказывания он мог привести самый невероятный довод. Почтительный потомок самых почтенных родителей, он как-то сказал про какую-то актрису, игравшую кокотку (может быть, в «Травиате» или в «Даме с камелиями»): «Таких кокоток не бывает, я знаю, моя бабушка была кокотка». Не принимая звона бубенцов (звуковой эффект отъезда тройки), он утверждал, что сам служил в ямщиках. Знамениты его «один очень интеллигентный господин», сидевший в партере с градусником и жаловавшийся на холод, «почтенная старушка, почти глухая», слышавшая шум из-за кулис во время антракта, и т. д.
Что касается Немировича-Данченко, рассказывалось главным образом о его «епиходовщине» и его «двадцати двух несчастьях». То как, въезжая во двор театра, извозчичья пролетка, на которой он ехал, задела колесом за тумбу, резко качнулась, и сидевший в ней, как обычно гордо и величаво выпрямившись, Владимир Иванович подскочил, ткнулся носом в спину извозчика, и с него свалился и упал под колеса его знаменитый гордо лоснящийся цилиндр. И как назло по двору шла большая группа актеров, которые, конечно, не удержали взрыва веселого хохота. Владимир Иванович, подобрав цилиндр, нанял другого извозчика и уехал домой. И еще – как он опрокинул себе на живот и колени стакан очень горячего чая и, оглянувшись, поискав глазами Василия Ивановича, прячущего за чужие спины смеющееся лицо, сказал ему: «Ну почему со мной все это случается обязательно в вашем присутствии, ведь я знаю, что вы это коллекционируете». Дунул в портсигар и запорошил себе глаза; элегантно присел на край режиссерского стола – и крышка стола перевернулась, на Владимира Ивановича полетели графин, чернила, лампа… Споткнулся о чью-то ногу и растянулся в проходе между креслами в партере. И, наконец, любимейший рассказ: во время какой-то очень напряженной паузы, последовавшей за очень резким замечанием Владимира Ивановича одной из актрис, он вскочил, вылетел из-за режиссерского стола в средний проход и начал с хриплыми возгласами «ай! ай! ай!» кружиться вокруг своей оси и бить себя ладонями по бедрам и груди, потом сорвал с себя пиджак и стал топтать его ногами… Оказалось, что у него загорелись в кармане спички и прожгли большие дыры в брюках и пиджаке. Репетиция сорвалась.
На другой день В. В. Лужский рассказывал эту историю с невероятными подробностями: Немирович горел так, что пришлось вызывать две пожарные команды, они развернули шланг, направили струю воды на Владимира Ивановича и смыли его в водосточную трубу – «решетка у нас широкая, а он такой маленький, что проскочил было совсем, но Костя его увидел и вытащил». Ну и так далее.
Лужский имел способность бесконечно развивать такие фантастические повести, вводя в них все новых и новых действующих лиц – от министра Витте, полицеймейстера Модля, директора цирка Чинизелли, психиатра Баженова – до Дмитрия Максимовича Лубенина (старшего курьера театра), Алексея Александровича Прокофьева (буфетчика), «Котика» (жены Владимира Ивановича), городового Стрижака, который стоял на посту на углу Тверской и Камергерского, и т. д. Все эти лица в самых неожиданных и причудливых комбинациях участвовали в стремительно развертывающейся фабуле его повествования. Для всех находилась короткая, но яркая характеристика, своеобразная манера речи, собственный лексикон, дикция и голос.
Лужский любил и умел смешить и сам был необыкновенно и неудержимо смешлив. Как-то раз во двор театра въехал извозчик, у которого на сиденье пролетки лежала трость с гнутой серебряной ручкой, а сзади на втором извозчике ехал Лужский и хохотал. Хохотал и его извозчик так, что чуть не валился с козел. Так они прохохотали на радость встречным прохожим от самого Сивцева Вражка, где Василий Васильевич нанял первого извозчика, глухого старика, многократно возившего его и без приказа знавшего, куда надо ехать, – Лужский успел только положить на сиденье палку и занести ногу, когда извозчик тронул и поехал. Василий Васильевич нанял другого и поехал следом за первым. Так он приехал в Художественный театр на двух извозчиках. По этому поводу хохотали почти до конца сезона, придумывая все новые и новые варианты того, как и с кем это еще могло произойти.
До меня эти варианты доходили в пересказе отца, и, так как я не умел отделить вымысел фантастический от вымысла же (правды в этих рассказах почти не бывало) реалистического, – в голове у меня создавалось совсем уже сумбурное представление о том, что делается в театре, где играют не дети, а большие, взрослые люди. Поэтому я никак не мог вначале всерьез принять (понять я это и не пытался) рассказ о том, как «Володя глубоко вскопнул», а «Костя гениально, ну воистину гениально показал» кому-то. Я везде искал и ждал – а когда будет смешно. Но смешно бывало далеко не всегда.
Не могу сказать, что рассказы комические уступали место рассказам восхищенно-влюбленным, нет, они шли параллельно, пародии и юмор обвивались вокруг серьезного, но я постепенно начинал прислушиваться и к серьезным и старался не принимать их за неудавшиеся шутки (раз что не смеются), а соображать, что в театре «играют» иногда и всерьез.
Я не знаю, кого больше любили и чтили у нас в доме. У матери, как человека более импульсивного, отношение менялось в зависимости от того, как относятся к ней, как принимают ее. У отца отношение к людям было более стабильным и объективным.
И Константина Сергеевича и Владимира Ивановича он ценил и уважал бесконечно глубоко. Я думаю, больше всех на свете. Была у него к обоим и огромная любовь и нежность. Была и острая тревога за их здоровье, настроение, благополучие… Боязнь, чтобы кто-нибудь их не огорчил, не обидел. Но в характере отношения к ним была очень большая разница.
Отец любил больше Константина Сергеевича, чтил в нем гения, сверхчеловека; к нему не подходили обычные мерки, которыми определялся человек: «добрый» – нет, никак, скорее жестокий; «злой» – нет, ни в коем случае, он же благостный; «кроткий» – в чем-то да, но часто свирепый, беспощадный, безжалостный… безжалостный больше всего к себе – в своем безжалостном преодолении своей же жалости к человеку; «умный» – нет, но гений – да. Считал, что у него нет ума – такта, ума – умения наладить отношения с человеком, но есть гениальная способность (и глубокий ум в этом) подойти и разбудить творчество в актере. Он может быть бестактен, бесполезно груб с актером-человеком, но умеет с нежностью и мудростью проникать в самые глубины психики актера-творца.
У отца были периоды острого неприятия Константина Сергеевича, мучительного раздражения его поведением, его жестокостью… Потом под влиянием какого-то открытия, какой-то гениальной находки Константина Сергеевича, а иногда после какой-нибудь смешной оговорки или нелепого ляпсуса это проходило и сменялось почти обожанием. «Бурбон», «самодур», «Тит Титыч», – говорил он о нем. Причем бледнел, дрожали губы и пальцы. А потом: «Ну гений же, ну до чего талантлив, эх, если бы можно было идти за ним!» Недоступность для актера, заоблачность высот, на которые звал Константин Сергеевич, недостижимость его пределов – это было большой трагедией и для самого отца и, с его точки зрения, для всего театра, для всей деятельности Станиславского. Иногда он винил только себя, свою «трусость», свой «кокотизм» (стремление нравиться, любовь к успеху), но часто злился за это и на Константина Сергеевича.
Владимира Ивановича отец любил человечески меньше, но работать с ним он любил больше, чем с Константином Сергеевичем.
Если Константин Сергеевич звал отца к вершинам творчества, вел его по труднейшему, почти непреодолимо трудному пути и был его учителем и наставником в этике творчества, в методе подготовки себя к творчеству, в перевоспитании себя в творца, в умении раскрыть себя для лучшего и подавить в себе худшее (как в творческом работнике), звал к отваге духа, смелости, вере в истинно прекрасное и правдивое искусство и презрению к псевдокрасивому и лживому ремеслу – одним словом, помогал его творческому самопознанию, – то Владимир Иванович помогал ему конкретно в создании роли. Первое редко давало радость и никогда не давало удовлетворения. Оно было несовместимо с ним. Удовлетворение, удовлетворенность, довольство – несовместимы с той взыскательностью, к которой вел Константин Сергеевич. Второе же (работа над ролью) часто давало радость и нередко удовлетворение.
Помню, как за обедом: «Молодец Володя, так разутюжил сцену – все на место встало», и ясный, веселый и, главное, довольный, довольный и собой тоже (а ему это так редко доводилось!) взгляд.
На Владимира Ивановича отец злился, вернее, раздражался за стремление к славе, успеху, радостям жизни. Он не считал его гением и сверхчеловеком, как Константина Сергеевича, но верил в его ум и огромный талант. Ум Владимира Ивановича он считал вполне человеческим, европейски-деловым даже в решении философских и отвлеченно эстетических вопросов. В его «прозрения» не верил, но в чутье и в искусстве, и в литературе, и, конечно, в актерском мастерстве – верил очень.
В четыре-пять лет я, конечно, не так понимал, как написал теперь, но написал я это по глубоко врезавшимся в память самым детским воспоминаниям, провспоминавшимся через всю долгую жизнь, по-разному в разное время осмысленным, но в основном сохранившим первые контуры.
Так я воспринял этих двух великих людей, воспринял раз и навсегда, и никакие другие отзывы, никакие личные впечатления от долгих лет работы с ними и жизни подле них не могли стушевать и изменить тот их образ, который вычеканил во мне отец в самом раннем детстве.
Огромную роль в моем детском восприятии Константина Сергеевича и Владимира Ивановича играли еще и их внешние данные (Константин Сергеевич – огромный красавец, да еще с усами; Владимир Иванович – маленький и с бородой, «как у доктора»), их квартиры (у Константина Сергеевича – огромные, просторные светлые залы, лестницы, шкафы с рыцарями; у Владимира Ивановича – тесные комнаты, заставленные мягкой плюшевой мебелью, тоже «как у доктора»); у Константина Сергеевича – пес Каштанка, который «пел» – лаял под рояль, ласковая красивая Кира и тихий, нежный Игорь; у Владимира Ивановича – один Миша, который для гостей пилит по часу на скрипке.
Смущало только богатство Константина Сергеевича.
Мать читала мне басню «Стрекоза и Муравей», и толкование морали этой басни у нее было своеобразное: веселая и милая актриса Стрекоза жила, как и полагается жить всякому порядочному существу, то есть веселилась, гуляла, пела, радовалась жизни и, будучи сама доброй, надеялась на доброту других. А негодяй Муравей, жадный лавочник, скупой мещанин, злой, как все богатые, с издевательством оттолкнул ее. Она бы погибла от голода и холода, но добрый, сам бедный Навозный жук поделился с ней последним, и они дружно и весело перезимовали. Этот конец был придуман нами вместе, чтоб не дать умереть бедной актрисе.
Богатые обязательно жадные и злые, иначе они бы не были богатыми… Это, видимо, было крепко засевшей в нашей семье этической нормой.
В этом смысле богатство, «фабрикантство» Константина Сергеевича меня ужасно огорчало, и я должен был подыскивать разные «смягчающие вину обстоятельства», чтобы простить ему его общественное и имущественное положение. Одним из самых убедительных «смягчений» было то, что он получил богатство от отца и еще не успел его растратить, но он постарается, и к моей взрослости, когда я по-настоящему смогу дружить с ним (а об этом я очень мечтал), он уже будет «как мы», то есть будет проедать и пропивать все жалованье. Самое смешное, что так оно и случилось…
Если в смысле «социальном» и «экономическом» я был совершенно единодушен с родителями и всей их компанией, то в смысле политическом – наоборот. В пять лет, когда у нас ночевали прятавшиеся от полиции эсдеки, когда отец был зарегистрирован в охранном отделении как неблагонадежный и сам себя считал марксистом и социал-демократом, – я при всем честном народе, то есть при «революционно мыслящих» актерах заявил: «Нет, без царя скучно». Это была бомба. Отец был смущен, сконфужен, опозорен… Мать возмущена и со свойственной ей энергией и активностью начала выяснять, кто на меня так влияет. Подозрения падали на немку – фрау Митци, которая носила фамилию Витте и гордилась этим («А чем гордиться, ведь Витте – царский сатрап и негодяй»), и, главное, на швейцара Михаилу, который был под подозрением («А он не охранник?») в черносотенстве.
С Михайлой я был в хороших отношениях, но в моей любви к царю он был не виновен. Царя я любил как самого первого военного, самого главного генерала. Ведь он украсил грудь дяди Эразма целым иконостасом крестов и медалей. Короли и цари во всех сказках были творцами счастья героев, царевичи и королевичи были красивыми, храбрыми, добрыми, а ведь это же они потом становились царями и королями.
Отец несколько раз принимался убеждать меня в необходимости народовластия, но я оставался непоколебим. Это совершенно серьезно мучило моих родителей, и уж очень не ко двору в интеллигентской и революционной семье был «монархист», хотя бы и пятилетний. Это компрометировало признанную крамольность нашей семьи. Мать колебалась между большевиками и эсерами. Отец был то большевиком (после встреч с А. А. Сольцем), то «левым» меньшевиком (сразу после очередного приезда Б. И. Гольдмана). Оба были его товарищами по гимназии, очень с ним дружили, верили ему и мучились его политической неустойчивостью.
Сольц появлялся редко, обычно вызывая отца куда-то на свидания, о месте которых отец не говорил даже матери. Борис Гольдман приезжал прямо к нам – то после отбытия заключения, то сбежав из ссылки, то незаконно приехав в Москву из какой-нибудь глуши, где жил под гласным надзором. Проспавши сутки у отца на диване, вымывшись, он пил с отцом по ночам чай и спорил, спорил… Кончалось его посещение полным поворотом в сторону меньшевизма. Как действовал Арон Александрович Сольц, я не представляю, но поворот был такой же радикальный.
Все это было особенно остро в 1905–1906 годах. И даже моя детская «политическая ориентация» не оставалась без внимания. Но возможно, что меня, а может быть, и друг друга в какой-то мере разыгрывали.
Как я уже говорил – шутке, розыгрышу, смеху в атмосфере нашей жизни в те годы отдавалось много места. Соседствование драмы с почти фарсом отец считал закономерным именно для лучшего восприятия серьезного в искусстве и в жизни. Часто в ответ на обвинение в том, что он комикует в драматических местах своих ролей (делать это в драматических местах других актеров считается большой подлостью), он говорил, что слезы легче всего текут после улыбки и что никогда человек так весело не смеется, как утирая слезы. Так и в быту нашем серьезность, драма, даже трагедия разрешались хохотом, а розыгрыш завершался ссорой и слезами, за которыми следовал смех.
Разыгрывали друг друга всеми возможными способами без конца. Когда перебираешь в памяти все эти опрокидывающиеся на голову кувшины с водой, испачканные сажей полотенца, чтобы умывавшийся вышел с черными пятнами на лице, куски льда в постели, щетки под простыней, напудренных угольной пылью двух проснувшихся людей, когда они покатывались от хохота, показывая пальцами друг на друга, – все это не кажется достаточно смешным и, главное, кажется уж очень глупым, недостойным быть рассказанным. В пересказе это как будто принижает этих очень хороших и умных людей. Вспоминая, я сам смеюсь с умилением и любовью, – другим этого лучше не сообщать: вместо улыбки это может вызвать только пожатие плечами…
И все же я говорю об этом, говорю только для того, чтобы была понятнее атмосфера того времени в нашем доме и компании моих родителей.
Люди жили стремлением рассмешить и поделиться с другими, оделить их радостью. Но «комедиантами» они не были, они были истинными артистами, артистами, задача которых – распространять радость и добро и со сцены и в жизни. Чувства в этой среде были искренними, и радость и горе переживались по-настоящему глубоко и сильно. Обыватель же, изолгавшийся и изживший в суете и заботе о своем благополучии способность что-либо настоящее чувствовать по-настоящему, принимал умение выражать чувства, талантливость в способе их выраженияза умение изображать. Отсюда его мнение, что актер лжив, кривляка и т. д.
Любовь к эпатированию, стремление поразить, удивить, заинтересовать (очень свойственные актеру, особенно провинциальному) поддерживали в «публике» ее неуважение к актеру, ее ощущение его якобы человеческой неполноценности. На самом же деле сама профессия актера – я говорю об актерах серьезных и глубоких – делает человека глубже, сложнее, чувствительнее, нежнее, понятливее и, в общем, добрее и умнее.
Вильно
Летом 1905 года мои родители в первый раз в жизни выехали за границу. Меня на это время поселили у деда в Вильно. Приехали в Вильно всей семьей, но через три-четыре дня отец с матерью выехали через Вержболово на Берлин и дальше, а меня с бонной – фрау Митци – оставили на попечение деда и двух его дочерей, моих вдовых теток.
Мать очень не любила отцовской семьи; эту нелюбовь отец объяснял тем, как ее с самого начала встретили там. Приезд со мной не был первым знакомством. А при первой встрече свекор (дед) долго рассматривал свою молодую сноху, потом тяжело вздохнул, махнул рукой и сказал: «Ничаво, он тожа некрасивый». Мать, молоденькую (ей было тогда немного больше двадцати лет), очень хорошенькую, имевшую большой успех и избалованную им, этот отзыв поразил и оскорбил. Через семь-восемь лет она рассказывала об этом с юмором, но тогда это была катастрофа. Эстетические нормы у деда были, конечно, своеобразные, с нашей точки зрения. Красивым, с его точки зрения, был старший сын Анастасий – огромный (четырнадцать вершков, как тогда говорили), дородный, румяный; еще «красивее» был Эразм – уже пятнадцати вершков, восьми пудов веса, усы с подусниками, красные щеки и нос, ярко-голубые глаза, и все это в оформлении парадной формы сначала Малороссийского драгунского, а потом Приморского драгунского полка, которым он под конец своей службы командовал. Сам дед тоже был высок и дороден. Отец, хотя и немалого роста (1 м. 85 см.), но худ, бледен, брит, близорук, узкоплеч сравнительно с гигантами братьями. Мать же, у которой лицо было, скорее, восточного, грузинского или еврейского типа – большой нос с горбинкой, темные глаза, – ростом была на голову меньше своих золовок и в полтора раза уже их, тоньше и худее. Такая пигалица не могла внушить деду ничего, кроме грустной жалости.
Я, кроме деда, теток и дяди Эразма, никого из своих «предков» с отцовской стороны не видел, но, по рассказам, знаю, что род этот был физически очень могучим. Дядя Эразм, за которым, когда он шел по Москве в своей маньчжурской черной папахе, люди бежали вслед и мальчишки кричали: «Дядя генерал, поймай воробышка!», – был в этом роде и племени нормальным явлением. Эразм в войну 1877–1878 годов в пятнадцать лет ушел добровольцем из пятого класса гимназии и в рядах Малороссийского драгунского полка в звании штык-, а потом портупей-юнкера воевал с турками; окончил в Варшаве школу прапорщиков, был произведен в корнеты (а не в прапорщики, так как имел Георгиевский крест) и сражался в Китае во время боксерского восстания; остался в Приморье воевать с хунхузами, там его застала русско-японская война. В отряде генерала Мищенко, командуя отдельным дивизионом Приморского драгунского полка, он заслужил все мыслимые для армейского офицера награды и в 1908 году получил полк. В том же году он со всем своим семейством, женой-сибирячкой и дочкой Таней, гостил у нас в Москве. Отец очень умилял его тем, что сохранил для него вырезки из газетных корреспонденции, где о нем упоминалось. Одна из них (в какой газете, не помню) была даже озаглавлена «Лихие поиски ротмистра Шверубовича». Эту заметку отец хранил очень долго, хотя рецензий о себе не хранил в это время совсем. Само собой разумеется, что для меня, семилетнего мальчика, большего героя, чем дядя Эразм, не было.
Из других членов шверубовичевского рода знаменит был дядя отца, двоюродный брат моего деда, как и он, православный священник. Но если дед был спокойным, обыкновенным рядовым попом, без всякого фанатизма – религиозного или националистического, – отец Хрисанф мнил себя миссионером и чудотворцем. В качестве первого он стремился русифицировать, то есть привлечь к православию (в те времена в Западном крае это было одно и то же), как можно больше литовских и белорусских крестьян, которые по вине своих отцов и дедов «впали в схизму», то есть родились католиками. Крещение евреев тоже входило в его планы. Самым страшным, роковым для его клерикальной карьеры оказалось намерение убедить своих прихожан в том, что, имея веру хоть в горчичное зерно, можно приказать горе сдвинуться – и она сдвинется, – убедить, сотворив чудо. И вот произошло следующее. С утра в воскресный день, когда церковь заполнилась молящимися, он запер врата храма и спрятал ключ в ризнице. Через час-полтора богослужения люди начали кряхтеть и стонать – настоятель был неумолим, и, только закончив обедню, молебен, произнеся часовую проповедь на тему о всесилии веры, он открыл храм и отправился со всем причтом и прихожанами к берегу реки Вилии, где его ждала специальная лодка с настилом вровень с бортами. Он вошел в лодку и отплыл на середину реки. Там, подняв святые дары выше головы, он смело и уверенно ступил с настила на поверхность воды, намереваясь пройти по ней «яко по суху», – и стремительно пошел ко дну. Его выловили, откачали, но святые дары утонули, и за это святотатство, а также за смущение верующих он был заточен на три года в монастырь со строгой епитимьей.
Хрисанф был знаменит и своими гимнами, которые сочинял к различным событиям государственной жизни. К коронации Александра III он сочинил и исполнял в церкви следующий «хорал»:
«В семнадцатый день мая Москва ликовала,
Вождя она честью и правдой встречала,
И всея России стомиллионный народ
Вовек будет помнить тот день и
Тысяча восемьсот восемьдесят первый год!»
Отец очень любил петь его гимны и исполнял их на какой-то им самим выдуманный мотив и с карикатурно-белорусским акцентом, которым он владел хорошо, и мог не только говорить, но и читать с акцентом стихи. Одним из его «номеров» было исполнение монолога Чацкого гродненским семинаристом. Сам он только к окончанию гимназии и в Петербургском университете с трудом избавился от этого акцента. Сестра же его до конца жизни говорила «чатирэ» (четыре), «тутэшный» и т. п.
Дед говорил с очень сильным акцентом не только по-русски, но и по-славянски (в богослужении) и даже по-латыни. Он знал наизусть несколько отрывков из Овидия и охотно читал их, но произносил их по-белорусски. Изображение этого было также «номером» отца. Этими рассказами и «номерами» я в свои четыре года был подготовлен к несколько юмористическому облику деда. Оказалось не совсем то. Дед был молчалив, суров, серьезно и умно смотрел на меня и улыбался, только когда мы с ним были с глазу на глаз. Тогда он мне даже подмигивал и тихо говорил: «Ты ийх ня слухай, ани жа бабы» – это относилось и к матери, и к теткам (его дочерям), и, главное, к моей Митци, которую он невзлюбил главным образом после того, как она смеялась над евреями. У него был приятель Янкель, державший «универсальный магазин» – крошечную лавчонку, где продавалась всякая снедь, мыло и свечи. Кроме того, Янкель был портным, и первые форменные костюмы отцу шил он.
Василий Иванович рассказывал, как он умолял Янкеля не шить ему шинель «на вырост», как этого требовал дед. Для этого он перед примеркой забегал к портному и заклинал его всем святым «не делать из него шута горохового», чтоб «с него не смеялась вся Вильна». Когда Янкель умер, дед так разволновался, что заболел.
Дед любил свое дело и служил с увлечением, но это не лишало его наблюдательности и элементов актерства. Однажды он приказал, чтобы меня привели в церковь к обедне, когда он служил, «чтоб смотрел, как дед служит», только чтоб без лютеранки (фрау Митци). Та презрительно пожала плечами – для нее это богослужение являлось «Heidentum» (язычеством). Я не помню богослужения, помню только как тетя Соня сказала после его конца тете Саше: «Папаша как маленький старался, служил как перед митрополитом – это он внуку понравиться хочет».
Соня всегда была строга и беспощадна в своих суждениях о людях. Она была вдовой пехотного капитана, с которым прожила всего восемь лет и за эти годы потеряла шестилетнюю дочь, которую безумно любила и помнила всю жизнь. Ни одного ребенка, родного или просто близкого, полюбить она не могла. Всякую возникавшую привязанность она в себе глушила, так как была убеждена, что приносит несчастье тем, кто ей дорог. Соня была умна, наблюдательна, остроумна, хорошо рассказывала, слегка копируя того, о ком говорила. Она служила классной дамой и давала уроки музыки на рояле. Сама играла мало и редко («потому что люблю музыку»), тоненьким и тихим голосом пела. В отношениях с людьми была сдержанна и не допускала к себе никого. Отца моего любила безумно. Она была на девять лет старше его и была ему как бы няней. Она очень смешно рассказывала, как к ней прибежали мальчишки с сообщением: «Пани Зосю, там ваш Васька удавиуся, юш синий, ня дышыт заусем». Оказалось, что пятилетний Вася засунул голову между прутьями железной ограды там, где эти прутья были чуть подальше один от другого, потом упал, попал в узкое место и стал задыхаться. Четырнадцатилетняя Соня рванула его за плечи и, оборвав ему в кровь уши, вытащила его оттуда. Мать мою она никогда не любила, считая, что она и недостойна отца и, главное, не так, как надо, ценит его.
Театр драматический Соня не любила, а МХТ терпеть не могла, считая, что там играют не по чувствам, а по науке. «Этот Станиславский сам плохой актер, не талантливый, потому ему нужна какая-то система, он без нее никуда не годится, так он и таких актеров, как Вася, хочет заставить играть не душой, а по системе». Считала, что Василий Иванович добился бы большего, если бы был в провинции, а потом на императорской сцене.
На императорскую сцену пытался устроить Василия Ивановича и его брат Эразм. Приехав к нам в 1908 году, он рассказывал: «Знаешь, Василий, я от самого Хабаровска ехал с одним артистом императорского Малого театра, с господином Л., я его поил всю дорогу и коньяком, и мадерой, и даже шампанским, и он обещал оказать тебе свою протекцию для поступления на императорскую сцену». Этот господин Л. был помощником режиссера в Малом театре и получал пятьдесят рублей в месяц, когда отца звали туда на тысячу.
Ко мне Соня относилась хорошо, считала только, что меня плохо воспитывают, в недостаточном благоговении к отцу. Не знаю почему, но с ней я часто распускался и озорничал больше и грубее, чем с другими. Я боялся ее, но почему-то стыдился этого и доказывал себе и ей, что не боюсь ее. Своей бонны, которая лупила меня иногда здорово, я боялся в десять раз больше, но не стыдился этого – этот страх был естественным, а страх перед молчаливой и никогда не тронувшей меня пальцем Соней казался мне постыдным.
Совсем другой была тетя Саша. У нее была неистовая доброта, страшно активная и требовательная к ее приятию – то есть она добротворила насилием. Для животных, которых она любила сверхъестественно, это было в самый раз, но людей она доводила до того, что они скрывались от нее или хамили ей. Детей она портила в самый короткий срок – самому воспитанному ребенку достаточно было двух недель ее общества, чтобы превратиться в отвратительного барчука. Животные (собаки и кошки), бывшие на ее попечении, питались всегда тем, что любили, а она подъедала то, что от них оставалось; спали у нее на постели и рычали, если она занимала в ней слишком много места или беспокоила их своими движениями и даже вздохами. Из взрослых людей она, кроме своего отца, сестры и «Васеньки», по-моему, никого по-настоящему не любила. В ней было какое-то странное озорство, она могла дразнить людей, говорить им неприятное, причем делала это довольно изысканно, находя у них самые болезненно чувствительные струны. Но это не мешало ей активно благотворить и служить им. Причем, как и в отношении с животными, служа людям, она делала это, всегда почти отрывая от себя, жертвуя своим покоем, удобством, отдавая необходимое. Только животных она никогда не попрекала этим, а людям, отдав последний кусок если не хлеба (до этого, по-моему, не доходило), то мяса или пирожного, могла сказать: «Ну вот и спасибо, я теперь голодная осталась». Она была замужем за каким-то чиновником Морошкиным, который оказался горьким пьяницей и скандалистом. После двух лет супружества она убежала от него и жила у отца. Вскоре муж спился и умер. Свое вдовство она несла далеко не так строго, как ее младшая сестра, – темперамент ее был совсем другим, у нее были постоянно какие-то романы, начинавшиеся с жаления и помогания и кончавшиеся тем, что жертва ее доброты не в силах была перенести напора благодеяний и бежала от нее.
Когда меня привезли в Вильно, Саша тоже приехала туда в отпуск из Петербурга, где служила старшей фельдшерицей (у нее было среднее медицинское образование) в «богоугодном заведении» – в сиротском приюте Брусницына. Поступила она туда потому, что управляющему показалось пикантным собирать к Брусницыну служащих с «ягодной» фамилией. Фамилия его самого была Рябинин, сестра-хозяйка была Малиновская, старший дворник был Вишняк. Через два года я гостил у нее в приюте, и меня совершенно пленила эта коллекция фамилий, я думал, что так полагается везде, и был недоволен, что в МХТ актеры носят фамилии не по смыслу, а какие попало.








