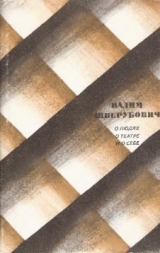
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Не хочется описывать всех ужасов этой погрузки. Это еще не была та, последняя, которую описал Шолохов в «Тихом Доне», когда одни стрелялись, другие бросались вплавь за уходящими судами, но много страшного было и на этот раз. Рыдающие женщины, старики, бросавшиеся на колени перед контролером, целовавшие руки итальянским матросам… Пытавшихся пробиться силой били прикладами, вырывали у них чемоданы и бросали в воду. Кто-то кричал дурным голосом и ругал и проклинал тех, кто был на борту, кто-то показывал итальянцам броши, жемчуг, кольца, золотые монеты, умоляя помочь попасть на судно. Но даже самые алчные из команды ничего уже не могли сделать.
Разве не чудом было то, что мы уже были на борту?
Какие-то курды пытались было захватить уже занятое нами «помещение». Но итальянские матросы и служащие, уже привыкшие за ночь к нам и считавшие нас как бы «своими людьми», приняли нашу сторону и загнали нападавших в трюм.
Вечером 21 марта мы отошли и поплыли. Толпы оставшихся на пирсе слали проклятия и самые страшные пожелания и пароходу и всем отплывшим на нем…
Сразу началась сильная качка, ветер бросал верхушки волн на палубу. Мы семеро были сравнительно благополучны, до нас вода не доходила, а остальных наших спасал только брезент, на котором к утру образовались лужи воды. Всем было безумно холодно, но внутри пароходных помещений было так душно, так воняло, что те, кто пытался влезть в коридоры, через пять минут выскакивали оттуда и забирались опять под брезент.
К вечеру 22‑го море успокоилось, ветер стих и воздух стал теплее. Все обитатели коридоров, лестниц и переходов внутри парохода вылезли на палубу, стало так тесно, что лежать было почти невозможно. Но мы в своей канаве держались упорно и никого не пускали. Безумно хотелось есть. Орлова и Юлия Гремиславская завели кокетство с коком и выклянчили у него две большие миски спагетти. Их поровну разделили между всеми членами группы. Прошла еще одна ночь – и утром 23‑го мы подошли к Поти.
«Прага» причалила к тихой, безлюдной пристани. Других пароходов не было видно. Было тепло и очень тихо. Даже беспокойные, шумные пассажиры нашего парохода затихли.
Мы пристали очень ранним утром, «приличные» пассажиры еще спали, а палубные все столпились у фальшборта и тихо переговаривались. На берегу пели птицы, и где-то недалеко перекликались петухи. Господи, как нам хотелось на этот тихий берег! Берсенев и Леонидов уже где-то хлопотали и суетились. Откуда-то «из сфер» появился чисто выбритый Бертенсон в кремовых перчатках (он путешествовал в передней каюте-люкс главного агента пароходной компании) и сообщил, что есть радиограмма грузинского правительства о том, что в Поти будут высажены только грузины и члены миссии графа Мартеля. Остальных «иностранцев», то есть не грузин, повезут в Батум, где есть возможность подвергнуть их карантинной проверке. Но вообще Грузия не хочет впускать к себе лишних едоков, так как продовольственное положение там тяжелое. Кроме кукурузы и винограда, в Грузии ничего не растет, а ввозить из России, где идет гражданская война, ничего нельзя. Так что, вернее всего, нас повезут куда-нибудь в Турцию, где для русских беженцев организуются особые лагеря.
Но даже эти страшные прогнозы не могли нам испортить настроение – так дивно пахло и звучало с берега. Через несколько часов был спущен трап, и по нему сошли два‑три десятка пассажиров из первого и второго класса, матросики снесли их чемоданы, пассажиры сели на извозчиков, которых приехало гораздо больше, чем пассажиров, и уехали.
Мы смотрели и завидовали. Проверка на берегу была настолько строгой, что даже Берсенев на берег не попал. Лебедки наши что-то не спеша грузили, вот‑вот кончат, и мы отплывем…
Настроение начало портиться. Вдоль всего порта на пристани стояли и ходили грузинские военные в толстых желтых куртках. Они начали переговариваться с пассажирами, и кто-то из наших сказал им, что мы из Художественного театра. Сказал, конечно, совсем случайно. («Кто такие?» – «Артисты». – «Откуда?» – «Из Москвы». – «Цирк?» – «Нет, Художественный театр».) Неожиданно этим заинтересовались – кто-то из них бывал в Москве, стали звать какого-то Серго. Пришел Серго – это был человек лет под сорок, важный, стройный, красивый. Он присмотрелся к нашим, и вдруг всю его важность как ветром сдуло: «Ай‑ай, Книппер, клянусь богом, Книппер! Ай, Качалов, ай‑ай! Ольга Леонидовна, Владимир Иванович», – путал он в восторге их имена. Вдруг он увидел Германову, присел, ударил себя руками по коленям и завопил: «Мария Николаевна, вы меня помните, я в „Юлии Цезаре“ вам ковер стелил! (Мария Николаевна в „Цезаре“ играла уличную танцовщицу.) Помните?» Под мгновенный суфлерский свирепый шепот Берсенева Германова произнесла: «Ну конечно же, помню!» «Сережа, Сережа», – суфлировал Берсенев. «Помню вас, Сережа», – протянула Германова. Серго был в полном восторге. Около него собралась целая толпа военных.
Оказалось, что это государственная милиция, нечто подобное жандармерии или войскам внутренней охраны, что ли. Сам Серго оказался начальником милиции и чем-то вроде прокурора. Учась в Москве на юридическом факультете Московского университета, он был сотрудником в Художественном театре. В Поти он совмещал функции прокурора, начальника милиции и руководителя местных любителей драматического искусства. Для последнего обстоятельства то, что он «играл» в МХТ, имело огромное значение.
То, что его «помнят» артисты, что назвали его «Сережа», подтверждало, видимо, многолетнее хвастовство его московскими успехами и близостью с актерами МХТ. В этот черезбортный разговор вступало все больше людей и с той стороны и с нашей. Нашлись и еще милиционеры и просто жители Поти, бывавшие в Москве и знавшие МХТ. Наши пожаловались на негостеприимность грузин, что вот, дескать, нас, которые так стремились в прекрасную Грузию, в нее не пускают и придется нам искать приюта где-нибудь в Турции или Италии и т. д. Это вызвало рев и стон возмущения той стороны. Еще немного – и они бы бросились «на абордаж» «Праги». Уже заволновалось командование парохода. Но Серго успокоил своих и, крикнув нашим: «Будьте уверены, вы будете в Грузии!» – помчался куда-то, стоя на извозчике. Оставшиеся ободряли наших и уверяли, что с нами пароход не уйдет – его просто не выпустят, пока все артисты не будут на берегу.
Берсенев каким-то образом оказался-таки на пристани и сумел дозвониться в Тифлис, к А. Р. Цуцунаве, который там возглавлял Государственный оперный театр. Тот ли снесся с правительством, «Сережа» ли этого добился, но вскоре после полудня нас со всем нашим имуществом высадили на пристань.
Толпа, состоявшая из всех именитых граждан города Поти во главе с городским головой, из милиционеров и из нескольких десятков мушей и извозчиков, с криком расхватала наше имущество, с криком распределила его по десяткам извозчиков и собственных выездов, и мы с криком понеслись в город. Крик был оттого главным образом, что именитые граждане, пришедшие со своими чадами и «клиентами», отнимали друг у друга своих почетных гостей – членов нашей группы.
Отец, мать, с трудом вырвавшаяся от членов семейства самого городского головы Ольга Леонардовна и я оказались гостями доктора-гинеколога Гагуа. Он явился в порт в собственном экипаже на паре лошадей, в сопровождении кучера с кинжалом. В экипаж посадили наших, а на извозчика сел сам Гагуа и я с вещами.
Гагуа гнал извозчика так, что тот, чуть не запалив свою лошадь, примчался к дому раньше, чем приехали наши. К их приезду хозяин успел собрать у своего подъезда человек двадцать родственников и соседей, чтоб была достойная встреча.
Нас водворили в просторном провинциальном доме, в самых лучших комнатах: моих родителей – в спальне хозяев, Ольгу Леонардовну – в гостиной, меня – в кабинете, где стояло роскошное никелированное гинекологическое кресло. Так же сказочно были устроены и все остальные. Сказочность была не в роскоши или в каком-нибудь необыкновенном комфорте, нет, в провинциальном Поти его не было, но было самое дорогое для скитальцев – восторженное радушие, стремление сделать наше пребывание в каждом доме лучше, радостнее, веселее, чем в соседнем. В этом бешеном соревновании гостеприимства тратились последние деньги, резались любимые петухи, куры и индейки, истреблялись самые молодые барашки, открывалось заветное вино.
Нас поили и кормили с утра и до утра, глушили хоровыми песнями и ритуальными возгласами, перед нами плясали и били посуду. Весь город встал дыбом.
На концерте, который был организован 24 марта в помещении кинотеатра, народ стоял стеной. Чтобы вместить хоть небольшую часть желающих, вынесли половину стульев, и все-таки толпа стояла на улице, под окнами и дверями.
Но самым прекрасным временем для меня были короткие часы между «застольями», когда можно было полностью насладиться тишиной и покоем этого райского уголка. Где-то гремят пушки, рвутся с визгом снаряды, свистят пули, вопят, ругаются, хрипят и бредят люди. А здесь поют петухи, мычат коровы, перекликаются своими хрипловато-ласковыми голосами хозяйки-соседки. Так мирно, так покойно… И как это все ценишь после страшных, норд-остных ночей Новороссийска, после ужасов погрузки, после всего этого бездомного года.
Конечно, это не дом, не конец скитаниям, еще далек их конец, да и будет ли им конец вообще, – но это такая сладкая передышка, самая буквальная, когда можно глубоко вздохнуть, осознавая, что никто и ничто тебя не заставит вот сию минуту что-то делать, куда-то торопиться, что никто и ничто не грозит твоим близким, что и они и ты в тихой, защищенной от бурь гавани.
Леонидов уехал в Тифлис, и через два дня Берсенев радостно сообщил нам, что вечером и мы отбываем туда в специально выделенном салон-вагоне и вагоне первого класса.
Дороги я не помню, знаю только, что съесть и выпить всего, что нам натащили в дорогу наши милые хозяева, было невозможно.
В Тифлисе на вокзале нас встретили А. Р. Цуцунава, который когда-то был сотрудником в Художественном театре, актеры, музыканты, художники театра, представители парламента и министерства просвещения. Как-то вышло так, что все, что имело хоть какое-нибудь отношение к искусству и литературе, вообще к культуре, либо возглавлялось, либо обслуживалось людьми, учившимися в Москве и любившими наш театр. Все было легко устроить, ни в чем не было отказа, все с радостью шли нам навстречу.
Нас с большим трудом разместили наилучшим образом по гостиницам и меблированным комнатам. Это было очень трудно, так как город был перенаселен петроградцами, москвичами, киевлянами, ростовчанами и т. д. Тифлис был тогда столицей меньшевистской Грузии, в нем жили члены грузинского парламента, министерские работники, стоял большой гарнизон, находился дипкорпус и много иностранных коммерсантов. И, несмотря на это, нас поселили очень хорошо. Наше семейство получило целую квартиру, которую освободила актриса Жихарева, уехавшая служить в Баку. Ольгу Леонардовну поселили у некоего Сегала, крупного дельца, имевшего свой дом на улице графа Гудовича, неподалеку от нас. Бакшеева, Комиссарова и Александрова пригласил жить к себе директор Удельного виноделия. Там они ежедневно принимали участие в дегустации вин – занятие для них увлекательное…
Была весна, ранняя южная весна, когда цвели миндаль, персики, абрикосы, каштаны. Город благоухал весенним цветом. Но еще больше он благоухал вином и дымом жарящегося мяса…
Какой это удивительный народ – грузины! Народ – художник жизни, мастер быта. Никакой народ не умеет так красиво пить, пировать, петь, отдыхать. И как артистически, как художественно они это умеют! И умеют все до одного. И везде и всюду, где мы бывали, это было не пьянство, а великолепный ритуальный обряд. Везде пелись чудесные подблюдные и чарочные песни, везде плясались изящнейшие в мире танцы, произносились блещущие изощренными оборотами мысли речи. Везде блюлись чудесные древние и благоуханные, как старое вино, обычаи.
После взбаламученного Юга России Грузия показалась нам покойной, мирной, радовала какой-то особенной старомодной восточной любезностью, неторопливостью. Были, конечно, там свои сложности, но мы в них не вникали. Нас они приняли как-то необыкновенно восторженно. В тяготении к нам объединялись разнообразные слои общества, особенно же, конечно, актерство, и грузинское и русское.
Театр был нам предоставлен на самых выгодных условиях.
Начались репетиции и подготовка оформления. И. Я. Гремиславскому дали возможность подбирать любые декорации из запасов как оперного театра, так и ТАРТО (театра Артистического общества – это был драматический русский театр на Головинском, где сейчас Театр имени Руставели). Оперный театр предоставил ему свои декорационные мастерские, инвентарь. Но так как погода была дивная, работа шла главным образом во дворе театра.
Вскоре появился наш Ваня Орлов. Он на шхуне больше недели добирался от Новороссийска до Гагр. По дороге, на траверзе Сочи, их обстреляли и чуть не потопили. В Гаграх их арестовали как контрабандистов, и Ваня сидел в тюрьме, откуда его выручил Берсенев, которому он ухитрился дать телеграмму следующего содержания: «Тифлис, Берсеневу. Выручайте муку Гаграх. Иван». И то за оплату такого куцего текста он отдал свой любимый солдатский ремень. Но телеграмма дошла, и через два‑три дня Орлов был с нами, а мука была продана, правда, за гроши, так как владелец шхуны загнал ее либо задешево, либо в свою пользу. Все-таки несколько тысяч грузинских рублей оказались нам очень полезны.
Берсенев долго пилил Орлова за то, что он, не сумев сам продать муку, причинил товариществу большой убыток. Ваня Орлов в пьяном виде плакал, ругал Берсенева и всю группу недорезанными буржуями и грозил, когда попадем к своим, «всех, которые сволочи, к стенке поставить». А в трезвом виде он работал как вол, но, так как работы было много, Берсенев нанял на службу меня, сказав, что я и буду его, Берсенева, «первым помощником». А пока чтобы я помогал Ивану Яковлевичу по декорациям и реквизиту и мебели.
И вот с утра до вечера мы размывали старые декорации, грунтовали их вновь, и Иван Яковлевич писал на них стенки для павильонов «Вишневого сада» и «Дяди Вани». Было ясно, тепло, но еще не жарко – стояла мягкая южная весна, апрельские дни.
К 15 апреля все было готово: подобрана мебель и реквизит, переписаны декорации, наряжены белыми тряпочками «цветущие» вишневые деревья. Подновлены, а частично сшиты вновь костюмы. Вымыты, завиты и причесаны парики. Как-то все было удивительно вовремя, без обычной предпремьерной паники и спешки, готово. Были свободные дни, в которые мы много гуляли по Тифлису и очень его полюбили.
Это был совсем другой город, чем теперешний Тбилиси. Кроме Головинского проспекта (теперь проспекта Руставели) и еще нескольких улиц вполне европейского и столичного стиля, улички были узенькие, вымощенные продолговатыми, поставленными на ребро булыжниками, сходившимися елочкой к середине улицы, где был сток для воды. Дома маленькие, с садами, с внутренними дворами и колодцами, длинные высокие заборы из камней… Часть улиц круто поднималась в гору, часть лепилась вдоль гор, и каменные заборы подпирали уровень земли двора или сада так, что высоко над тротуаром часто было видно пасущихся коз. В этих уличках было тихо-тихо, только по утрам пронзительно кричали продавцы мацони, развозившие его на ишаках. Они выпевали свое «мацо-мацони!» – и иногда похоже на них кричали их мохнатые крошки-ишаки.
Зато улица Старого города – Армянский базар – шумела с утра до вечера. В каждом доме ее помещалось по нескольку мастерских-лавчонок, где продавали и изготовляли по заказу кавказские костюмы, шляпы, сапоги, седла, уздечки, ярма для буйволов, вьюки для лошадей и ишаков, металлическую посуду, трубки и мундштуки, трости и нагайки и т. п. Тут же готовили и продавали, вернее, подавали хаши и хачапури, шашлыки и люля-кебаб, сациви и харчо… Продавали вино и чачу (водку из винограда), чучхеллу, халву, кишмиш и сухие фрукты всех сортов. Продавцы и покупатели орали, торгуясь, мастера стучали и звенели. Это все описано десятки раз всеми, описывающими Восток, но удержаться и не написать об этом, когда вспоминаешь эту прелесть, – невозможно.
Даже Кура была совсем другая, чем теперь: она бешено теснилась между скал и домов, которые нависали над ней своими балкончиками и галереями. Шоколадная, подернутая пеной вода то покрывала, то обнажала поросшие рыжей травой камни и черные, лоснящиеся спины купающихся буйволов. Ишаки, а особенно буйволы придавали улицам города какой-то неповторимый колорит. Поражали странная, ни на что привычное не похожая форма рогов, цвет кожи, загадочное, какое-то древнеассирийское выражение буйволиных морд. Крошечные, тонконогие ишачки с неправдоподобно, несоразмерно их изяществу и хрупкости огромными вьюками, – иногда на ишаках еще сидели задумчивые старики с длинными седыми усами. Муши – низкорослые, коротконогие и кривоногие потные бородачи в какой-то особой кустарной обуви, с древними, обитыми кожей деревянными «козами» на спине. На этих «козах» они носили шкафы, огромные диваны, кули угля, бочки, связки досок и бревен. Иногда их самих почти не было видно под таким грузом, только медленно переступавшие ноги и кроткие, напряженные глаза да мокрые от пота носы и усы под втрое-вчетверо превышавшим их размеры грузом…
Пока готовились декорации и доигрывались уже до нашего приезда объявленные и проданные оперные спектакли, наши съездили в Батум, где 8 апреля сыграли «Врата», а 9‑го – спектакль-концерт. «Врата» прошли благополучно и с большим успехом, а во время концерта пошел такой сильный тропический ливень, что представление пришлось прекратить – театр был железный, и дождь грохотал по нему так, что ничего не было слышно.
Итак, 15 апреля мы открылись в Тифлисе. Шел «Вишневый сад».
Все было парадно, театр был переполнен.
Партер и ложи были полны грузинской и петербургской аристократии, московской и тифлисской буржуазии, грузинской, армянской и русской интеллигенции. Оркестр был заполнен актерами, главным образом труппой оперного театра.
Как шел спектакль, я, конечно, не помню. В моем юношеском дневнике, который каким-то чудом у меня сохранился, среди всяких любовных воздыханий и стонов уязвленного самолюбия есть запись о том, что «все было очень скверно» – не трогателен Василий Иванович, не смешон Комиссаров (Епиходов), грубы трюки Александрова (Яши) и Берсенева (Пети), не обаятельна Краснопольская (Аня), «отвратительные декорации», плохи сцены гостей. Даже Книппер мне показалась «фальшивой». Похвалил только Массалитинова (Лопахина) и Крыжановскую (Варю). Думаю, что это от случайного мрачного настроения, но, может быть, и от необычно холодного приема, которым был встречен спектакль и который повлиял на мое восприятие его.
А успеха настоящего действительно не было. Он пришел значительно позже, когда зал наполнила обычная публика, покупавшая билеты в кассе, а не получавшая их в конвертах.
Внешний успех был – семь-восемь огромных корзин цветов от именитых граждан, дирекции театра; десятки букетов от «поклонников талантов». Занавес открывали раз шесть-семь. После спектакля на сцену пришел Цуцунава и от имени дирекции театра пригласил всю труппу на раут.
Я туда зван не был и уныло потащился домой. Может быть, этим и объясняется мрачность записи в дневнике. Но какое-то зерно истины в записях было: иначе почему бы, сыграв «Вишневый сад» два раза (15 и 16 апреля), его не ставили до 6 мая? Да и потом этот спектакль шел не часто, так же как и «Дядя Ваня». Большой успех имели «На всякого мудреца довольно простоты» и «У врат царства».
От этого очень загрустила Ольга Леонардовна, и хотя потом и «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» завоевали свое достойное место, но, чтобы ее утешить и удовлетворить, было решено поставить «У жизни в лапах». Расходился спектакль отлично – фру Гиле, Баст, Блуменшен, кузен Теодор и лейтенант Люнум – московские, Гиле дали Тарханову, и он был не хуже Лужского; Фредриксена – Массалитинову – он был намного лучше Вишневского; Гислесена – Шарову (вполне прилично), фрекен Норман – Краснопольская (в Тифлисе ее голубые глазки, белокурая головка и пухленькая фигура имели сногсшибательный успех) была больше чем удовлетворительна.
Начались репетиции. Оформление Иван Яковлевич сделал очень хорошее – в сукнах с деталями: в первом акте ярко-желтая шелковая занавеска и огромное количество антиквариата; второй акт – звездное небо на черном бархате; в третьем акте – огромный красный диван (из фойе театра) со специально сделанными «футуристическими» подушками на нем. Долго бились с музыкой – в Москве исполнялась изумительная музыка Ильи Саца, здесь ее восстановить не удалось. Бертенсон привлек своего петербургского приятеля – композитора Гартмана, который написал новую музыку. Была она, конечно, несравненно хуже сацевской, но и Ольга Леонардовна и Василий Иванович примирились с ней.
После почти месяца репетиций, 18 мая «Лапы» были сыграны и успех имели больше, чем все до тех пор показанное.
Двадцать седьмого мая сыграли еще одну премьеру – «Карамазовых». Она также имела огромный успех. Чеховские спектакли принимались чем дальше, тем лучше, но и «Мудрец», и «Врата», и особенно «Карамазовы» и «Лапы» (прежде всего) нравились Тифлису больше.
Ольге Леонардовне сшили четыре новых туалета, шляпу, манто. В Тифлисе оказалась какая-то замечательная петроградская портниха, которая не только шила по последней парижской моде, но и торговала моделями из Парижа. Берсенев очень кряхтел и жался, но ценой сокращения выдач «на марки», под нажимом режиссера спектакля Литовцевой (а уж что‑что, но нажать, когда дело касалось спектакля, ею выпускаемого, она умела здорово), деньги на гардероб нашей премьерши выдал. Правда, самый скупой в нашей группе – Паша Павлов – очень негодовал. Но спектакль себя окупил очень быстро, и Павлову пришлось замолчать. Кстати, о нем. Он больше всех волновался – сколько выйдет «на марку», но спросить об этом не решался, так как Берсенев не любил раскрывать этого секрета, он всегда любил ошарашить труппу неожиданно большой выдачей, а если дела были плохи, он тем более не любил таких вопросов и сообщение о плохой выдаче подавал под какую-нибудь трагедию или панику, чтобы вопрос о плохих финансах оказался сравнительно мелочью.
Так вот Павлов всегда спрашивал так: «Ваня (Берсенев), вот Петя (Бакшеев) интересуется, сколько у нас выйдет на марку в этом месяце?» А Пете до этого никакого и дела не было – он жил как птица небесная… Иногда Паша попадался, потому что Бакшеев слышал его вопрос и рычал на него: «Зачем врешь, я и не думал интересоваться!» А как-то, когда Паша спросил о том, когда и сколько заплатят, и прибавил: «Николай Григорьевич интересуется», – Берсенев ответил: «Я Коле сам сообщу». Павлов остался в дураках, а мы все еще долго очень смеялись.
Надо сказать, что жизнь складывалась так, что надо было иметь какое-то особенно уж развитое чувство любви к деньгам, чтобы ими интересоваться. На еду хватало выдачи и на одну марку, а вещи покупать какие бы то ни было, имея в виду, что лишний чемодан придется таскать самому, мог только больной жадностью.
Жили мы сытно, и большинство – пьяно. Банкеты, приемы и вечеринки шли одни за другими. Куда-нибудь звали после каждого спектакля. Сегодня – грузинские актеры, завтра – армянское студенчество, послезавтра – городская управа, потом адвокатура, медицинское общество, инженеры-путейцы и т. д. и т. п.
Одна из самых грандиозных вечеринок была 22 мая, в день именин трех Николаев – Н. Г. Александрова, Н. О. Массалитинова и Н. Н. Ходотова – замечательного актера Александринского театра, который, заболев в Крыму, перебрался оттуда в Грузию и очень подружился с нашими. Николай Николаевич был очень интересным, обаятельным и остроумным человеком. Это был центр петербургской высокой богемы, того актерства, которое соприкасалось с высшим светом и одновременно было связано с самыми интеллектуальными кругами поэтов, писателей и художников Петербурга. Ходотова ценили и любили все: актеры, поэты, философы, цыгане, гвардейские офицеры… Очень полюбили Николая Николаевича и в Тифлисе.
Именины праздновали в здании оперного театра. После спектакля (шел «Мудрец»), как только разошлась публика, в большом фойе были накрыты столы на сто восемьдесят – двести человек – вся наша труппа, труппа театра миниатюр «Кривой Джимми», который тоже закончил свои спектакли по Югу России в Тифлисе, много актеров оперного театра, драматические актеры Тифлиса – и русские и грузины, художники, музыканты, поэты.
Один тамада не смог бы справиться с этим застольем, их было несколько – целая группа, но главным был изумительный поэт, обаятельный Паоло Яшвили. Это придало всему празднику поэтический и романтический стиль древнекарталинского пира. Тамады соревновались в тостах; Паоло – красавец, высокий, стройный, с глазами оленя, с могучим, рокочущим и ласкающим голосом, подымал серебряный рог, обхватив его длинными прекрасными пальцами, и читал-пел свои рифмованные тосты и по-грузински и, шутливые – по-русски, вроде; «Здесь много стройных женских шеев, да здравствует Петр Бакшеев!» С рояля сняли крышку, и на ней, поднятой на вытянутых руках самых рослых мужчин, замечательный танцор – князь Ясе Андроников – танцевал наурскую.
Захотела станцевать так же на крышке рояля наша Ольга Леонардовна, могучие руки взбросили ее на крышку, она оказалась на черном лаке ее и на высоте двух с половиной метров станцевала какой-то бешеный танец. Потом она бросилась вниз, и ее подхватили десятки мощных рук. Ее обожали всем столом – к ее веселой, бесшабашной жизнерадостности тянулись все сердца. Шел ей тогда пятьдесят второй год. Сколько в ней тогда было сил! Играла, репетировала, совершала прогулки по городу и за город, в горы…
Утром, когда публика уже становилась в очередь к кассе театра за билетами на спектакли «художественников», из фойе еще слышались звуки гитары и цыганские песни, под которые наиболее крепкоголовые, уже без тостов, пили последние «чарочки». Но тифлисцы в этом дурного не видели, наоборот, умение петь и веселиться внушало им только большое уважение.
После выпуска всех пьес репертуара и новой постановки «У жизни в лапах» начались интенсивные репетиции пьесы Бергера «Потоп». В данном случае роли были распределены так, что ни Качалов, ни Книппер, ни Германова не были заняты. Из «стариков» был занят один М. М. Тарханов, но в небольшой роли хозяина бара Страттона. В этой роли он легко мог бы быть в любую минуту заменен. Это была целиком и полностью новая постановка.
Если во всех других пьесах репертуара группы большинство ролей исполнялось уже игравшими их ранее, то в «Потопе» ни одна роль не была раньше сыграна никем из артистов группы. Пьеса шла в Первой студии в постановке Вахтангова, под руководством Сулержицкого и Константина Сергеевича. Играли ее Хмара, Чехов, Гейрот, Бакланова, Сушкевич, Смышляев и другие. Теперь распределение было такое: О’Нейль – Бакшеев, Фрэзер – Павлов, Бир – Берсенев, Лицци – Орлова, Страттон – Тарханов, Чарли – Васильев, актер – Александров, изобретатель – Комиссаров. Постановщиком спектакля была Литовцева.
Моя мать страстно хотела, чтобы основная мысль пьесы, как она ее понимала, – объединение людей перед лицом смерти, исчезновение всех искусственных преград между одним человеком и другим, когда рушатся социальные и экономические различия, – совпала, вернее, оказалась созвучной, близкой судьбам нашей группы.
В моментах нашего объединения перед лицом опасности (теплушка, погрузка на «Прагу» и т. д.), в острых минутах нашей жизни она пыталась найти те чувства, которыми живут герои пьесы. Мне кажется, ей это плохо удавалось. Думаю, что она, боясь высоких слов, стесняясь взывать к истинным чувствам, опасаясь откровенного цинизма Павлова, Комиссарова, скрытой иронии Берсенева, наивного примитивизма Бакшеева, не сумела возбудить и пробудить эти чувства и мысли.
Репетиции были скучными и техническими. Искали характерности, играли образы. Мать мучилась, но ничего не могла сделать. Пьеса не пошла ни в этом сезоне, ни в осеннем.
В моем дневнике за 31 мая записано: «Вася пришел в 6 утра от Церетелли. Принес письма из Москвы. Встал, сижу голый, читаю, дрожу, волнуюсь – не могу ничего разобрать. Письма от Марии Петровны, Лидии Зуевой, Москвина, Лужского, Леонидова, Санина, Эфроса… Жить в Москве, безусловно, можно и нужно скорее ехать туда. Очень хочется. Опять увидеть родные улицы, дома, гимназию, театр».
Действительно, хотелось очень. Не знаю, насколько были искренни другие, говоря о своем стремлении в Москву, на родину, но близким мне, отцу, матери, Ольге Леонардовне, Ивану Яковлевичу Гремиславскому после этих писем, первых из Москвы, первого слова, долетевшего до нас после годового отрыва от нее, вернуться захотелось страстно. Тоска по Москве, по театру ими владела невыносимая. Что толку в сытой, чистой, парадной жизни, что толку в успехе, в чествованиях. Ведь это такой пустяк по сравнению с тем, что осталось там… Ведь вся эта петербургско-московская и «парижско»-тифлисская дребедень – ведь это только «косметика» России, а настоящая Россия – там.
И. М. Москвин писал о том, что группе надо вернуться, чтобы поддержать, а может быть, спасти театр, но он не приукрашивал жизни в Москве: «Едим пшено, играем „Дно“…» и т. д. Так вот, этого пшена захотелось так, что в душе заныло. Пусть пшена, но разделенного с самыми лучшими людьми мира.
Василий Иванович, Ольга Леонардовна и мать сидели с этими письмами и, как драгоценные камни, как цветы, перебирали сверкающие и благоуханные имена: Ваня Москвин, Костя, Василий Васильевич, Володя, Леня, Мария Петровна, Лидочка… Но ведь там были не они одни, там были и Блок, и Горький, и Николай Андреев, и Кардовский, и Шаляпин, и Собинов, и Нежданова, и Гельцер, и, и, и, … Москва, Родина, Россия – все самое близкое сердцу, все, перед чем оно замирает, чем гордится, что любит. Почему мы должны быть здесь – со сброшенной ею мишурой, или, еще страшнее, с отпадающими от прекрасного тела пиявками, почему нам не быть там, где, питаясь пшеном, чечевицей, сахарином, строят новую жизнь, создают новое искусство, где родится новая великая страна… Если бы в эти дни приехал кто-нибудь молодой, энергичный и сказал нашим: «Собирайтесь, завтра мы едем в Баку и оттуда в Москву, я везу вас», – значительная часть группы пошла бы за ним. Но никто не пришел. Вернее, пришел, но совсем с другими речами. Появился бежавший из Москвы Балиев – он рассказывал об «ужасах чека», о презрении, антипатии к нашей группе во всех имеющих значение кругах, и партийных, и интеллигентских, и чисто актерских… Говорил, что путь в Москву нам заказан: «качаловская группа» – это синоним предательства, подлости, шкурничества. Когда кто-нибудь зажирается, слишком много требует, очень уж тянется к «обеспеченности», предпочитая ее искусству, – ему говорят: «Тебе место у Берсенева, он тебя самым сладким накормит». Он, конечно, преувеличивал, но на нас от этих рассказов нападала тоска.








