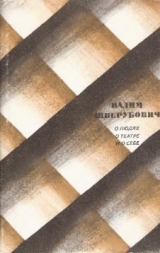
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Правда, в венских газетах уже появились заметки их софийских корреспондентов о небывалом успехе русского театра в Болгарии.
С деньгами у нас было благополучно, но тем не менее экономный Берсенев не допускал никаких излишеств и роскоши – провожаемые всей Софией, мы уезжали из нее в сидячих вагонах третьего класса. Кое‑кто из группы считал, что это нас компрометирует, но в своей прощальной речи председатель Союза болгарских актеров приветствовал и поставил в пример болгарским актерам нашу демократичность и скромность, особенно отмечая, что такие артисты с мировым именем, как Книппер и Качалов, едут как простые болгарские рабочие и селяне. Да и других провожающих наша скромность трогала. В вагонах было холодно, тесно – по восемь человек в купе. Ехали долго – железнодорожное сообщение еще не было полностью восстановлено после войны. Скоро все проходы между лавками были заставлены чемоданами вровень со скамейками, и на них по восемь человек спали «сардинками». Это было удобнее, чем в теплушках, но тоже далеко от комфорта международных спальных вагонов.
Югославия
Белград встретил нас неприветливо. Очевидно, такая уж у нас была судьба: вверх – вниз, вверх – вниз. После ужаса Новороссийска – гостеприимство Тифлиса; после оскорблений и унижений Константинополя – ласка и тепло Софии.
Белград только два года как пережил войну, много зданий было разрушено, электричество работало плохо, водопровод был испорчен, улицы были плохо вымощены…
Жизнь, видимо, была дорога – люди выглядели плохо, казались голодными и оборванными.
Нашу семью и, конечно, Ольгу Леонардовну поселила около себя Тамара Дейкарханова. Тамара уже год жила здесь со своим мужем, которого пригласило на службу сербское правительство в качестве главного инженера по восстановлению Дунайской речной флотилии. Жили они (и мы с ними) в одноэтажном доме, без электричества, с холодной уборной, умывались в тазах, принося воду из колонки на улице.
Сергей Александрович Васильев, муж Тамары, взял двухнедельный отпуск специально, чтобы принять на себя заботы и уход за Ольгой Леонардовной и моими родителями.
Несмотря на некомфортабельность, жили мы уютно и приятно. Тамара закармливала нас своей лукулловской кулинарией, Васильев носил воду, топил печи, заправлял лампы. Другие жили так же в смысле устройства, но без такой ласки и уюта.
С театром было хуже. Тут отсутствие комфорта не восполнялось уютом и сердечностью. Театр был еще не отстроен, и нам дали манеж, кое-как приспособленный под спектакли. Там же играли и сербы. Здание было на редкость неудобным. Сцена была крошечная, никак не оборудованная, декораций не было почти никаких. До сих пор не представляю, как Иван Яковлевич ухитрился выгородить и обставить «Вишневый сад», «Мудреца», «Дядю Ваню», «Врата» и «Карамазовых».
Работали мы как звери все дни и ночи напролет. За ночь переписывали и перекраивали декорации с «Вишневого сада» на «Дядю Ваню» и с «Мудреца» на «Врата», перебивали мебель, из скамеек делали диваны, из листов фанеры, набитых на ящики, сделали «многоуважаемый шкаф» и т. д. Мы с Орловым работали только как физическая сила – весь замысел, вся выдумка шла от Ивана Яковлевича. Но самым страшным был свет: никакого реостата, никаких фонарей – один софит из двух десятков лампочек. Но и тут что-то удалось придумать – С. А. Васильев привел нам какого-то русского эмигранта – инженера-электрика, и тот сделал нам жидкостные реостаты, два или три рефлектора с зеркальным отражением. А на премьере в присутствии «всего Белграда» свет вообще погас! Произошла авария на единственной электростанции. Но дирекция нашего манежа-театра была к этому, видимо, привычна: вдоль рампы расставили штук десять карбидных фонарей; они, правда, воняли, но давали света достаточно, чтобы можно было разглядеть актеров. А мы-то над «рассветом» и «закатом» так бились!
Это был самый короткий и самый мрачный наш сезон.
Сыграв за шесть дней шесть спектаклей, мы покинули Белград. Не особенно нам здесь понравилось, хотя принимали нас очень хорошо, сердечно, приветливо и хлебосольно.
Следующим городом на нашем пути был Загреб. Ожидали мы от этого города мало хорошего – если так трудно нам пришлось в столице, то что же ждет нас в провинции, какой был этот хорватский городок. Но закон качелей оставался законом нашей судьбы: вверх – вниз, вверх – вниз…
Загреб показался нам Веной, Парижем – одним словом, мировым центром. Это был поразительный город. Я боюсь называть цифры, но помнится мне, что население его в 1921 году было около ста тысяч. То есть город по количеству жителей вроде Смоленска или Орла. В нем было два театральных здания, из которых одно первоклассное, пять-шесть вполне отличных гостиниц, музей живописи, прелестный пригородный парк, который мы называли «Тушканчик» (его звали, кажется, Тушканац), центральная площадь – Елачичев трг – была обстроена прекрасными барочными зданиями. Главная улица – Илица – оживленная, всегда кишащая народом, с элегантными витринами магазинов, среди которых был огромный книжный магазин, где с первого дня нашего приезда были выставлены прекрасные издания Чехова, Достоевского, Горького, Гамсуна на сербском, хорватском, немецком и русском языках и большие портреты Василия Ивановича, Ольги Леонардовны, Станиславского и почему-то Шаляпина.
В городе был университет, студенты которого предложили нашей группе бесплатное участие в наших спектаклях в качестве статистов. На Илице был ресторан «Москва». Держал его Марко Иванович Карапич. Это был сын знаменитого Жана – владельца одноименного московского ресторана в Петровском парке. Этот очень известный в старой Москве ресторан имел патент трактира второго разряда, открывался в четыре часа утра (он числился «извозчичьим двором») и закрывался в восемь часов вечера. В него приезжали докучивать после «Яра», «Стрельны», «Мартьяныча» и т. п., чтобы выпить чарку водки под популярную среди московских кутил жареную целиком чайную колбасу и пить чай «парами». Иногда (а во время войны главным образом) под видом чая подавалось шампанское. Вот сын этого Жана, работавший под отцовской маркой в Москве до самой революции, принявший русское подданство, после революции эмигрировал и открыл в Загребе эту «Москву» – ресторан, знаменитый русской кухней.
Узнав о приезде группы Художественного театра, в которой он предполагал увидеть своих московских гостей, он встретил нас на вокзале. Из завсегдатаев ресторана в группе оказался один Александров, но и Василий Иванович и Ольга Леонардовна тоже бывали у него. Разочарован он был тем, что не приехал Москвин – его он ждал больше всех.
С первого же дня задняя комната ресторана была закрыта для всех посетителей, кроме членов нашей группы. В ней обедали, ужинали, собирались для бесед, Берсенев принимал там для деловых разговоров. Это был наш дом, наш клуб, наш очаг…
Но главное, конечно, что сделало нашу жизнь и работу счастливой и радостной, – это театр. Все в нем было прекрасно. Изумительная оперно-опереточная труппа под руководством крупного дирижера; драматическая (ее возглавляли интересные, высококультурные режиссеры Гавелла и Иво Раич); балет возглавляли наша московская балерина Маргарита Фроман и ее брат. В репертуаре театра была и классическая опера и оперетта. Забыть не могу певицы Строцци в «Чио-Чио-Сан», комика Грундта в «Летучей мыши». Драматическая труппа была еще выше оперной.
Имена актеров я, к сожалению, перезабыл; помню Анчицу Керниц, Арндта…
Когда мы приехали в Загреб и успели посмотреть несколько их спектаклей, нам стало жутковато: а не шлепнемся ли мы здесь? Это были первоклассные спектакли, без всякого провинциализма, чувствовался строгий, взыскательный руководитель, все было со вкусом, серьезно, добротно, и главное – талантливо. В труппе не было ни одного плохого актера… А у нас? К сожалению, были. Это и повергло наших главарей в тревогу. Самое интересное, что те, кто внушил эту тревогу, наши «Шмаги», нисколько не волновались: они были уверены в себе и за свое «мастерство» не тревожились.
Высокопрофессионально была налажена и вся постановочная и техническая сторона дела. Во главе каждого цеха стояли ответственные, серьезные, опытные и преданные театру люди. Я больше всего имел дело с главным реквизитором и его помощником. Оба были пожилые (с моей тогдашней точки зрения), солидные, пунктуально-аккуратные, благовоспитанные люди. Такими же были и машинист («мастер сцены»), и главный осветитель со своими помощниками, и все рабочие, вплоть до важного, лысого, с седыми бакенбардами (под покойного австрийского императора) портье.
Говорили все очень хорошо и охотно по-немецки. Ведь только три года тому назад это была Австро-Венгрия, и немецкая речь была в какой-то степени признаком образованности и культуры. Мой достаточно хороший немецкий язык, да еще в русских устах, пользовался большим успехом. Ко мне лично в театре относились удивительно хорошо.
К нам как к театру, как к явлению искусства они отнеслись настороженно-подозрительно. Все гастролеры с востока и юга были в их глазах, глазах людей, воспитанных по-венски, немного дикарями. Но сначала наше отношение к делу – монтировки, репетиции, подготовка костюмов, париков и т. д., а потом (и это, конечно, больше всего) сами спектакли убедили их в высоте культуры нашего труда и искусства.
Со дня нашей премьеры, еще до конца ее и огромного ее успеха, после первого же занавеса весь театр, все Narodno Kazaliste – от Гавеллы и Раича до мальчишки-электрика, от главного интенданта (директора) до истопника – стали нашими верными друзьями и почитателями. Работать стало легче и приятнее. Успех рос от спектакля к спектаклю. Рецензии были восторженные. Появились рецензии о наших спектаклях и в газетах других городов и даже стран.
Загребский корреспондент одной из крупнейших газет Вены написал о наших чеховских спектаклях, что это крупнейшее художественное событие в послевоенной Европе.
К концу января на спектакле «У врат царства» за кулисами у нас появился один из руководителей пражского Национального театра. Он выразил свою признательность за наслаждение от спектакля и предложил Василию Ивановичу приехать в Прагу на гастроли. Василий Иванович с благодарностью отказался и рекомендовал гостю переговорить с Берсеневым и Леонидовым о поездке в Прагу всей группой. Таким образом Загреб не только сам по себе оказался настоящей «маленькой Европой», но и открыл нам двери в «большую Европу».
Играли мы в Загребе с 18 января по 13 марта, то есть почти два месяца. Правда, играли с большими и короткими перерывами, в которые ездили в столицу Словении – Любляны. Это был маленький, но тоже чрезвычайно театральный городок, очень красивый, живописно расположенный в предгорьях Юлийских Альп. Народ там был очень приятный и дружески к нам настроенный. Мы имели дело в основном с людьми театра, судили по ним, и нам казалось, что если хорваты очаровательно соединяли в себе добродушие, благожелательность к людям, душевную широту, сердечность, мягкость, свойственные им как народности славянской, с австрийской аккуратностью, деловитостью и особенной венской благовоспитанностью и любезностью, то у словенцев ко всем этим свойствам прибавлялись еще воспринятые ими от соседних итальянцев легкость, веселость, музыкальность, изящество и артистичность.
Не только суровые сербы, но даже гибкие и душевно и физически грациозные хорваты казались менее изящными рядом с очаровательными словенцами.
Приехавший с нами в Любляны незадолго до того выпущенный из константинопольской тюрьмы и появившийся в Загребе Сураварди встретил здесь своих московских друзей-поэтов из бывших в русском плену австрийцев, освобожденных революцией и группировавшихся одно время в Москве вокруг Брюсова и Балтрушайтиса. С этой компанией мы встречали в Люблянах, в отеле «Слон» старый русский Новый год.
Тринадцатого января после большого, прошедшего с оглушительным успехом концерта мы компанией человек в пятьдесят собрались в огромном номере, который в этой уютной старинной гостинице, принимавшей около ста лет назад в своих стенах Меттерниха и Александра I, занимала Ольга Леонардовна. Сидели до позднего утра, пели друг другу свои песни, поэты нам – свои словенские и итальянские, наши им – русские и цыганские. Читали Блока, Ахматову, Брюсова, Волошина; словенцы читали свои стихи и тут же переводили их на русский язык. Под конец Сураварди читал «Жиль на свиэте рицар биедни», а потом свои переводы пушкинских стихов на бенгальский язык. Русские, словенцы и индус объединились на любви к поэзии, к слову, к музыке, к красоте и больше всего на любви к Москве, к России… Каждый второй тост был за Москву, за того или иного москвича, за тот или иной московский театр, университет, музей, за московские улицы, за Кремль и т. д.
Мы знали, что сто лет назад в этих комнатах заседал враждебный свободе и человеку Священный союз, знали это, помнили и поэтому с еще большим жаром любви к человеку, к лучшему, что в нем есть, ткали нити дружбы и нежности друг к другу… Это была дивная, незабываемая встреча Нового года.
После этих наших спектаклей в Люблянах многие словенцы начали приезжать «к нам» в Загреб и говорили, что из любви к нам они ближе сошлись с хорватами и лучше поняли друг друга.
В Люблянах мы, наконец, «разродились» – после восьми почти месяцев репетиций и перерывов сыграли «Потоп». Спектакль шел прилично, но не мог, конечно, идти ни в какое сравнение с другими нашими спектаклями. Пресса Люблян, очень к нам расположенная, не могла не отметить этого и вежливо и доброжелательно, но и пьесу и спектакль обругала решительно и категорично. Газеты писали о том, какой неприятной неожиданностью оказался в репертуаре Художественного театра такой легковесный, претенциозно-философский, сентиментальный спектакль. Писали о том, как не подходит, как чужда эта пьеса стилю и художественным приемам этой труппы. Наши видели в этих отзывах предвзятость отношения прессы к европейским (не русским) пьесам в нашем репертуаре. Но это не соответствовало истине – ведь «У жизни в лапах» и особенно «У врат царства» проходили с успехом, хотя о «Лапах» в Загребе писали, что только блестящее исполнение спасает эту пьесу, но, не принимая пьесу, спектакль все же хвалили. Я думаю, что «Потоп» действительно не вышел. Как я уже раньше писал, в нем не было никакой сверхзадачи, а только ее присутствие, ее главенство в «Потопе» Первой студии сделало то, что слабая пьеса стала материалом для изумительного спектакля. Кроме того, как это мне ни грустно, но мать моя оказалась очень слабым режиссером для такой работы.
Ведь все, что ставилось до сих пор в группе, было в той или иной степени возобновлением, реконструкцией в старых традициях. Она очень хорошо работала, бесконечно много сделала для Чебутыкина – Павлова, но ведь были традиции Артема и Грибунина; она буквально сделала всю роль Орловой – Наташи, но ведь это после М. П. Лилиной…
Причем она (Литовцева) совсем не навязывала актерам образа, интонаций, приемов первосоздателей этих ролей, она помогала найти свойобраз, своюлинию поведения, приводила к мысли о том, чего добиваться, как своим, самостоятельным путем идти к той цели, к какой своим, но иным путем шли прежде другие.
В «Потопе» таких традиционных образцов не было. Московский спектакль знали мало, никто в работе над ним участия не принимал. Видели его только в качестве публики, по одному, редко по два раза. Но кроме того, ведь в студийном спектакле были такие исполнения, как Чехов и Вахтангов – Фрэзер, как Хмара – О’Нейль. Смешно было бы думать, что хотя и талантливый, но мало интеллигентный Паша Павлов мог равняться с Чеховым и Вахтанговым, а темпераментный и страстно-размашистый, «рубашечный герой» Бакшеев мог оказаться на уровне такого глубокого и по-европейски масштабного актера, как Хмара. Хмара и Керженцева в «Мысли» играл, и Росмера в «Росмерсхольме», умел мыслить на сцене, а Бакшеев в этом силен не был… Правда, вероятно, Берсенев был гораздо лучше Гейрота, Тарханов – Сушкевича, но это не спасало – Гейрот и Сушкевич были в Москве направлены, вписаны в тонко, умно и глубоко продуманный и прочувствованный спектакль. Берсенев же и Тарханов оставались как-то сами по себе…
Да, это была наша первая неудача, если не считать скандального концерта в Константинополе. Мать была убита и мучилась, считая себя виноватой в этой неудаче. Надежда, что спектакль разойдется и постепенно станет идти лучше и иметь больший успех, не оправдалась: ни Загреб, ни Осиек (где мы были в марте), ни Белград (когда мы были там во второй раз) не приняли этой нашей работы, и как пресса, так и реакция публики были еще хуже, чем в Люблянах. Мать пыталась искать спасения во внешних эффектах, главным образом в шумах. По ходу пьесы говорится: «Это рухнула плотина». В Студии для звука рушащейся плотины ломали кусок фанеры с одновременным ударом в барабан. У нас же под колосниками подвешивалась целая поленница дров на двух веревках, по сигналу веревки перерубались, и дрова со страшным грохотом рушились на обитые фанерой станки. Мало того, в этот же момент раздавался залп из трех ружей, гремел театральный гром, ударяли в турецкий барабан и в литавры. С каждым спектаклем мощность звука нарастала (мать не знала удержу в своих требованиях). В Белграде, например, к нам на сцену была вызвана (Берсенев устроил!) команда пулеметного взвода с двумя строенными пулеметами, из которых одновременно давалась короткая холостая очередь.
Грохот был невыносимый, но на публику он почему-то не производил никакого впечатления.
Да, пришлось констатировать, что спектакль, не удавшийся в главном, никакими эффектами спасти невозможно.
Следующей нашей премьерой должно было быть «На дне». Для того чтобы его хорошо приготовить и в это же время отдохнуть, решили на семнадцать дней прекратить спектакли и пожить две недели где-нибудь на курорте. Берсенев решил не выдавать всех денег «на марки», а за счет группы снять какой-нибудь маленький санаторий и поселиться в нем «коммуной». Так и сделали. Недалеко от Люблян есть дивное озеро Блед, вокруг озера – курортный поселок. В это время года, в конце февраля, там был мертвый сезон, и нашим руководителям удалось снять целый маленький «семейный пансион» только для нашей группы. Причем ввиду того, что мы должны были питаться одной семьей по единому меню, без особых изысков и разносолов, да еще и время несезонное, с нас взяли чуть ли не полцены.
И вот, отыграв 11 февраля «Три сестры», мы, простившись со своими друзьями в театре и с уютным старым «Слоном», рано утром сели в два больших автокара (автобусы с только сидячими местами), распрощались с Л. Д. Леонидовым, который направлялся в Вену, где хотел попытаться снять театр и организовать наши гастроли, и двинулись в дорогу. Подробностей пути я не помню, но чудо приезда, чудо возникновения в глубине долины этого дивного озера помню, как будто это было не полвека назад, а на той неделе. Боже мой! Чего бы я не отдал, чтобы… нет, не увидеть (этого мне мало), а показать это своим близким, чтобы увидеть не только самому эту красоту. Не только эту, конечно, а все то прекрасное, что привелось мне увидеть за мою долгую и такую круто замешанную на событиях и потрясениях жизнь. Иногда думается, что взял меня господь бог за руку и в утешение в том, что нет у меня талантов созидающих, а есть только талант воспринимающий – привел и показал: рассвет в русском лесу, моря и океаны, вершины гор, долины и потоки Кавказа и Альп, Золотой Рог Босфора, Париж, весенний Гайд-парк, расцвет Московского Художественного театра, Лувр и многое другое прекрасное, ради чего стоило жить и страдать.
Одним из таких даров судьбы было видение Бледа. Не могу, не хочу изжеванными словами рассказывать об этой красе неба наверху, над снегом вершин, и неба внизу, под зеленью склонов, в глади озера с ледяными краями… А в середине нижнего неба – скала с замком, круто, неровно-асимметрично торчащим вверх, все вверх, без единой горизонтали. Замок утром розово-золотой, вечером черно-лиловый…
Пансион, в котором мы жили, стоял на самом берегу озера так, что застекленная терраса, на которой мы иногда в хорошую погоду получали «яузе» (чай и закуска в пять часов), висела над самой водой. Кормили скромно, по-домашнему, но вкусно и сытно.
Каждый день, без выходных, с десяти утра до двух шли напряженные и очень производительные репетиции «На дне». О распределении ролей я уже писал; в нем был один, но зато очень существенный недостаток: не было Василисы. Германова ее играть отказалась, у Греч ничего, кроме крика, не выходило, и репетировала ее Ольга Леонардовна. Это было ужасно. Она это и сама понимала и, с глубоким горем отдавая такую чудесную и любимую роль, как Настёнка, пыталась добросовестно и старательно вжиться в характер Василисы, но это ей было явно не под силу.
В остальном все было в порядке; хотя у Греч Настёнка, конечно, не была таким «бриллиантиком», как у Ольги Леонардовны, но это было больше чем удовлетворительно. Павлов был интереснее и страшнее Бурджалова (Костылев), Бакшеев – Пепел, Орлова – Наташа, Массалитинов – Сатин. Да и Шаров – Бубнов, и Комиссаров – Медведев, и Берсенев – Клещ – все было на отличном и хорошем уровне. К концу отдыха спектакль был готов.
Иван Яковлевич Гремиславский со своим штатом с грустью покинул Блед на пять дней раньше, чтобы подготовить в Люблянах оформление. Костюмы были готовы уже с Тифлиса и Софии. Я всегда очень высоко ценил замечательное мастерство Ивана Яковлевича Гремиславского, его удивительное умение увидеть в каждой вещи ее скрытые возможности и выявить их так, как это в каждом отдельном случае максимально возможно. Пока все наши спектакли требовали обычных интерьеров, он легко находил в благоустроенных театрах (а мы, кроме Белграда, играли в театрах достаточно обеспеченных) нужные ему, подходящие павильоны, и, переставив стенки справа налево или наоборот, вставив на место окон двери, подкрасив их и т. д., он получал нужный павильон для любой чеховской пьесы, для «Осенних скрипок» и «У врат царства», а другие пьесы мы играли просто в сукнах.
Но тут для костылевской ночлежки найти что-нибудь подходящее было очень трудно. Иван Яковлевич обтянул мешковиной какие-то обреченные на слом стенки, перевернул одни стенки вверх ногами, а другие наизнанку, сколотив из двух ящиков русскую печку, из распиленной на полосы фанеры – комнату Пепла. После того как все это было расписано, Иван Яковлевич получил достаточно убедительный подвал. Низко опущенные падуги, свет и реквизит завершили все. На изнанке высокого задника Иван Яковлевич написал кирпичный брандмауэр; обив какой-то готический двухэтажный дом той же мешковиной и расписав ее под цвет штукатурки, а облупленные места под кирпич, он создал очень хорошее оформление «заднего двора».
Все оформление было сделано и написано за полтора дня бешеной работы трех человек – самого Ивана Яковлевича, Ивана Орлова и меня. Причем я был преимущественно чернорабочим, так как по-настоящему ничего не умел делать, а только помогал, но зато уж изо всех сил. Наблюдавшие нашу работу руководители люблянского театра тут же пригласили Ивана Яковлевича сделать у них постановку, какого спектакля – не помню, и он между прочим сделал для них эскизы. Его необычайно высоко оценили и в Загребе и вообще в Югославии, ему неоднократно предлагали остаться во всех городах, где мы были, и предлагали очень хорошие условия. Но разве мог он даже подумать об этом?
Двадцать восьмого февраля была генеральная, 1 и 2 марта мы сыграли «Дно» и на этом простились с милыми Люблянами.
К концу нашего пребывания в Бледе туда прибыл Л. Д. Леонидов и сообщил, что в первых числах апреля нас ждет Вена. С невероятным трудом (по его словам) ему удалось добиться для нас театра и въездных виз. Последнее было не легче первого: в Австрии было нечего есть, гостеприимно принимали только тех, кто ввозил продовольствие или валюту, на которую его можно было купить, а мы были только едоки, без всяких «ценностей». В хлопотах ему помогало имя Книппер-Чеховой (Антон Павлович был очень популярен в культурных кругах этой страны).
С 5 по 13 марта мы играли в милом Загребе. «Потоп», как я уже говорил, провалился и здесь, только с большим треском, чем в Люблянах. «На дне» имело успех, но очень много меньший, чем чеховские спектакли, «Карамазовы» и «У врат царства» – так, где-то между «Мудрецом» и «Осенними скрипками». Хотя последний спектакль в Загребе (мы кончили «Дном») прошел триумфально, но это был триумф не спектакля, а труппы, театра. Убогий подвал «ночлежки» был буквально засыпан цветами. Больше получаса после последнего занавеса публика не расходилась и кричала «Живио!» и «Добре дошли!». Настоящие и искренние слезы лились по обе стороны рампы. Уж на что мы были избалованы лаской и любовью в Тифлисе и в Поти, но подобного, равного Загребу, в нашей жизни за эти годы мы не знали ни до, ни после него. Успех бывал, бывали и дружбы, и возникало тепло во взаимоотношениях, но взаимовлюбленности такой не бывало.
На всех наших спектаклях везде, где только можно было при переполненном зале приткнуться, виднелись лица хористок, кордебалета из оперетты, музыкантов, не говоря уже об артистах драмы всех рангов и положений. Наши тоже по нескольку раз смотрели их спектакли – и драматические, и оперные, и опереточные. И как бы переполнен зрительный зал ни был, знавшие всех наших актеров любезные билетеры устраивали их самым лучшим из всех возможных образом, вплоть до того, что ставили нам в проходах стулья. Стоило одному из наших войти в «Казалистна кавану» (театральное кафе), как у трех-четырех столиков вскакивали знающие их театральные люди и наперебой звали к себе.
Жалко было со всем этим расставаться – и с дивным парком, и с «Москвой», с ее милым Марко Ивановичем, и с сердечно любящей нас публикой, и, главное, с этим насквозь культурным, насыщенным атмосферой тонкого и высокого искусства театром… Но мы, как Агасфер, должны были идти и идти все дальше и дальше.
Теперь нам предстояло сыграть несколько спектаклей в главном городе Славонии – Осиеке. Это был очень типичный провинциальный городок, чистенький, тихий и скучный.
Сыграли мы там четыре спектакля: «Вишневый сад», «Потоп», «Дядю Ваню» и «Осенние скрипки».
Наибольший успех имели «Осенние скрипки» – может быть, потому, что это был последний спектакль. Но настоящий успех мы имели только на нем.
У меня лично была большая, хотя принятая нашей труппой смехом, неприятность. Для «Потопа» мне нужно было четыре-пять круглых столиков (для кафе-бара). Рядом с нашим театром в саду было закрытое на зиму кафе.
Я выпросил у хозяина четыре железных столика с мраморными крышками и с трудом перетаскал их в театр. После «Потопа» я решил вернуть их, но с первым же столом упал и разбил мраморную крышку. Испугавшись скандала, я решил отдать их в последний момент, утром, перед отходом парохода. Так и сделал: перетаскал их в кафе в семь часов утра, помчался на пристань и прятался там до самого отплытия и только с последним гудком пробрался на пароход. Надо мной долго смеялись по этому поводу.
Из Осиека мы плыли по Драве и Дунаю до самого Белграда. Это было на редкость приятное и какое-то освежающее путешествие. К сожалению, оно длилось один всего день – вечером мы были уже в Белграде.
За три зимних месяца в городе произошли большие изменения. Был отстроен хороший отель, сильно разрушенный и разграбленный во время войны, и в нем с комфортом разместилась вся наша труппа. Тамары Дейкархановой в Белграде не было – ее вызвал в Париж Никита Балиев, открывший там свою «Летучую мышь». Играли мы уже не в манеже, а в восстановленном и отлично отделанном театре. Сыграли три чеховские пьесы, «На дне» и один раз наш неудачный «Потоп». Успех был хороший, но того контакта с публикой, той атмосферы дружбы со зрительным залом, какая была в Загребе, конечно, не было.
Был конец марта, шла весна, вторая наша весна перед третьим нашим летом в странствиях. Весна была светлая и холодная, и то ли от этого, то ли оттого, что Белград был чужим и холодным, но об этом кратком сезоне в столице Югославии мы всегда вспоминали с тоской. Главное же, что волновало, тревожило и не давало покоя, – это была мысль о том, что мы расстаемся со славянскими странами, что не будет перед нами больше понимающего почти каждое слово зала. Ведь нам предстоял самый серьезный экзамен: играть в Вене. В Вене, городе, который всегда славился своим театром, в городе, где нас будут смотреть люди, видевшие лучших актеров мира. Мы должны победить этих зрителей вопреки языковому барьеру. Как-то там все сложится, как к нам отнесутся, как примут… Ведь и в быту там будет трудно: никто почти из труппы не знал немецкого языка. То ли дело с братскими народами – и с болгарами, и с сербами, хорватами и словенцами легко было объясняться, а теперь все почти будут без языка…
Да, с мрачными думами мы садились 1 апреля в поезд, который вез нас в Вену. Но нам еще предстояла одна неожиданная радость – нас ждала волна тепла и ласки, которая смыла и отбросила на время наши тревоги и сомнения, и не такой уж страшной стала нам казаться Вена. Вот что такое была эта радость. Поезд наш уходил из Белграда поздно вечером, проводили нас очень мило и тепло, но это были далеко не те проводы, к каким мы привыкли, какими нас избаловали друзья и поклонники нашего театра. Вагон был второго класса, с мягкими сиденьями, именно сиденьями – спали сидя, навалившись друг на друга.
Утром, когда, усталые от неудобных поз, от мучительного полусна-полубодрствования, мы подошли к какой-то станции, нас встретили громовой музыкой: на перроне играли по очереди два оркестра, военный духовой и смешанный. Это был Загреб. Было пять часов утра, но весь вокзал был полон веселой нарядной публикой – это наши друзья встречали нас, чтоб попрощаться в последний раз. На вокзале был весь театр – от директора до портье.
Все актеры всех трех трупп, музыканты, рабочие всех цехов, даже милая кассирша из билетной кассы, хорошенькая рожица которой всегда приветливо улыбалась нам из своего окошечка…
Наш кормилец Марко Иванович, официанты из «Казалистна каваны», профессора, студенты университета, служащие гостиницы, в которой мы жили, все, все, все… В ресторане были накрыты столы и приготовлен завтрак для всех.
Мы сели вперемешку со своими хозяевами, захлопали пробки шампанского, оркестры гремели, все хором запели какую-то хорватскую песню про проводы милых гостей…








