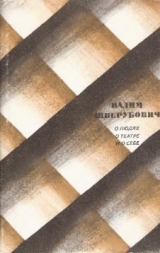
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
Вадим Шверубович
О людях, о театре и о себе
Живое прошлое
У этой книги есть одна удивительная особенность: начиная с первых же строк она вся воспринимается как бы на слух, в каком-то едином, постепенно все более вас увлекающем напоре слышимой речи. И, перевернув последнюю страницу, вы, наверно, еще долго будете слышать этот – теперь уже знакомый – голос, поток неприбранных, разговорных интонаций, взволнованный ритм изустного повествования, которое как будто с трудом удалось автору втиснуть в рамки хотя бы минимальной последовательности частей и глав, а лучше было бы так и оставить сплошным, вылить все сразу, без передышки, не считаясь с законами восприятия.
Живая непосредственность намеренно «нелитературного» рассказа приводит к тому, что все самое важное здесь раскрывается без предуведомления и словно даже неожиданно. Так, В. В. Шверубович, начав свою повесть о театре со «смешного», со своеобразного культа юмора, характерного для его отца В. И. Качалова и для всего качаловского дома, не выходя за пределы качаловской «высокой богемы» с ее талантливым весельем, бурными эстетическими спорами и политической разноголосицей, постепенно вовлекает нас в духовный мир передовой художественной интеллигенции периода 1905–1917 годов. Так же незаметно, как будто через незнакомый обыкновенным зрителям «служебный вход», он приводит нас прямо из качаловской квартиры в Московский Художественный театр, и не только на его спектакли, но и за кулисы, а иногда даже в святая святых театрального творчества – на репетиции. О них он рассказывает преимущественно со слов родителей, со всей тогдашней конкретностью, увлеченностью и пристрастностью их оценок. И вдруг сквозь пестроту той давней театральной злобы дня, уже в егорассказе, проступает нечто идущее из самых глубин, из самых основ искусства Художественного театра. По ходу рассказа о детстве, об играх, вдохновляемых Л. А. Сулержицким, вдруг возникает определение сущности «системы Станиславского». В калейдоскопе будней театрального сезона вдруг приковывает к себе наше внимание мучительная неудовлетворенность Качалова своим триумфальным успехом в заглавной роли «Анатэмы» Леонида Андреева. Или спор двух непримиримых мировоззрений, разделяющих Художественный театр и театр Гордона Крэга при постановке «Гамлета». Или подспудные признаки нарастающего кризиса театра накануне Октября. И еще многое, многое другое, чрезвычайно существенное для исторической правды о МХАТ.
А в то же время на страницах книги В. В. Шверубовича как бы изнутри театральной жизни, театрального быта, театральной атмосферы, все так же незаметно, исподволь, путем вовсе не обязательных на первый взгляд отступлений в сторону протягиваются и напрягаются нити, которые связывают театр с его окружением, с тем, что творится за его стенами, с тем, что вот‑вот навсегда разрушит и что будет заново строить небывалая в мире революция.
В своей книге Шверубович пишет и о том, каким сложным был для некоторой части художественной интеллигенции путь к пониманию Октябрьской революции и ее исторических перспектив.
Книга Шверубовича необычна еще и тем, что она, очевидно, сама собой выстроясь, так и существует без каких-либо внешних опор и скреп, но зато – на прочной внутренней основе, которая ее и держит и одухотворяет. С самого детства автора Художественный театр заполняет и направляет всю его жизнь: это его ближайший мир, его любовь, его родина в искусстве (и это, разумеется, гораздо шире его первоначально скромной, а впоследствии руководящей деятельности в Постановочной части МХАТ). Задумав написать хотя бы только часть биографии МХАТ, вернее, восполнить один из ее пробелов, он неизбежно должен был начать рассказывать о самом себе. Биография театра переплелась с его автобиографией, которую он, собственно, и не думал писать. Выбранный им для подробного описания период кончается 1922 годом – двадцать первым годом его жизни. Значит, перед нами – его «детство, отрочество, юность» и через них возникающая повесть о Художественном театре. Даже переходящая почти в летописную хронику театральной жизни вторая часть повести не размывает крепости этой внутренней связи: театр и здесь не перестает оставаться его «юностью».
Мне кажется, что в этом безраздельном слиянии – главный внутренний смысл, своеобразие и обаяние книги Шверубовича. Здесь на каждом шагу к истории примешивается исповедь, а исповедь поверяется историей, которая помогает автору восстанавливать вехи своего детского, отроческого и юношеского мировосприятия, свой былой «символ веры». Из этого сплава и возникает правдивость воспоминаний, искренность и беспощадность автора к самому себе, даже в такие моменты, остроту которых многие из нас невольно постарались бы как-нибудь сгладить.
Именно из слияния биографии театра с автобиографией Вадима Шверубовича только и мог возникнуть такой образ Станиславского, каким он предстает в этих воспоминаниях. Это его, шверубовичевский Станиславский, егобесконечно любимый Константин Сергеевич, которого он не променяет ни на полноту театроведческого анализа, ни на законченность литературного портрета. ЕгоСтаниславский – весь из противоречий, которые были бы вопиюще непримиримыми в любом другом человеке: мудрый и детски наивный; доверчивый и подозрительный; грубый и нежный; грозный, гневный, непрощающий и чутко отзывчивый; гиперболист и фантаст во всем, даже в самом будничном, и во всем – художник, даже в своих анекдотических страхах, в своих нелепейших выдумках, в своем «фантазерстве» во имя Театра. Самое удивительное – это то, что Шверубович даже и не пытается конкретно характеризовать его как режиссера, даже редко вспоминает его в прославленных ролях, даже больше любит в некоторых его ролях других актеров. Он почти не выходит за рамки театрального и околотеатрального быта, не боится смешного. И тем не менее Станиславский живет в этой книге во всей несомненности гения, как чудо неповторимое, причем ощутимое, живое, а не скрытое под слоем «хрестоматийного глянца».
Таким же неожиданно новым предстает в этой книге Василий Иванович Качалов – и как актер и как личность. С такой глубиной проникновения, с такой любовью внутренний мир Качалова еще не был раскрыт, потому что не был так понят еще никем.
И Станиславский, и Качалов, и Книппер, и Сулержицкий, и Грибунин, и Литовцева, и многие другие действующие лица книги потому-то и получились у автора такими живыми, что он обещал себе говорить о них «только оттуда», как бы из прошлого, ничего не позволяя себе ни подновлять, ни корректировать.
Этот принцип определил достоинства книги, но он таил в себе и опасность суждений односторонних, характеристик объективно неверных, прежде всего в силу их неполноты. Так не повезло в рассказе Шверубовича Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Он «туда» не попал, не вместился; он «там» всего лишь присутствует, все время заслоняемый другими. Его образ и значение не охватываются не только застольными разговорами в качаловском доме, запомнившимися автору с детства, но и отрывками из его позднейших писем или отдельными строчками из дневника Качалова. Не издержками ли того же принципа – рассказывать только «оттуда» – объясняется и бросающаяся в глаза сгущенность отрицательной характеристики А. А. Санина или жесткая однолинейность некоторых суждений, касающихся деятельности И. Н. Берсенева в период 1919–1923 годов. Но таких случаев немного.
Особое место в воспоминаниях Шверубовича занимает рассказ о трехлетних гастролях-скитаниях по югу России, а потом и за рубежом значительной группы артистов Художественного театра в 1919–1922 годах – рассказ о так называемой «качаловской группе». Существенно, что в историю театра теперь включен один из самых сложных и острых периодов становления нового МХАТ как театра Советской эпохи. До сих пор все мы так или иначе упрощали или просто плохо знали историю разъединения и воссоединения монолитного до тех пор гиганта русской театральной культуры. В книге Шверубовича она восстановлена последовательно, почти день за днем, на основании огромного фактического материала и благодаря талантливой памяти автора.
Перед нами проходит в лихорадочно напряженной атмосфере вся ежедневная работа коллектива артистов во главе с В. И. Качаловым, О. Л. Книппер-Чеховой, М. Н. Германовой, Н. О. Массалитиновым, Н. Н. Литовцевой, И. И. Берсеневым, к которым потом присоединяются только еще начинающая свой актерский путь А. К. Тарасова и уже знаменитый в провинции М. М. Тарханов.
Читая эту хронику, мы вместе с ними переживаем волнение каждой премьеры, от возобновления старых чеховских спектаклей и «На дне» М. Горького до новой постановки «Гамлета». Мы узнаём много нового и порой чрезвычайно важного для творческой биографии Качалова, Книппер-Чеховой, Тарасовой, знакомимся ближе с Германовой, Массалитиновым, Бакшеевым. Все спектакли «группы» описаны, разобраны, оценены не критиком, а каким-то особенно тонким и чутким зрителем, который к тому же еще может подробно рассказать нам, как все это готовилось, делалось, какого напряжения сил, каких страданий иногда стоило. Кажется, что восприятие театра и оценки автора взрослеют вместе с ним, и это тоже одна из особых сторон его рассказа о театре.
А рядом с этими рецензиями изнутри театра перед нами разворачивается трудный кочевой быт артистов-странников: пути и перепутья, теплушки и палубы, случайные пристанища и комфортабельные передышки, бесчисленные зрительные залы – то страстно влюбленные, то холодно враждебные; проводы и встречи, общие невзгоды, общие радости и – думы, думы о родине, пронизывающие весь этот странный вздыбленный быт, уже не только соединяющие, но и разъединяющие «группу». Вот из таких-то дум, без какой-либо тенденциозности, как бы сама собой, и возникает совсем по-новому в этой хронике, то и дело срывающейся на «исповедь горячего сердца», вечная проблема искусства и жизни, театра и его общественного предназначения, его социального и нравственного смысла. Среди всех трудностей, разочарований, тревог, переживаемых «группой», есть нечто самое главное, самое мучительное и уже непреоборимое для Качалова, для Книппер-Чеховой и для тех, кто к ним наиболее близок. Это их убеждение, что, оторвавшись от родины, от Москвы, от заново строящейся там жизни, группа сильнейших и коренных «мхатовцев» становится уже не только неполноценным МХАТом, но и «анти-МХАТом», что любой, даже самый высокий по мастерству их спектакль превращается в прозаическую гастроль, лишенную идейной сверхзадачи, да и самое мастерство бледнеет, лишаясь почвы и горизонта. Они, вероятно, не говорили об этом тогда с полной определенностью. Но В. В. Шверубович досказал это сегодня в своей книге, досказал тоже как бы «оттуда», сквозь горечь, и споры, и слезы тех лет.
Что же касается его автобиографии, продолжающейся, как уже сказано, и в перипетиях истории «качаловской группы», то здесь становится до конца явственным тот внутренний, подспудный ее лейтмотив, который до сих пор звучал в его рассказе вторым планом. Этот внутренний лейтмотив воспоминаний я бы назвал его чувством Родины.
Россия в душе – всегда… «Москва, Родина, Россия – все самое близкое сердцу, все, перед чем оно замирает, чем гордится, что любит…». Так он сам пишет об этом. На страшной грани возможной эмиграции эта любовь превращается у него в «непрерывно щемящую и кровоточащую рану». Он ощущает ее в этот момент особенно остро еще и потому, что совсем недавно мальчишеская бредовая идея чуть не привела его к полной катастрофе, когда он пошел семнадцатилетним добровольцем в белую армию. Он и об этом рассказывает в своей книге с обычной прямотой и искренностью.
Но к концу книги его чувство Родины, как будто сконцентрированное силой катастрофических обстоятельств на судьбе его родного театра, прорывается далеко за пределы и театра и собственной недавней трагедии. В тех выстраданных простых словах, которыми Шверубович об этом говорит, звучат одновременно и боль ностальгии, и чувство новой ответственности, и раскаяние, и вера, и великая гордость за русскую духовную культуру. Все это окрашивает с возрастающей интенсивностью его первые соприкосновения с Западом, его первый выход в широкий мир. Но полнота ощущения начала новой эпохи еще только ждет его впереди. Об этом он рассказывает в главе «Возвращение» и в заключающей книгу главе.
Мне бы очень хотелось написать о литературном таланте В. В. Шверубовича подробно. О том, например, как из его «первых слов», то есть первыми приходящих на ум, заранее не подчиненных определенной стилистике, формируется у него ясная, крепкая, образная фраза. Как свобода его повествовательной интонации рождает упругие и послушные его настроению ритмы. Как он умеет в нескольких строчках схватить черты и краски времени в облике целого города или даже страны. Как зорко видит в какой-нибудь одной детали внешности внутренний мир человека. Но это превратило бы уже и так растянувшееся предисловие в рецензию. Внимательный читатель оценит все это и без посторонней помощи.
В. Виленкин
Введение
В огромном количестве литературы о Московском Художественном театре есть один пробел: никак не описаны те три года (1919–1922), когда от его основного ядра отделилась большая и очень значительная как по своему творческому, так и по организационному значению группа; эта группа потом называлась «качаловской». Трудности этих тяжелых по многим и разным причинам лет были усугублены отрывом от труппы театра таких нужнейших актеров, как О. Л. Книппер-Чехова, В. И. Качалов, М. Н. Германова, Н. О. Массалитинов, П. А. Бакшеев, И. Н. Берсенев, А. К. Тарасова, таких перспективных деятелей в области режиссуры, как тот же Массалитинов, в области управления театром – как тот же Берсенев, в художественно-постановочной части – как И. Я. Гремиславский.
Этот отрыв вызвал много сложностей для оставшейся в Москве труппы.
В свою очередь, отделившаяся группа прожила эти три года очень сложно, очень трудно, пережила немалое число побед и поражений, познала славу и унижение. В ней выросли и сформировались актерские индивидуальности, она пронесла глубины мысли русской литературы, правду русского театра, аромат мхатовского творчества по всей Европе. Во время скитаний в лучших ее людях окрепла любовь к Родине, к родному театру, преданность его идеалам, готовность отдать себя им. Отрыв от родных корней не вызвал отчуждения от них, а, наоборот, разбередил тягу к ним, сделал стремление к воссоединению с театром мощным и страстным.
След этих лет в истории не только МХАТ, но и всего русского театра глубок и значителен, но если, что касается этих лет в Москве, их история легко поддается исследованию и изучению (есть документы, хранящиеся в архиве МХАТ, есть подшивки газет и журналов этих лет), то о годах странствий группы почти никаких документов не сохранилось. О них, в сущности, почти ничего не известно. Мне казалось необходимым рассказать о них – ведь к середине 50‑х годов нас, участников поездки, в живых осталось всего несколько человек. Сначала я мечтал сделать это вместе с Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, но нам, то ей, то мне, было все время некогда, и мы откладывали это на «следующее лето», пока не стало поздно… Это несчастье заставило меня, пока «не стало поздно» и со мной, взяться за дело одному. Не хотелось допустить, чтобы эти странствия ушли в полное забвение. Думаю, что я не преувеличиваю, и эти три года действительно имеют то значение, какое я им придаю, хотя, разумеется, возможно, что та роль, какую они сыграли в моей личной судьбе и в жизни нашей семьи, отражается на моем восприятии их. Очень трудно при рассказе об исторических (в данном случае историко-театральных по преимуществу) событиях, в которых участвовал сам, сохранить полную объективность оценок. Может быть, некоторое преувеличение значения события сделает описание его более рельефным и четким, а излишки темперамента повествователя будут читателем сочувственно учтены и великодушно прощены.
Начать мы с Ольгой Леонардовной собирались прямо с подготовки поездки, но, когда я стал писать один, мне показалось как-то трудно сделать это без разбега, не сказав о людях, об атмосфере… Приступив к «разбегу», я отходил все дальше и дальше, пока не уперся спиной в первые почти воспоминания, но не первые вообще, а первые театральные, о людях театра. Вот почему получилось, что больше трети книги именно об этом. Это об объеме и построении работы, а о содержании, об основной задаче хочется сказать следующее: больше всего я боялся, вспоминая, воспринимать те события со знанием того, к чему они пришли. Оценивать и их и людей так, как оценил бы их я теперешний… Мне хотелось писать «оттуда» – как будто я нашел записи тех дней. Не знаю, удалось ли мне это; если да, – помогло мне то, что я действительно нашел свой дневник 1919–1920 годов, каким-то чудом уцелевший в хаосе скитаний и переездов. Помогла и специфика стариковской памяти, которой свойственно крепко и ясно хранить давнее и мгновенно терять впечатление вчерашнего дня.
Характеристики некоторых людей определялись моим, нашим (моей семьи и близких ей людей) того времени отношением к ним, реакцией на их тогдашнее поведение, на их поступки в те именно времена. Теперь они самому мне кажутся (и, конечно, покажутся читателю) пристрастными, иногда несправедливыми. Но я сохраняю их, чтобы донести атмосферу, строй мыслей тех лет. То же и в отношениях к событиям: я с трудом сохранил некоторые «восторги», не вычеркнул некоторые «ужасы» – такими дикими они выглядят теперь, когда все это ушло в прошлое и начала стали ясными в свете своих концов, когда даже самым косным из моего поколения стало понятно, «что такое хорошо и что такое плохо».
Я поборол боязнь продемонстрировать свою тогдашнюю политическую слепоту. Зачем? Во-первых, ради правды, из стремления восстановить истинное настроение определенного круга людей той эпохи. Во-вторых, чтобы современные люди, люди второго полувека новой эры, увидели, как трудно нам далось понимание того, что для них несомненность, в чем они выросли с пеленок. Чтобы поняли и осознали ценность добытого муками чувств и трудом мысли. Поняли и выше ценили и крепче любили свою Родину, эпоху, в которую они живут.
Была у меня и еще одна задача. Я очень люблю театральную среду, точнее сказать – люблю актеров. Когда я начинал писать эти воспоминания, мне хотелось предпослать им в виде эпиграфа монолог Несчастливцева из пятого акта «Леса»: «Комедианты? Нет, мы артисты… Мы коли любим, так уж любим; коли не любим, так ссоримся или деремся; коли помогаем, так уж последним трудовым грошом».
Как и Несчастливцев, я отлично знаю все недостатки, свойственные актерам по преимуществу, так же как и те, которые они разделяют со всеми другими людьми, и все-таки считаю, что они не хуже, а часто лучше неактеров. Лучше потому, что сама профессия делает их тоньше, чувствительнее, отзывчивее, понятливее.
Доказать это я не берусь, но сам в это верю крепко и очень был бы счастлив, если бы в это поверили мои читатели. Поверили и полюбили бы наше «сословие».
Первые впечатления
То ли родители меня считали глупее, чем я был, то ли просто по легкомыслию и молодости они не задумывались о том, что можно и чего нельзя говорить при четырехлетнем ребенке, – не знаю. Но говорили при мне обо всем, и я все понимал. Правда, многое, почти все, я понимал навыворот или, во всяком случае, очень неправильно. После полусотни (с большим гаком) лет трудно восстановить в памяти детские представления, но некоторые каким-то чудом еще всплывают в памяти…
Постом в Москву приезжали «на бюро» [1]1
Так называлась актерская «биржа».
[Закрыть]актеры из провинции. Приезжали цветущими, нарядными. Мужчины носили цепочки с брелоками, золотые пенсне, перстни с печатками, щеголяли серебряными портсигарами с массой золотых монограмм, спичечницами с эмалью, тростями с ручками в виде серебряной русалки. Галстуки были заколоты золотыми булавками с жемчужиной или камеей. Рассказывая о своих триумфах, они рокотали хрипловато-бархатными басами и, «скромно» прерывая себя жестом, стучали по столу твердо накрахмаленными круглыми манжетами, в которых позвякивали большие тяжелые запонки.
К нам они приходили с цветами, коробками конфет, щепочными корзиночками с пирожными и птифурами; мне лично приносили какую-нибудь особенную грушу, какой-нибудь «дюшес», причем подчеркивалось: «с твою голову». Женщины звенели браслетами, тонкими пальцами перебирали кольца, из высоких причесок падали черепаховые шпильки («Поклонника потеряете!» – «Ах!» – Страдальчески-загадочные улыбки морщили губы, подтекст: «Не страшно, их столько!..»).
К концу поста все было иначе. Первыми исчезали портсигары, и вместо них появлялись коробки с табаком и бумажками. В эти коробки «рассеянно» клали недокуренные папиросы собеседников. Цепочки на жилетах держались долго, но ни часов, ни брелоков на них уже не было. Запонок и булавок не было видно – их не в чем было носить: не было ни манжет, ни галстуков, белоснежная крахмальная рубашка заменялась черной косовороткой «смерть прачкам». Брились реже (до сих пор помню жгучие прикосновения актерских подбородков к моим щекам), запахи менялись – то, что пахло еще недавно одеколоном, бриолином, вежеталью, начинало вонять грязными волосами, никотином, кислой капустой… Дыхание через желтые, нечищенные зубы распространяло водочный перегар… Голоса не журчали и не рокотали, а с сипловатым свистом сквозь зубы сволочили «мерзавцев» и «подлецов» антрепренеров и «свиней-товарищей»: «Где порядочность, где джентльменство, все проститутки, хамы, кулаки, барышники». Женщины негодовали и, кусая губы, страдали за какую-то Кручино-Байкальскую, которая пала до того, что «виляла задом, и перед кем! Мужик! Прасол!»
В дом ничего не приносили, а иногда забегали перед обедом, пока еще не было ни хозяев, ни, главное, других гостей, и просили у нашей Кати «закусить», чтобы, съев глубокую миску лапши со сметаной, за обедом рассеянно пощипывать хлеб и оставлять на своей тарелке недоеденной рыбу и дичь.
Родители мои сами служили до МХТ в провинции, они понимали, любили своих товарищей и прощали им все. Мне кажется, что они (отец и мать) немного стеснялись своего московского благополучия, своей сытости, «буржуйскости». (Когда я уже позже, в двенадцать-тринадцать лет, спросил отца, к какому классу мы принадлежим, он, подумав, ответил: «Мы – обуржуившаяся богема, разжиревший люмпен-пролетариат».)
Чувство неловкости от спокойной устроенности, так резко отличавшей их от товарищей, которые должны были из года в год искать ангажемент на следующий сезон, толкало их на некоторое «предательство» своего театра. В больших, серьезных вопросах они дорожили знаменем МХТ, не давали его в обиду и поношение никому и ни за что, но в мелочах, во второстепенном, его (театр) оглупляли со смаком. Не было дня, чтобы при возвращении с репетиции они не приносили очередных рассказов-анекдотов. Еще из передней слышалось веселое повизгивание смеха отца и звонкое клохтанье матери – это они переживали очередную аварию «Володи» или оговорку «Кости», как они фамильярно-нежно называли своих глубоко и почтительно любимых руководителей.
Театр любили глубоко и искренне, но смеяться над ним любили еще больше. Особенно когда в период «бюро», то есть в великий пост, дома была хорошая аудитория.
Смеяться они любили очень, любили страстно… Смеялись даже над самым любимым, над самым дорогим… Мне кажется, что они не любили того, над чем нельзя было смеяться. Этот смех был признаком любви, признанием человека человеком. «Не смешной» – было страшной, убийственной характеристикой человека и явления. Смеяться и смешить, смешить не только с целью вызвать смех, что можно сделать и не смеясь, не радуясь самому, а смешить – делиться смешным, делиться радостью, общаться, объединяться в смехе, – это было едва ли не главное в домашне-общественной жизни всей компании моих родителей. Это была компания Художественного театра в основном, но не только.
Гостили (иногда жили по два‑три месяца) провинциальные актеры, некоторые из них раньше бывшие в МХТ. Д. А. Шенберг-Дмитриев (брат А. А. Санина), например, живал у нас подолгу, как у себя дома. Он по первой профессии был врачом-акушером и принимал при появлении на свет меня. Моя бонна-немка (вернее, эстонка, выдававшая себя за немку) называла его: «каспатин, котори родил Дима». Часто живала и В. П. Веригина, которая тоже когда-то была сотрудницей Художественного театра, потом стала снова провинциальной, а потом петербургской актрисой. Оба они, уйдя из Художественного театра, сохранили к нему любовь и, злясь и со смехом злословя про отдельных актеров и актрис, театр в целом и главном чтили и уважали.
Бывали и только провинциальные актеры; один из них, по фамилии Волжанин (это был, по-видимому, псевдоним), и был из тех, кто особенно заметно менял свой облик от первой до седьмой недели поста. Публикой, аудиторией они все были хорошей, и в эти дни и месяцы рассказы, имитации, розыгрыши клубились, перегоняя один другой. Мне кажется, что к посту специально копили, откладывали, сберегали все эти «номера», как называли у нас дома все то, чем можно было рассмешить людей.
В «На дне» есть фраза, которую, прежде чем вложить смысл ее в уста Сатина, Алексей Максимович говорил у нас в доме. Про одного веселого и доброго человека – Б. М. Саблина, юриста, брата книгоиздателя, Алексей Максимович сказал: «Хороший, славный мужик – любит смешить людей, значит, любит их. Славно».
Было в этой среде определение человеческих качеств, которое я никогда и нигде больше не слышал, – это было слово «номерной», «номерная». Это означало способность спеть, сыграть, рассказать, сымитировать кого-нибудь… Про кого-то из актеров говорили: «Глупый, злой, но номерной…», про кого-то: «Барахло, бездарь на сцене, но по номерам – талант».
Надо сказать, что теперь, когда я перебираю в памяти этих людей, мне ясно, что в основном большинство «номерных» людей были и актерами и людьми второго сорта – кроме таких блестящих исключений, как Сулер. Сулером друзья звали (а друзей у него было бесконечно много) Леопольда Антоновича Сулержицкого. Он родился в семье польского мастера-ремесленника на правобережной Украине. В молодости он был матросом торгового флота, ходил в кругосветное плавание на самых разных (и по флагам, и по командам, и по грузу, и по оснастке) судах. Ходил в дальнее плавание и на парусниках. Когда подошел год его призыва на военную службу – он служить отказался. К этому времени он познакомился с несколькими последователями учения Л. Н. Толстого, читал его статьи и, получив возможность побывать у Льва Николаевича, заслужил его пристальное внимание.
Лев Николаевич очень привязался к Сулеру, относился к нему с большой нежностью. Сулер мог бы объявить себя менонитом – была такая секта, которая с очень давних времен, чуть ли не с конца XVIII века, имела высочайше утвержденное разрешение не носить оружия, – но солгать даже во имя соблюдения верности своим убеждениям Сулер не мог и отказался служить, считая, что «христианину этого делать нельзя», то есть объявил этим самым все «православное воинство», все государство нехристианским. За это он был арестован, судим и сослан в Среднюю Азию, в Туркестан.
Там он два года был на каторжных работах.
Рассказы Сулера об этих годах были упоительно интересны, полны наблюдательности, юмора и любви к людям. Потом он по поручению Льва Николаевича организовал дело переселения нескольких тысяч русских духоборов (христианская секта, близкая к толстовцам) в Соединенные Штаты и Канаду. Для этого переселения ему пришлось проделать титаническую работу: арендовать несколько пароходов, обучить команду для них из числа самих духоборов, организовать питание в пути от Батума до Нью-Йорка, медицинское обслуживание, транспорт от порта высадки до места поселения, и, наконец, самое главное, – он получил для них землю, кредит на приобретение живого и мертвого инвентаря, семян, фуража, питания… Руководил ими в постройке жилищ, организации хозяйства, быта, самоуправления, налаживал их взаимоотношения с правительством США и Канады, с переселенческими управлениями, с соседями (а соседями были и фермеры европейского происхождения и полудикие племена американских индейцев).
Всю эту работу Сулер выполнил с честью. Полный веры в свои силы, в свое умение помогать людям, в возможность устроить людям хорошую жизнь, в необходимость этой жизни и, главное, в необходимость работать во имя этой жизни, строить ее теперь же, немедленно, – он вернулся в Россию. Через Льва Николаевича он познакомился с А. М. Горьким, а через него – с Московским Художественным театром.
Моя мать любила рассказывать, как Сулер впервые появился у них в доме. В морозную ночь зимы 1900/01 года после спектакля Василий Иванович вернулся домой с каким-то новым гостем. Кухарка, встретивши их в передней, попыталась снять с гостя пальто, он сначала уговаривал ее, что ему снимать нечего, но так как глухая старуха упорно тянула его за воротник и за рукав, он ловко вывернулся и с веселым хохлацким: «Та нет же, та не дамся я тоби, бабо», – влетел в столовую. На нем была шерстяная, грубой рыбацкой вязки, с высоким воротом фуфайка и куртка, которая заменяла ему и пальто и пиджак…
С улыбкой вошел в нашу жизнь Сулер, «дядя Лёпа», как его звали мы, дети, и с улыбкой сквозь слезы вспоминали его, когда он ушел из нее. Это был человек огромной не только душевной, но и физической силы, невысокого роста, очень широкоплечий, с мощной широкой и мускулистой грудью. Он бегал, прыгал, боролся лучше всех, с кем он на моих глазах соревновался, но особенно хорошо и отважно он плавал. В Алуште, помню, мы (сын Сулера Митя, трех лет, и я, пяти лет) каждый раз начинали скулить как щенки, когда он уплывал так далеко, что исчезал из виду и мы думали, что он уже не вернется. Мне не хочется говорить о его душевных силах – их мощь видна в том, что он сделал для духоборов, и в том, что он сделал в театре: работа над «Гамлетом», «Синей птицей», создание Первой студии…
В доме родителей Сулер был душой и сердцем всех затей, всех шуток и розыгрышей. Он никогда не пил, но всегда был пьяней, веселей, озорней всех самых весело-пьяных. Пел, танцевал, организовывал цирковые номера, сам показывал свою силу и ловкость. Меня поражало, как он, такой маленький, хватал, подкидывал и сажал на плечи таких высоких и плотных людей, как Н. А. Румянцев, например. Непонятным, необъяснимым казалось мне превращение отца в маленького человека, когда он садился «на закорки» к Сулеру и с метлой под мышкой изображал казачью атаку – «разгон студентов у Казанского собора». Студентов (совершенно помимо ее воли) изображала мать, которую они встречали этой атакой, когда она выходила из ванной, и преследовали, несмотря на ее бурные протесты, до тех пор, пока она не выливала и на «лошадь» и на «всадника» по кувшину воды. Отец превращался в мальчика, «как Юрка» (это был мой друг, года на три старше меня), и по росту, сокращение которого благодаря сидению «на закорках» мне казалось чудом, и по возрасту – такими детьми они становились.








