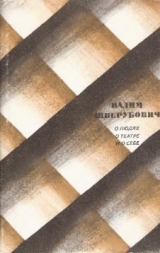
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Но мы-то видели не одну грязь и серость, нет, она только не мешала, не застилала нам (как застилает чужим и своим мещанам) истинной красоты, внутреннего богатства, простора и душевной чистоты нашей страны…
Парадной, торжественной встречи не было.
Приехали мы к вечеру, все актеры были заняты – уже начались спектакли. Поезд наш пришел с опозданием часа на три-четыре. Так что многие из собравшихся встретить разошлись не дождавшись. Но нечего греха таить, было это и намеренно: руководители театра не хотели проявить большой радости и ликования. Не хотели, чтобы «кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали». Помню на вокзале А. В. Агапитову, Лидию Зуеву, стариков Гремиславских, А. К. Книппер (племянницу Ольги Леонардовны), Анну Николаевну (жену) и Марусю (дочь) Александровых. Еще какие-то близкие люди и родственники, но ни речей, ни цветов…
Все быстро разъехались на извозчиках, а может быть, и на автомобилях, не помню. Помню только, что шел я за ломовой подводой, на которой в театр везли багаж всех приехавших. Шел долго, по бесконечной Мещанской, по Сретенке, Лубянке, Кузнецкому мосту. Полок гремел по булыге улиц, в косых лучах вечернего солнца золотилась пыль, звенели и дребезжали московские трамваи. Белая, летняя московская толпа гуляла, лузгая семечки, больше по мостовой, чем по заставленным какими-то лотками тротуарам. Все было не так, как «там», все было по-московски – и люди, шедшие по мостовой, и так по-московски, единственно в мире звеневший ножным (а не электрическим) звонком и завывавший на поворотах трамвай, и кустарные самодельные вывески-картины, и золотой крендель булочной, и свиная голова мясной… А каменные тумбы подворотен и углов переулков… А деревянные мостки у дощатых стен с косым потолком над ними – вокруг редких строек… А круглые тумбы с афишами – мне так хотелось скорее-скорее прочесть их, чтобы узнать, чем живет, какой духовной пищей питается она, моя Москва. Но ломовик орал на меня, чтобы я не глазел по сторонам, а берег кладь: «Это тебе не деревня, московские огольцы лямзить ох и ловки!»
Во двор театра я вошел часу в девятом; у актерского подъезда толпились загримированные актеры – они взволнованно обсуждали недавно закончившуюся встречу «качаловцев» с М. П. Лилиной, И. М. Москвиным, Л. М. Кореневой и другими участниками спектакля «Ревизор», который шел в этот вечер.
«Качаловцев» отправили по квартирам, не дождавшись моего прибытия с вещами, обещав развезти им вещи потом. Ко мне подошел расторопный молодой парень – это был (как я потом узнал) «адъютант» Ф. Н. Михальского Федор Степанович Снетков – и предложил перетаскать «папашины» вещи к нам домой. Тут только я узнал, что мы будем жить не на Малой Никитской, а здесь же, во дворе театра. Это было помещение бывшей дворницкой, квартирка из трех малюсеньких комнат и кухни, с большой русской печью в центре всей квартиры.
Каким-то чудом удалось юному Феде Михальскому расставить в этих микрогабаритах наши огромные вещи с Малой Никитской. Когда я вошел, Василий Иванович и Нина Николаевна, не успев еще оправиться от встречи с театром (двором и зданием его со входами «в контору», «за кулисы»), с некоторыми друзьями и от переезда по Москве, переживали «встречу» с нашим могучим буфетом, с дорогим нашим столом, за которым столько было сижено (и с какими сотрапезниками!), с диванами, кроватями, картинами. С вещами не забытыми, но давно мысленно похороненными, казалось, что ими давно уже топили печи…
Трудно разложить по полочкам, какие встречи были весомее, но и встреча с вещами была волнительна. Менее, конечно, чем со страной, с городом, с Театром, с друзьями и товарищами, – по-другому, но тоже радовало и волновало прикосновение к их теплому, столько раз ощущавшемуся и виденному естеству.
В этот вечер, после ухода сестер Василия Ивановича и племянницы Веры, которые принесли сохраненный ими у себя в Кунцеве (где они жили тогда) минимум посуды, постельного белья и всего, без чего трудно устроить быт и о чем мы, привыкшие за три года к гостиничной жизни, просто забыли, – мы долго не спали и сидели втроем на нашем старом диване красного дерева и вспоминали, вспоминали. Обновляли в памяти все, связанное с этими вещами, – квартиры, людей, события…
Воскресенье ушло на вживание, устройство, притирание себя к новому быту. Быту, очень не похожему на ставший привычным за эти годы.
В понедельник к нам пришел Толя Горюнов (актер Вахтанговской студии, а для нас еще племянник Москвина) и от лица Третьей студии пригласил посмотреть вечером «Турандот» в помещении МХАТ. Он передал привет от Евгения Богратионовича и сказал, что он очень, безнадежно болен, доживает последние дни.
В восьмом ряду были оставлены места для всех нас. Это был первый спектакль, виденный нами в Москве после трехлетнего отсутствия. Какое счастье, что наше восприятие новой для нас Москвы, нового советского театра началось с этого изумительного спектакля! В нем была вся свежесть, вся бесконечная талантливость, тонкость и чистота, присущие русскому искусству. Чистота мысли, чистота чувств… Это бескорыстная, искренняя игра в театр, игра детей, в которой каждый ребенок неповторимо гениален.
И в то же время это был самый «европейский» спектакль из всех, виденных в Европе. Как изумительно изящен и элегантен был Завадский, с какой утонченно мужественной грацией носил он фрак! Куда венским и берлинским театральным «фатам» и «героям-любовникам»!.. А прелестная женственность Мансуровой, а платья Ламановой, ведь они были не то что модны, они были впереди европейской моды. Могли ли мы думать, что юноши здесь умеют так благородно носить фраки, а девушки – «туалеты»? А милая, полудетская прелесть дзанни… До чего же это было хорошо!
«Турандот» была первой страницей той волшебной книги, которую мы получили возможность перелистывать в ту светлую весну. За ней шла веселая, острая, прелестная «Анго», потом «Узор из роз» во Второй студии, где так волнительно было видеть повзрослевших и так актерски выросших друзей и подруг Финочки из «Зеленого кольца» и молодежи из «Младости»; смелый, умный, глубоко современный «Эрик XIV», после которого весь модернизм Берлина показался подражательным, искусственным и вымученным по сравнению с внутренне оправданной смелостью М. А. Чехова, С. Г. Бирман…
А «Федра» в Камерном? А «Ревизор» с гротесковым и в то же время абсолютно живым Москвиным – городничим и фантастическим, неправдоподобно истинным Хлестаковым – Чеховым? А «Евгений Онегин» в Оперной студии К. С. Станиславского в Леонтьевском переулке?.. Все яркое, полноценное, настоящее, органичное, принципиальное и, главное, чистое. Чистое до последней капли. Все было разным, все было не похожим одно на другое, но всех объединила эта удивительная чистота, бескорыстие искусства. Здесь не было ни коммерческого меркантилизма, ни снобизма, ни оригинальничанья – всего того, на чем держался театр буржуазного Запада. И благодаря этому все спектакли казались сияющими, как снеговые вершины.
На «Турандот» Щукин в одной из интермедий приветствовал наших: он протрещал языком телефонный звонок, поднял воображаемую трубку и, разглядывая сидящих в восьмом ряду Василия Ивановича, Николая Григорьевича и других, рассказал «собеседнику» про них, что они хорошо выглядят, что у них добрые лица, что им, наверно, нравится спектакль… Весь зал захлопал, наши встали и кланялись во все стороны. Это была их первая встреча с московской публикой, встреча теплая и сердечная. После нее на душе у них стало спокойнее, и они с меньшей тревогой ждали встречи с Москвой со сцены.
Первым из вернувшихся выступил в театре Петя Бакшеев – 27 мая он сыграл Пепла в «На дне». 29‑го – в большом понедельничном концерте, в котором Константин Сергеевич играл сцену из «Штокмана», впервые выступил Василий Иванович. Он читал речи Брута и Антония из «Юлия Цезаря». Волновался исступленно, успех имел громадный.
«Легенда о Качалове» не рухнула.
Каково же было потрясение Василия Ивановича и участников концерта, когда после его окончания на сцену вышел Владимир Иванович Немирович-Данченко и сообщил публике и участникам, что скончался Евгений Богратионович Вахтангов…
Первого июня Василий Иванович, Александров и Бакшеев играли «На дне». Пятого июня в концерте на сцене МХАТ впервые выступила Ольга Леонардовна – читала «Рассказ г‑жи NN» Чехова. А в воскресенье 11 июня впервые на сцене МХАТ вел концерт-спектакль я. Гремиславский приступил к работе в качестве художника и заведующего постановочной частью, Нина Николаевна репетировала «У жизни в лапах» с новыми исполнителями.
Вот так мы все и втянулись в работу и зажили нормальной московской жизнью. А вместе с трудом, работой пришло и ощущение правомочности, закономерности нашей жизни в Москве и на родине. Во многом пришлось перестроиться, от многого отвыкнуть, ко многому привыкнуть. Но отвыкать надо было больше от плохого, а привыкать больше к хорошему. Его было больше, чем плохого. Москва этих дней, первого лета нэпа, была полна противоречий. Открывались кафе, рестораны, начал действовать тотализатор на бегах, в саду «Эрмитаж» появилась рулетка с двумя «зеро» (когда выпадает «зеро» – выигрывает собственник рулетки). На Тверской и Неглинной табунчиками стояли «букашки» (проститутки). Как в Берлине. Но если там все это было естественным, органичным, неотъемлемым свойством жизни, то здесь это была легкая накипь, пена. Чуждо было все это самой сущности советской жизни.
«Там» это было основой жизни, это был быт. Здесь все эти нэпачи, кутившие в «Не рыдай», были лишь эпизодом. Типична же была босая девушка на концерте в Консерватории, которая два дня не обедала, чтобы купить себе не туфли («А что, теперь лето!»), а билет на концерт. Вот такая девушка была только здесь и нигде в другом месте быть не могла. Я сидел рядом с ней, и мне было неловко за свой «европейский» крахмал и лаковые «джимми». «Там» в театр ходят из снобизма, а здесь такие, как эта девушка, делают искусство достойным того, чтобы отдать ему жизнь.
Как-то поздно ночью, возвращаясь от Эфросов, мы с отцом и матерью шли по щербатым торцам плохо освещенной Тверской. Было пусто и тихо. Откуда-то издали слышался голос, читавший стихи. Его перебил другой, третий. Они приближались, догнали, потом перегнали нас… Это была стайка молодежи, видимо, рабфаковцы или вузовцы. «Нет, вот что послушайте: „Я знаю: век уж мой измерен; но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я“. Слышишь, Катя?» Они засмеялись, посыпались веселые, смешливые реплики. Последнее, что мы слышали, когда они уже завернули за угол, был «Левый марш» Маяковского, который они чеканили хором: «Левой, левой, левой» – доносилось уже еле слышно, издалека…
Василий Иванович остановился, помолчал и чуть охрипшим голосом сказал: «Слыхали? Вы понимаете, какое счастье, что мы вернулись?»
Алексинское лето
Но вот и кончился этот наш искус врастания в жизнь новой Москвы. Кончился вместе с казавшимся таким длинным театральным сезоном 1921/22 года. В этом сезоне у нас было так много: и Моисси, и Михаил Чехов, и Фритци Массари, и «Анго», и голодная, шиберски-спекулянтская и одновременно революционно накаленная Германия, и сытая, благополучная Скандинавия, и, главное, потрясение обретения Родины и чудо встречи со старым, истинным, вечно новым и юным МХТ, и «Турандот»… И все‑все это невиданное, небывалое, романтическое и поэтическое, даже в нищете великое, что мы встретили, обрели в новой, советской Москве.
Василия Ивановича пригласили погостить у них Эфросы. Они жили вместе с руководимым Н. А. Смирновой и В. Н. Пашенной курсом Школы Малого театра в уютном городке Тульской губернии – Алексине на Оке. Там ученики Школы и отдыхали, и репетировали, и раза по три в неделю играли спектакли своего школьного репертуара. Василий Иванович взял с собой меня, а я посоветовал ехать туда моему товарищу по гимназии, тогда актеру Художественного театра А. М. Тамирову, который охотно согласился и позвал с собой В. Л. Ершова.
Довольно противным было наше путешествие до Алексина, проделанное нами в кишевшем клопами бывшем международном вагоне, в других купе которого ехала целая компания деревенских спекулянтов, прасолов-гуртоправов. Они пригнали в Москву целый гурт овец, удачно его продали и теперь бесшабашно пропивали свои миллионы и миллиарды в вагоне-ресторане, вернее, вагоне-кабаке. Василий Иванович попытался было войти туда, чтобы выпить стакан чаю, но застал там всеобщую потасовку – арендатора этого заведения, жирного буфетчика, группа посетителей прижала к стойке, и один из «клиентов», долговязый парень в широких оранжевых галифе и ночных туфлях, хлестал по физиономии огромной селедкой, держа ее за хвост.
Ночь была тяжелая, бессонная, но зато утро нас вознаградило за все. На алексинском вокзале, вернее, маленькой провинциальной станции, мы наняли извозчика, оказавшегося завзятым театралом, отлично знавшим всех актеров театра, – знал и «тетю Надю» (Н. А. Смирнову), и «самого Смирнова» (Н. Е. Эфроса), и «Веру Николаевну» (В. Н. Пашенную), и еще многих, кого мы не знали, а он называл по именам: «Николай», «Ира», «Федя»…
Городок был небольшой, мы быстро его миновали и подъехали к Оке. Было раннее утро. В реке купался целый табун лошадей. Верхом на могучем вороном жеребце в воду въезжал совершенно голый, золотисто-рыжий, стройный, как молодой бог, юноша. Василий Иванович даже привстал с сиденья, так красив был этот всадник, так прекрасна была вся картина. Наш извозчик завертел фуражкой и завопил отчаянным голосом: «Севка, эй, Севка! Я к вам в гости хороших людей везу!» «Севка», не обращая на него никакого внимания, направлял своего фыркающего коня в самую глубину реки… Это, как мы потом выяснили, был Всеволод Аксенов. В рыжий цвет были выкрашены его волосы, так как он снимался в кино.
В пригородном лесу стояло с десяток деревянных дачек, когда-то принадлежавших алексинским и даже тульским богачам, теперь в них жили наши друзья – Грибунин с Пашенной, Эфрос со Смирновой, а три-четыре дачи были заселены студийной молодежью.
На самой опушке леса был выстроен летний театр с крошечной сценой и со зрительным залом мест на двести – двести пятьдесят. В одной из дачек на террасе была организована общая столовая. Эта терраса и была местом всех собраний, и деловых и веселых, на ней создавалась будущая Студия Малого театра, существовавшая с 1925 по 1936 год.
Встретили Василия Ивановича восторженно, а при нем – и меня тоже очень приветливо. Молодежь, составлявшая этот курс, эти студийцы, были очень сложным и интересным организмом. Они казались очень дружным и крепко спаянным коллективом при соприкосновении с внешним миром и в то же время были раздроблены, разъединены на отдельные группы и течения, то не принимавшие, то осуждавшие, то восхвалявшие другие группы или личности. Причем эти комбинации личностей и течений все время изменялись.
Были тут и чисто актерские взаимоотношения – зависть к выдвигающимся удачникам, непризнание одними талантов товарищей, не обоснованные способностями претензии других (вернее, тех же: бездарности претендовали на получение того же, что получали не признаваемые ими таланты). Были и любовные сложности и даже драмы: юноши и девушки влюблялись и разлюбляли, были безнадежно влюбленные, были и холодно безлюбые, были покинутые и страдавшие от этого, были страдания ревности и оскорбленные любовные самолюбия. Было все, что бывает в молодом, тесно объединенном коллективе. Несколько пар уже сошлось в браке, несколько уже разошлось… Но главным в их жизни был, несомненно, театр. Даже и романы и браки зарождались почти всегда на сцене – отношения сценические продолжались и в жизни.
Театр был центром не только для студийцев и для их руководителей, он был центром и для всего городка. Так же как уже знакомый нам извозчик, всех актеров знали все в Алексине. Знали и посещали все спектакли, и не по одному, а по два‑три раза. Публика состояла не только из алексинской служащей интеллигенции, из торговцев, кооператоров, железнодорожников, но и из пригородных полумещан-полукрестьян, огородников и скотоводов, птицеводов и их жен. Считаясь с последними, спектакли начинали обычно после того, как коров пригоняли домой и подоили, иначе зрительницы устроили бы у входа скандал. Часто можно было услышать под аккомпанемент зирканья молочных струй о подойник переклички со двора на двор о том, что сегодня дают в «киатрах» и кто лучше играет в «Даме из Торжка» – Половикова или Цветкова, а Луизу Миллер – Ничке или Артемьева.
Мы, четверо мхатовцев, сразу и с головой погрузились в эту жизнь. Сначала только смотрели спектакли и репетиции, но очень скоро вошли в работу. Василий Иванович, не признававший за собой способностей, а значит, прав режиссера и педагога, впрямую никого не учил, никаких замечаний не делал, советы давал самые осторожные – по поводу грима, костюма, манеры его носить, вообще манер и осанки, но влияние его, значение его в художественной жизни этой молодежи было и при этом его невмешательстве не меньшим. Он действовал на них самим своим существом, своей влюбленностью в поэзию, в слово. То, чтоон им читал, влияло на их вкус, вступало в борьбу с плохим вкусом части руководителей тогдашнего Малого театра; то, какон им читал, зарождало в них стремление к правде, к настоящей высокой и умной простоте, от которой было очень далеко (и от правды и от простоты) то, чему они учились у многих (правда, не у всех) своих учителей. А читал он им долгими вечерами, иногда целыми короткими летними ночами. Читал Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Блока, Ахматову, Волошина, Есенина. Играл целые сцены из «Горя от ума» (один и за Фамусова, и за Скалозуба, и за Чацкого), из «Гамлета», «Карамазовых», «Бранда», «Леса». Слушателями студийцы были прекрасными, а это вдохновляло его и придавало ему силы и поражающую неутомимость. Начиналось это чтение почти после каждого позднего (послеспектакльного) ужина и продолжалось часто до рассвета. Но этими чтениями деятельность Василия Ивановича не ограничилась. Через две‑три недели он сыграл с молодежью ряд сцен из «Леса».
Василий Иванович всю жизнь мечтал о роли Несчастливцева, много раз принимался работать над ней, и тут наконец его мечта осуществилась. В этой работе у Василия Ивановича сложились с молодежью удивительно гармоничные взаимоотношения. Если благодаря ему у них пробуждалось стремление к правде, к глубине, к уходу от актерских штампов, от того плохого, что бывало в Малом театре, то они, в свою очередь, своей молодой театральностью, некоторой приподнятостью, праздничностью пробудили в нем молодого, казанского Качалова. Он с удовольствием открыл какие-то клапаны, туго завинченные в нем годами работы в МХТ, – он перестал бояться некоторых «плюсиков», некоторого пафоса, приподнятости. Он, говоря языком провинциальных актеров, нашел настоящий тон, тот, в котором он мог играть в этом ансамбле без диссонанса, без дисгармонии.
Володя Ершов и Аким Тамиров, оба выросшие в МХТ и не мыслящие для мхатовского актера никакой иной, кроме мхатовской, манеры, услышав Василия Ивановича на репетициях «Леса», только переглянулись, пожали плечами, а в антракте растерянно обратились ко мне: «Что это твой-то, какого дрозда дает, зачем это он под них-то шпарит?» Недоволен был и абсолютный художественник В. Ф. Грибунин. Он просто обозвал Василия Ивановича (как это было свойственно Грибунину) самыми нецензурными словами. Но спектакль и Аким, и Володя Ершов, и даже Грибунин смотрели с настоящим волнением, и после спектакля Аким, как самый непосредственный и пылкий, со слезами на глазах мычал со свойственным ему армянским темпераментом: «М‑м‑м‑м, до чего же здорово, колоссально, слушайте, братцы мои, товарищи, как, оказывается, можно играть! Вот что значит настоящий театр!» И пристал к тоже взволнованному, но молча сопевшему Грибунину: «Дядя Володя, а Старик (Константин Сергеевич) такое, как Василий Иванович делал, принял бы, а? Или разнес бы в пух? А я думаю, принял бы, а?» И Владимир Федорович как-то неожиданно огрызнулся: «А почему бы и не принял? Он все хорошее принимает, это вы, щенки, из него пугало сделали…» И пошел, тяжело сопя (у него была тяжелая эмфизема) и не то напевая что-то, не то бормоча какие-то считалочки.
Я хочу отвлечься от своего повествования, чтобы рассказать здесь же об этом удивительном человеке.
Владимир Федорович Грибунин был одним из самых красочных явлений в Московском Художественном театре. Очень многие, в том числе Василий Иванович, считали его самымталантливым актером Художественного театра. Тогда еще в употребление не вошел (по крайней мере у нас) термин «органика», «органичность», поэтому не хочется его применять, вспоминая актеров того времени, но, когда я теперь слышу, что про кого-нибудь говорят «он так органичен», я про себя добавляю: «как Грибунин». Он был так удивительно насыщенно прост, бытовой тон (говоря языком Малого театра, где он учился) был для него естествен, давался ему легко, без всяких приспособлений и усилий. Я совсем ребенком видел его в Осипе («Ревизор»). Когда он просыпался на кровати и смотрел в сторону зрительного зала, глаза у него были такими сонными и бессмысленными, он (Осип) с таким трудом осознавал действительность, переходил от сна к бодрствованию, не сулившему ему ничего хорошего, – это было и жалко и безумно смешно, по залу прокатывался легкий смешок, переходивший в хохот. Когда Осип, окончательно проснувшись, опять закрывал глаза и перебрасывал свое неуклюжее, тяжелое тело на другой бок, пытаясь опять уснуть, все, ну буквально все его тело выражало такую тоску, такое голодное озлобление, что к началу текста зритель уже был подготовлен и сочувствовал Осипу.
Нельзя было не чувствовать с Грибуниным, не становиться на его точку зрения, не входить в его положение, каких бы подлецов он ни играл, каким бы омерзительным поведение его персонажа ни было. Играя, например, Фурначева («Смерть Пазухина»), он был всегда субъективно прав, он был подлецом, убежденным в своем праве на подлость. Да Фурначев и не считал подлостью то, что было ему выгодно. Грибунин разоблачал своих «героев» именно тем, что был абсолютно искренне правым во всей подлости своих действий (Фурначев), убежденно, уверенно, лениво-сонно-глупым (Курослепов), всегда был, всегда поступал, действовал, никогда не изображал. Этого, конечно, полагается ожидать от каждого хорошего актера МХТ, но в такой степени, как у Владимира Федоровича, этого ни у кого не было. Вернее сказать, бывало лишь в моменты вершин их достижений, их мхатовских постижений вершин «системы», «школы», – а у Грибунина не бывало, не могло быть иначе. Но в то же время он не был способен ни на какой взлет, ни на какой отрыв от бытовщины, от русского быта. Даже в маленькой роли антиквара Гислесена («У жизни в лапах») он казался торговцем из Гостиного двора, а не из Христиании и тянул к российской «развесистой клюкве» весь этот в остальном такой вполне европейски-корректный спектакль.
Еще больше, пожалуй, чем непобедимый, неустранимый бытовизм, в его актерской карьере ему мешали лень, нелюбовь к репетиционной работе и циничное неверие во всякие искания, всякое новаторство режиссеров. Насколько он купался в роли на спектакле, легко и изящно живя в образе, настолько же он мучительно переносил репетиционный процесс. Особенно невыносимы были для него разговоры по поводу образа, задачи, сверхзадачи, сквозного действия. Он все время бормотал что-то, совсем не относящееся к пьесе и режиссерской экспозиции ее, пел про себя частушки или просто ругался себе под нос, едва шевеля губами, но так, что ближайшие к нему слышали и с трудом сдерживали смех. Он портил атмосферу репетиции, делал ее скучной и бессмысленной, но, когда доходило до его места, он мгновенно делался серьезным и с такой полной отдачей всех сил, всего таланта, с такой правдой действовал, что многие репетировавшие до него и с ним казались плоскими схемами рядом с живым, трехмерным, полнокровным существом. И все-таки режиссеры, даже самые большие, дорожа атмосферой репетиционного процесса, часто задумывались, прежде чем дать ему роль.
Алексинская молодежь очень ценила его неожиданный грубоватый юмор, очень прислушивалась к его критическим замечаниям, которые он делал неохотно, только тогда, когда мог их сделать кратко и метко, в одном слове или в лаконичном предложении по большей части непристойно-юмористического характера.
Меткость его афоризмов и кличек была такова, что они прилипали к актеру или целой сцене, а то и ко всему спектаклю так, что потом их и с кожей нельзя было отодрать. На нового человека удручающе действовал его лексикон, в значительной степени состоявший из непристойностей, но они не запоминались, а запоминалось то, что этим лексиконом выражалось: глубокое и тонкое понимание настоящей правды в искусстве.
Таким противоречивым существом, таким полным неожиданностей художником был этот замечательный актер.
Другой алексинский патриарх – Николай Ефимович Эфрос – был от «Леса» в восторге, он собрал всех участников спектакля, да и не только их, и произнес целую речь о синтезе двух систем, об эпохальном значении этого спектакля. Он был по-отечески увлечен, влюблен в талант актрисы, игравшей Аксюшу, а немного и в самую актрису – Надюшу Артемьеву. Василия Ивановича же он любил и как актера и как человека уже чуть не двадцать лет; может быть, от соединения этих двух привязанностей и произошло некоторое преувеличение, как любил говорить Василий Иванович, «экзажерация» его восторгов.
Но всем нам и спектакль и устная рецензия на него любимого и чтимого всеми Николая Ефимовича доставили огромную и горячую радость. Николай Ефимович был для всей этой молодежи самым дорогим человеком. Очень любили его и мы. За три с чем-то года (мы с 1919 года его не видели) он основательно изменился. Он и постарел и отяжелел, но в чем-то стал смелее, открытее и этим моложе. Как будто он, потеряв свою осторожность ответственного сотрудника «Русских ведомостей», стал свободнее, откровеннее, горячее. Его чуть косо расставленные прекрасные, грустные, иногда озорные, но всегда добрые еврейские глаза смотрели на окружающих, как будто искали в каждом самое лучшее, что в нем есть, и непременно находили, выявляли это лучшее. Борода у него стала белая, широкая, плотная, совсем библейская. Большой гладкий нос удивительно чисто, невинно и молодо выглядывал из густой растительности. Ходил он немного кособоко – одно плечо выше другого и как-то по диагонали, как будто шел не туда, куда смотрел и куда хотел идти…
Еще проще, еще лаконичнее и прозрачнее стала его философия и эстетика. Теперь принадлежность к определенной общественной группировке, связанность с миросозерцанием прежней среды не существовала более. Все это рухнуло вместе с крушением старого общества. Исчезла и среда, исчезли и люди – умерли, эмигрировали, спрятались. Эфрос остался один среди совсем новых людей – среди театральной и околотеатральной молодежи. И полюбил эту молодежь, актеров-студийцев, как никогда никого не любил. Прежде он много общался, дружил с актерами, увлекался ими, критиковал их, то превозносил, то ниспровергал. С ним очень считались, его боялись, в зависимости от его рецензий то уважали (когда хвалил), то презирали (когда ругал), но он не был своим, он был выше ли, ниже ли, но в стороне. Теперь он был среди них, внутри них, он был их дедом, дядей, может быть, даже дядькой, он отдался им, он питал их, он стремился разделиться на тысячи частей, чтобы как можно большему количеству людей отдать как можно больше себя. Он жил только ими и Надеждой Александровной. Да, это было одно: для него они были неотделимы от Надежды Александровны.
Над ним посмеивались – и над его увлечением то одной, то другой актрисой, и над его слишком уж сервильной преданностью Надежде Александровне, за которой он ходил как нянька, не брезгуя никакой самой грязной и унизительной (разумеется, с точки зрения пошляков) работой.
Но и смеясь над ним, его любили, уважали, его мнение, его решение никогда не подвергалось никаким сомнениям.
Он был абсолютным и непререкаемым авторитетом и во всем, что касалось театра и всех видов искусства и литературы, и в вопросах морали и норм поведения. Он критиковал молодых любовно, очень остерегаясь поколебать в них актерскую веру в себя, ощущение себя на месте на сцене; но бывал и гневен, даже свиреп; остерегаясь повредить им как актерам, он совсем не боялся обидеть их – это было невозможно, для этого они слишком были уверены в его любви. Он критиковал их не только как актеров, но и за их семейную жизнь, за то, как они ухаживали, как проявляли свою любовь. Все в них было ему важно, вся их жизнь, все их поведение – ведь из этого строились, созидались они – артисты, художники. Да, он был удивительным человеком, другом и наставником их. И как необходим такой наставник молодому актерскому коллективу! Молодежи будущей Студии Малого театра в этом отношении повезло.
В ночь после спектакля «Лес» мы долго сидели на заветной террасе, пили чай, и опять Василий Иванович читал усталым, чуть охрипшим голосом «Ненастный день потух», и «Я вас любил», и «Я вас люблю», и письмо Онегина. И Клава Половикова пела свои роковые романсы, вроде «Раз пришла домой хмельная я…», а Наташа Цветкова – лирические частушки. И были мы все влюблены, и до зари ходили берегом Оки парами, сидели на ее высоком берегу, пока сияние луны не сменялось светом раннего утра…
Утром, когда я тихо-тихо пробирался к своей кровати, стараясь раздеться и улечься, не разбудив Василия Ивановича, он неизменно сквозь сон говорил свое обычное: «Нашлялся, сукин кот? Никто тебе физиономию не набил, донжуан сопливый? Допишешься!» Я отмалчивался, тихо хохотал и, сладко потягиваясь под одеялом, засыпал.
В это лето мы с отцом как-то уж очень крепко подружились. Возникла особенная, одновременно и мальчишеская и мужская дружба. Он сжился со мной, вернее, даже вжился в меня. Он вместе со мной переживал мои сердечные, любовные дела, видимо, получал от них удовольствие – и от сходства их с его молодыми романами, и в качестве сочувствующего наблюдателя, и, главное, от участия в них… Да, он в них участвовал, путая, вернее, отождествляя себя со мной; мои похождения и смешили и то радовали, то огорчали его. Мои влюбленности он переживал и прочувствовал вместе со мной, как будто принимая в них непосредственное участие.
Он так близко, так ясно понимал, ощущал меня, что без моих рассказов знал, что я сказал, что сделал, что мне говорили и что и как получилось. Мне он об этом прямо не говорил, но по отдельным его словам, даже больше по интонациям и междометиям я чувствовал его полное знание всей моей жизни, всего со мной происходившего. Мы много говорили по ночам, куря в постелях еще и еще «одну последнюю» папиросу. Их огоньки то гасли, то разгорались снова, освещая часть его руки или нос и брови… Когда у одного загоралась спичка, другой жмурился от казавшегося после темноты очень ярким света и призывал кончить разговоры и спать наконец. Но в темноте глаза раскрывались, и разговоры разгорались снова.








