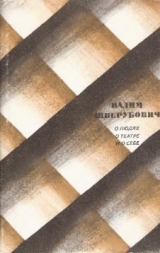
Текст книги "О людях, о театре и о себе"
Автор книги: Вадим Шверубович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
… Наступление кончилось. Началось мотание вдоль фронта в поисках возможности прорыва. Потом прекратилось и это, и, так как армия была главным образом конная, а кавалерия к обороне приспособлена плохо, началось отступление. Да и невозможно было обороняться в условиях враждебности населения. Как только части остановились и особенно когда пошли назад, белая армия оказалась буквально в окружении: кроме волостных старшин, хуторян-кулаков, немцев-колонистов, отдельных священников – все были против нее, все ее активно ненавидели.
Крестьяне в деревнях в белом тылу были объедены, ограблены, перепороты; горожане унижены, замордованы, обворованы. Сначала солдаты говорили: «А ну ее, эту голодную „кацапию“, кому она нужна… Вот Украину мы Советам не отдадим!» Но не удержались и на границах Украины.
Армия начала рассыпаться. Таяла она и в боях, и от тифа, и главным образом от дезертирства. Отступили за Харьков – исчезли все харьковские, прошли Лозовую – не осталось ни одного из екатеринославских, и так далее. Дивизию свели в дивизион. Всю армию переименовали в отряд. У нас от эскадрона осталась горсть в восемь человек. Офицеры уезжали в командировки («за ремонтом», «за пополнением», «за огнеприпасом») и не возвращались.
Я давно бы сбежал, но в тылу у белых были мои родители – отступая, я приближался к ним. Кузнецов обещал мне отпуск или командировку туда, где они. Дезертировав или перебежав к красным, я только отдалил бы или сделал невозможной встречу с ними, а я их, как всегда в разлуке, любил исступленно и о свидании мечтал до замирания сердца.
Вообще же я окончательно утвердился в том, что «вандея» должна быть и будет разбита.
Бои шли на юге Области Войска Донского, где-то в направлении на Таганрог, перед которым мы как-то бестолково мотались. Что произошло, я не знаю, ведь солдат редко понимал обстановку, но вечером нас, уже расположившихся на ночлег на окраине какого-то большого села, подняли по тревоге, приказали седлать и выводить. Вахмистр подъехал ко мне (уже это было тревожно – почему не подозвал?) и тихо сказал: «Все кругом драпанули, мы последние, будем уходить на Ростов. Ты останешься замыкающим тылового дозора, должен ехать за отрядом верстах в двух; если учуешь красных – езжай до едущего впереди, пусть скачет до следующего, а сам ехай тихо, чтобы чуять красных за собой, я тогда связного подошлю».
Отряд наш (сабель сто двадцать – сто пятьдесят) протянулся мимо меня, я стоял у крайней хаты. Было совсем темно. Скоро я перестал слышать шлепанье и скрип копыт по грязи и щебенке. Постоял еще с полчаса и поехал вслед за ними. Конь мой (это был уже не Башкир, его я оставил на хуторе около Лозовой с растрескавшимися копытами), трехлетний жеребчик, просил повода – его тянуло к лошадям, дорога еще пахла недавно прошедшей конницей, он нет‑нет да переходил на рысь, – и я с трудом удерживал его на шагу. Было совсем темно – южная зимняя, хмурая, бесснежная ночь, – только чуть-чуть поблескивали кое-где грани щебня разбитого шоссе.
В далеком уже селе лаяли собаки, не взахлеб, как когда входит войско, но все-таки тревожно. С каждой минутой мне делалось все страшнее и страшнее. Мне представлялось, что пешая разведка беззвучно пластуется по обочинам дороги, и вот‑вот они с двух сторон схватят коня под уздцы и сорвут меня с седла. Ведь снизу им меня на коне виднее, да и слышно моего Серого за версту; а мне за его казавшимися очень громкими, скрипучими шлепками шагов ничего не слышно…
Серый тоже волновался и шагал все быстрее и шире, незаметно он перешел на рысь: охваченный и подавленный страхом, я перестал его удерживать и, не успев опомниться, услышал россыпь шагов и увидел впереди силуэт всадника. Это был вахмистр. Какими только словами он не поносил меня! И заяц-то я трусливый, и подлец-предатель, и… Ну, словом, не было оскорблений, которые бы он ни выкрикнул мне в лицо.
Оказалось, что я был единственным из тылового охранения, который хоть в какой-то степени выполнил приказание – вся цепочка раньше меня присоединилась к отряду. Гнев вахмистра рос с каждым догонявшим, и на меня обрушился его максимум, так как он, видимо, надеялся, что хоть я как-то застрахую тыл…
«Поезжай обратно, и чтобы до утра я тебя не видел, следуй в версте за мной, догонишь – застрелю».
Опять я остался один. Все дальше и глуше был перестук копыт впереди, и нарастал поток непонятных и пугающих звуков сзади. То ли небо просветлело, то ли я присмотрелся – стал видеть всю бесконечную пустоту степи.
До самого горизонта не было видно ничего – ни дерева, ни бугра, ни хаты… Такая меня охватила жуть одиночества, такой тоскливый страх, что я даже перестал бояться нападения – лучше драться, удирать, стрелять, может быть, даже быть убитым, чем вот так ехать, беззвучно выть от тоски, скрипеть зубами от ужаса. И тут, очевидно, я задумался, заслушался своих мыслей, своей внутренней тревоги, перестал прислушиваться к звукам колонны, может быть, даже на какое-то время потерял сознание…
Очнулся я в полной, такой же как пустота, тишине. Остановил коня, слез, лег на землю – ничего, тишина… Я понял, что сбился с дороги: подо мной была уже не щебенка шоссе, а мерзлая пыль наезженного проселка. Это было совсем уже катастрофой. Стоять на месте нельзя – схватят красные. Ехать? А куда? Тоже к ним можно попасть. Если бы я ехал на Башкире, достаточно было бы дать ему волю, и он бы вывез меня к своим, но этот дурак Серый сильно проголодался и только к траве тянулся…
И тут уже меня охватило полное, паническое отчаяние, которое не оставляло меня всю ночь. И всю ночь я ехал на усталом, голодном, спотыкающемся коне, ехал и, несмотря на тоску и ужас… засыпал, видел какие-то сны про себя и про эту бесконечную ночь. Снилось мне, что я просыпался, подъезжал к какому-то одинокому хутору с колодцем, у которого баба, черпавшая бадьей воду, поила моего коня, и я сам пил какую-то сухую, дерущую горло воду… Просыпался уже на самом деле, каким-то чудом держась почти лежа на шее у пасущегося коня. Ехал дальше, выбирая направление наугад, намечая себе какой-нибудь ориентир – куст чертополоха, еле видневшийся на фоне неба, кучку земли около ямы-воронки от снаряда, может быть, казавшейся мне темнее, чем покрытая старой белесой травой остальная почва, и все мне казалось, что пространство впереди растет, а сзади уменьшается, что ехать мне до любого рубежа дальше, чем я проехал уже.
Все было наоборот. Конь шел вперед, и земля из-под его ног уходила тоже вперед. Возможно, что я, постоянно засыпая и просыпаясь, видел уже не те предметы, к которым направлялся, а другие. Потом, после многих просыпаний из странных и все тех же путаных снов, после поворотов неизвестно куда, я увидел, что начинает светать.
Теперь я ориентировался уже по чуть просвечивавшей сквозь хмурое небо заре и поехал на восток. Когда совсем рассвело, передо мной обозначилась глубокая и расширяющаяся вдаль балка и в ней большое село. Я стал осторожно подбираться к нему, не по дороге, а по тропке, круто спускавшейся к огородам. У колодца с журавлем возилась, выливая воду из бадьи в ведра, баба, такая же точно, какую я видел, просыпаясь из сна в сон, и я боялся снова проснуться в степи. Я заговорил с ней, и мой голос показался мне чужим и странным. Она сказала мне, что в селе еще с вечера стоят солдаты – «таки злы, та дурны, с погонами… як у вас». Тогда я выехал на улицу и подъехал к дремавшему у церкви дневальному. Выяснилось, что в селе ночевали остатки конно-горной батареи, входившей в одно с нашей частью соединение.
Моя часть вошла в село через два часа после меня. Каким образом, сбившись с пути, блуждая по степи всю ночь, я обогнал ее, до сих пор не понимаю.
Где-то сзади нас остатки пехотных офицерских полков еще вели бои, пытаясь сдержать Красную Армию, рвавшуюся к Ростову.
«Поход на Москву», да и вообще все деникинские авантюры провалились. Все шло к концу. Многое со мной было до этой ночи, немало и после нее, но я и так слишком отвлекся от моей основной темы, надо возвращаться к ней.
Закончу коротко: на рождество я приехал в Ростов в составе квартирьерской команды, чтобы подыскать дом и конюшни для наших частей, но 26 декабря белогвардейские части, еще находившиеся в Ростове, были разбиты окончательно.
Красная Армия ворвалась в город, и мы «драпанули» через Дон в Батайск и дальше на Кубань. Там я заболел возвратным тифом и чуть не умер. Во время третьего приступа болезни меня привезли в Екатеринодар. Об этом напишу дальше.
По югу России
По окончании харьковского сезона почти все члены группы отправились в Крым. Большинство поселилось в Евпатории, в частном санатории «Светлана». Несколько человек – Орлова с Бакшеевым, Павлов с Греч, Комиссаров и Александров – жили под Евпаторией, в том месте, где Сулер когда-то мечтал организовать актерскую трудовую «коммуну». Но как далеки были теперь эти актеры от тех, кого он мечтал там поселить, и, главное, от того, какими он мечтал, чтобы они были…
Да, и люди были другими и вся атмосфера была не только не похожей, она была глубоко враждебной той, какую мечтал создать Сулер. За время, прошедшее после его смерти, война, революция и контрреволюция сделали этих людей совсем другими. Каким смешным и нелепым чудаком выглядел бы теперь среди них Сулер! Какие-то воспоминания о его заветах, его воспитании еще сохранились, но о них говорили как о чем-то отошедшем в далекое, далекое прошлое. И все-таки совсем бесследно это не прошло: вспоминая оставшихся в Москве товарищей, скучая о них, говорили о том, что все-таки, если где-нибудь во что-нибудь высокое верят, то это там, в Москве, в родном театре. Там еще помнят о великих идеях МХТ, там есть еще искусство и там помнят Сулера.
О Сулере вспомнил и я, когда на тридцать шесть часов попал в Евпаторию.
15 (28) августа был полковой праздник Стародубовского драгунского полка. Наш сводный полк решил отметить этот день, большим пиром. Для праздника нужно было вино, и в очень большом количестве. Водку достали – подожгли винный склад с заготовленной еще при гетмане Скоропадском «горилкой» и, «самоотверженно борясь с огнем», унесли со склада около шестидесяти ящиков этой самой горилки. Но хотелось, чтобы было элегантно – с вином и фруктами.
Один из наших офицеров был крымчанином, ему дали денег, нужные бумаги и команду из четырех драгун и приказали без сорока-пятидесяти ведер вина не возвращаться.
Одним из этих «лихих драгун» был я.
Когда мы приехали в Симферополь, где и надо было добывать вино, меня на полтора суток отпустили, чтобы я повидал родителей.
Поздно вечером я вылез на евпаторийском вокзале, спросил о пансионе «Светлана» – оказалось, что это версты за три-четыре от вокзала. Когда я наконец добрался до парка «Светланы», было уже двенадцать часов ночи. Я перелез через ограду и начал ходить под окнами отдельных вилл, из которых и состоял этот санаторий. Почти везде было темно. В одном из домов, в первом этаже, довольно высоко над землей, горел свет. Я подошел к этому дому, но звать, кричать стеснялся. Ведь хоть я и был драгун, но все-таки мне еще не было восемнадцати лет и я был очень стеснителен, даже робок. Заглянуть в окно с земли я не мог, но, увидев поблизости садовый столик и кресло, я взгромоздил кресло на стол, влез на него и… – господи, до сих пор не могу вспомнить этого без волнения… – увидел отца. Он сидел за столом и, сняв пенсне, низко пригнувшись, писал что-то в своей записной книжке. Так же точно, как он сидел, бывало, тогда, в той ушедшей счастливой, блаженной московской жизни, за своим московским столом. Я тихо сказал: «Вася», он не услышал, видимо, от москитов окно было закрыто, да и море шумело неподалеку. Бросить в окно мне было нечем, и я вынул шашку – не дотянулся, снял ножны, надел их на шашку наполовину, потянулся, рискуя упасть, и достал. Стукнул… Он поднял голову, я сказал опять: «Вася… Это я, Дима». Он вдруг поднял голову к потолку и начал щипать себя за шею, за руки, за грудь. Потом взглянул в окно и, видимо, что-то увидел, но не к окну направился, а от него, пятясь и продолжая щипать себя. Тогда я уже громко сказал: «Это я, живой, я, Дима». Тогда он приложил лицо к стеклу и увидел меня.
Потом он говорил, что уж очень страшно было, что я был на такой высоте и в воздухе – ведь моего сооружения не было видно.
Я соскочил, он выбежал мне навстречу, разбудил мать. Эту ночь мы трое не спали ни минуты. А на другой день было полное счастье. Белоснежные дома санатория, синее небо, синее море, чистые, нарядные, красивые, загорелые люди, ласковые женщины, белые скатерти, дыня на фаянсовом блюде с серебряным ножом, золотое вино в хрустальных бокалах. Ванна, штатское платье, купание в море. Боже мой, как прекрасна эта жизнь! Без вшей, без грязи, вони и хамства. И вот – день без ужаса этого. День в кругу самых лучших в мире людей, самых красивых женщин. Как мне хотелось бы остаться здесь! Нет, даже не здесь, а там, в глуши, где были только навесы у моря, там, где Сулер хотел создать свою «коммуну», жить в самом тяжелом, но чистом и свободном труде.
Но прошла еще ночь разговоров и слез, и на рассвете я на извозчике уехал на вокзал…
Надо было приехать с отвратительного бандитского фронта, чтобы так оценить эту жизнь, как я. А на самом деле отец и вся группа жили плохо, как-то уже очень нескладно.
Жили не настоящим, а смутным ожиданием какого-то изменения, какой-то перемены в своей судьбе. Жили как на даче, но дачная эта жизнь излишне и неестественно затянулась. Материально жили неплохо: Берсенев был великолепным хозяином, как только становилось туго с деньгами, организовывался либо спектакль, либо концерт, а то и два и три. Общая касса пополнялась, и на марку выдавалась приличная сумма денег.
В самой Евпатории играли 9 и 10 июля «Дядю Ваню», 11 июля – концерт, 28 и 29 августа играли в Симферополе «Дядю Ваню», 30 и 31 августа – концерт, 1 сентября «Дядю Ваню», 2 сентября – концерт. На этом закончили евпаторийское житье и переехали в Гурзуф. Оттуда ездили в Севастополь, где 4 и 5 сентября дали два концерта. Ездили в Ялту, где играли 10 и 11 сентября концерт, 25 и 26 – «Дядю Ваню» и 30 сентября – концерт. В общем в Гурзуфе жили с 6 сентября по 17 октября.
В основном группа жила там на даче Ольги Леонардовны и на соседней. Жили коммуной, деньги от концертов Берсенев выдавал на марки не все, а только часть, как бы на карманные расходы, а на остальные питались и оплачивали квартиры. Даже вино покупали сообща, прямо бочонками.
Было грустно, тревожно. С октября фронт покатился к югу. О возвращении в Москву уже не могло быть и речи. Это стало, кроме всех прочих соображений, технически невозможно. Василий Иванович и Нина Николаевна тосковали обо мне – я был на фронте, и с моего августовского приезда в Евпаторию они ничего обо мне не знали. Слухи обо мне доходили до группы скверные – были «очевидцы» моей «гибели». До родителей эти слухи не допускались, но по намекам, по тому, как обо мне избегали вспоминать, они понимали и чувствовали, что со мной плохо.
Племянник Ольги Леонардовны, которого она любила больше всех на свете, тоже пропал – о нем не было никаких сведений. Концерты и спектакли в белом тылу, посещавшиеся и восторженно принимавшиеся высшим белым командованием, окончательно скомпрометировали группу, и вернуться в Москву, а особенно остаться в каком-нибудь городе, если его захватят красные, казалось каким-то безумием. От этого тоже было тоскливо, безнадежно.
Много пели, в группе были хорошие голоса и музыкальные люди, очень подружился с ними молодой композитор Якобсон. Василий Иванович часто и много читал. Почти каждый вечер собирались все вместе, читали, пили, пели, плакали и опять пили… С каждым днем все меньше верили в победу белых, да и не хотели этой победы – уж очень страшен, дик, безыдеен, глуп и подл был белый тыл. Те, кто был посильнее и вооружен, грабили где только и кого только могли. «Зажал», «получил от благодарного населения», просто «грабанул» – эти «термины» были на устах всех фронтовиков, да и не только фронтовиков – в тылу эти «герои» тоже устраивали «зажимы»: объявляли кого-нибудь побогаче подозрительным, чаще даже не его самого, а его прислугу, производили обыск, после которого хозяева не досчитывались сапог, белья, посуды, кожаной обивки с мебели и т. д. Иногда нападали на какой-нибудь дом, другие вступались, защищали его и прогоняли напавших, но и те и другие крали в доме все, что можно было. Никто этого не скрывал – офицеры традиционных полков приносили в комиссионные магазины (а они во всех городах Юга России были на каждом шагу) туфли, ложки, белье. Вольноперы же и юнкера не стеснялись торговать награбленным даже и на рынке.
Невооруженные – чиновники, служащие, те, кто не мог грабить, – воровали и торговали всем, чем можно, включая и себя, и своих жен и дочерей. Все копили бриллианты, золото, часы – все, что могло иметь ценность при всех режимах и во всех странах. Эмиграции еще не было или почти не было, но мысль о том, что эмиграция из России неизбежна, уже крепла в головах так или иначе связанных с белыми обывателей. А это были чуть ли не все жители Юга России, бежавшие туда из Советской России. Да и из местных какая-то часть интеллигенции была так или иначе замарана – печаталась в контрреволюционной прессе, служила на предприятиях, в учреждениях, театрах, лазаретах, больницах у белых. Иным не хватало гражданского мужества отказаться, другие поначалу от ненависти к большевикам готовы были простить белым все и охотно шли к ним работать. Да и простили бы, если бы те победили! Но битые грабители никому не были нужны. Надеялись только на иностранную помощь, на англичан, французов, даже на греков и румын. Пусть приходят, пусть обращают в рабство, только бы защитили от «ужасов красной мести», от «расправы чека». Но бывшие союзники присылали обмундирование, причем главным образом размеров либо на карликов (ботинки и сапоги номеров 37 и 38), либо на великанов (номера 45 и 46) и такие же шинели, френчи и брюки. Прислали десятки тысяч бамбуковых пик, железных палашей в железных же ножнах. А пулеметы системы Виккерса без патронов и лент; наши же ленты и патроны в них заедало. «Скорострельные» пушки Гочкис времен чуть ли не бурской войны, мулов, которые не умели ходить по льду и снегу, а ведь приближалась зима. И так во всем. Мулов либо «загоняли» армянским и персидским купцам за сомнительную валюту, которая была все же надежнее «колоколов» (купюр, печатавшихся в Ростове-на-Дону), либо резали на шашлыки.
Все было очень скверно и ухудшалось изо дня в день.
У наших иссякли деньги, а играть в Крыму было бесполезно – в нем сидели зимой только совсем уже безденежные люди. Основная масса беженцев с севера подалась либо в Ростов-на-Дону, либо в Одессу, а то и на Кавказ. Ростов считался очень «нетеатральным» городом. Одесса же очень хорошо принимала Художественный театр в 1913 году, и там театр помнили и любили. Леонидов съездил туда и договорился о гастролях в городском театре с 25 октября по 23 ноября, то есть на целый месяц.
18 октября погрузились в Севастополе на плохонький пароходик общества «Кавказ и Меркурий» и 19‑го высадились в Одессе.
Репертуар был пока тот же, с которым выехали из Москвы, но, так как в труппу вошла молодая, но уже завоевавшая в Москве большую популярность актриса Алла Константиновна Тарасова, изменился состав «Вишневого сада» – Аню стала играть она. Это было, конечно, несравненно лучше, чем Краснопольская. Не думаю, чтобы она нашла что-нибудь новое и для спектакля и для себя лично – играла она ту же Финочку из «Зеленого кольца» Гиппиус, которой она дебютировала и прославилась во Второй студии. Но почему бы и Ане не быть такой же чистой, честной, требовательной к себе и другим, чуть надломленной и разочарованной в жизни девушкой, как Финочка? Барышни-дворянки, выросшей в собственном имении, в Алле Константиновне не было. Ну а в ком, кроме, может быть, Лилиной, которую я не помню, она была? Во всяком случае, уездной мещаночкой, какой была Краснопольская, Тарасова не была.
Берсенев с целью застраховаться на случай болезни или ухода Василия Ивановича и вообще не желая «одно-актерской» труппы, задумал поставить с участием Тарасовой «Осенние скрипки» И. Д. Сургучева. Пьеса плохая, но имевшая даже в Москве большой успех у невзыскательной части публики, должна была иметь в провинции еще больший успех. Распределялась она отлично: Ольга Леонардовна – жена (ее роль в московской постановке), Массалитинов – муж (вместо Вишневского), Берсенев – любовник (как и Ольга Леонардовна, основной исполнитель), вместо Ждановой – Тарасова в роли Верочки, воспитанницы, впоследствии невесты любовника.
Начали репетировать. Массалитинов увлекся и ролью и режиссурой, но сыграли всего шесть раз – Тарасова по семейным обстоятельствам больше, чем на год, ушла из труппы.
Жилось в Одессе плохо. Город был перенаселен. В нем скопилась масса беженцев из занятых Красной Армией городов, тыловые учреждения белой армии, да и из Крыма все перебирались в Одессу.
Все время что-то не ладилось с городским хозяйством, то не было воды, то света. Были дни, когда Василий Иванович, который часто болел и не мог ходить мыться в театр, как это делали в дни нехватки воды остальные, умывался боржомом.
Жили мои родители у Тамары Дейкархановой, которая вышла в Одессе замуж за инженера С. А. Васильева. У них было две комнаты, в которых приютили и моих. Василий Иванович очень этим мучился, он бы предпочел жить в гостинице, но обидеть самого близкого друга нашей семьи он не смог. Жили тихо и довольно мрачно, было очень холодно – конец октября и ноябрь в Одессе время холодных ветров и дождей. Обо мне сведений не было – наш полк в тяжелых боях отступал из-под Курска через всю Украину и Донбасс к Таганрогу. Никаких отпусков не было – значит, не было оказий для писем. В тылах у белых начались восстания – развернули «боевую деятельность» разные «батьки» – и Махно, и Шуба, и Ангел, и много других…
В группе возникла мысль уехать за границу. В Одессе впервые родилась мысль о славянских странах. В Софии главным режиссером Государственного драматического театра был Исаак Эзрович Дуван-Торцов, старый киевский антрепренер и режиссер, который несколько лет служил в МХТ актером. В Сербии тоже нас любят… Но конкретно туда никто не приглашал. Кроме того, ехать куда бы то ни было за пределы России категорически отказывался Василий Иванович. Он и особенно Нина Николаевна верили, что я жив, и надеялись, что я доберусь до них.
Когда в Одессе стало совсем уже скверно, отправились в Ростов-на-Дону. Дорога до Ростова была первым соприкосновением группы со всеми ужасами железных дорог в тогдашнем белом тылу. В Новороссийске, до которого добирались по бурному ноябрьскому морю на отвратительном, грязном пароходе, провели ночь на вокзале. Ростов встретил скверно – театр, который арендовал Леонидов, был превращен в сыпнотифозный госпиталь. Город буквально кишел вшами и поголовно бредил в сыпном и возвратном тифу.
Кое‑как расселились по квартирам друзей Художественного театра. Мои жили на фабрике «Жесть» у неких Рысс, знакомых с Василием Ивановичем еще по Вильно.
Для спектаклей сняли маленький театр, пригодный для театра миниатюр, а не для драматического театра. Играли только спектакль-концерт. Зато выросла труппа: в Ростове в группу влилась одна из лучших актрис Художественного театра – Мария Николаевна Германова. Кроме того, М. М. Тарханов, о работе которого в группе договорились еще летом в Харькове, теперь окончательно вступил в труппу вместе со своей женой – Елизаветой Феофановной Скульской. Он был замечательным и очень нужным группе актером – он мог и играть все роли И. М. Москвина, и быть хорошим Фирсом, и Кулыгиным («Три сестры»), и стариком Гиле («У жизни в лапах»), и Мамаевым («На всякого мудреца довольно простоты»).
Скульская была в состоянии вполне удовлетворительно заменить ушедшую из группы В. Н. Павлову в ролях характерных старух. Павлова со своим мужем, профессором Цингером, уехала за границу, кажется, в Германию, где ему предложили серьезную научную работу.
Двенадцатого декабря выехали в Екатеринодар. Это был тихий, очень провинциальный город, в то время превратившийся в столицу с двумя «правительствами»: кубанской радой и деникинским главным командованием. В начале января Красная Армия заняла Ростов, и фронт был уже недалеко отсюда, но здесь было сравнительно спокойно.
С 27 декабря начались спектакли. В роли няньки в «Дяде Ване» впервые была занята Е. Ф. Скульская. Это было очень провинциально, но крепко. Как водится, с грустью вспоминали Павлову… Второго января 1920 года в Епиходове впервые выступил в спектакле группы М. М. Тарханов. Он был до жути похож на Ивана Михайловича. Не знаю, видел ли он Москвина в этой роли или это было что-то родственное, но он и трюки и фортели брата проделывал почти так же, как тот. В группе ему были очень рады, хотя и критиковали его за штампики, провинциализм, наигрыш.
Третьего января сыграли премьеру – «Осенние скрипки» с Орловой – Верочкой. Против спектакля и вообще-то очень многие возражали, считая пьесу пошлой и дурнотонной, а уж против постановки ее с Орловой поднялся было ропот всеобщий, но Берсенев категорически требовал спектакль «без Качалова» – он не хотел быть от него в зависимости. Орлова была прелестна как Дуняша, она подходила и к девке в «Гавани», и даже сцену в «Мокром» в качестве Грушеньки не портила, но шестнадцатилетняя гимназистка ей была не под силу. И голос, и фигура, и вообще вся ее индивидуальность были сугубо женскими, а не девическими.
Группа роптала, а спектакли шли и шли с огромным успехом. Попасть на «Осенние скрипки» было почти невозможно. Особенный успех спектакль имел среди коренных екатеринодарцев: откуда-то возникла убежденность, что автор описал действительную историю, происшедшую в Екатеринодаре.
Двадцать восьмого января сыграли «У врат царства» с Элиной – Германовой. Она играла совсем иначе, чем Мария Петровна Лилина. Это звучит парадоксально, но то, что репетиции «Врат» шли параллельно с работой над «Карамазовыми», очень отразилось на том, какою была Элина у Германовой. «Инфернальность», озорство, отчаянность Грушеньки как-то перешли на ее Элину. Она была очень чувственной, очень страстной, ее красное платье последнего акта было пожаром. Женщина, почувствовав себя желанной, запылала и «горит алым пламенем ненасытного вожделения». Может быть, для Гамсуна это самое важное, но у Марии Петровны этого не было. Элине – Марии Петровне лестно внимание Бондезена, она так почти по-детски радовалась ему, но страсти, вожделения в ней не было… Вероятно, Германова была больше гамсуновская, больше Эдварда (из «Пана»), да больше и Элина из «Драмы жизни». Но как забыть, насколько милее, чище, ближе к нам и, главное, больше под стать тому Карено, которого создал Василий Иванович, создал Художественный театр, была Элина – Мария Петровна.
Я воспринимал и женское обаяние и глубину понимания гамсуновской чувственности и не столько мудрой, сколько умствующей философии, которую исповедовала в этой роли Германова, но люблю больше воспоминание о милой крестьяночке, может быть, немного даже мещаночке, простой, очень нашей Элине – Лилиной. Ей можно было простить ее измену, Германовой – нет. Но это так, околокулисные размышления…
Спектакль шел хорошо. Василий Иванович, которому надоело однообразие и скудость репертуара, играл Карено – одну из любимых ролей – с большим удовольствием. Профессора играл Шаров. Как и все, что он играл, это было грамотно, профессионально, но не талантливо. Берсенев играл Иервена. Он был по-настоящему нервен, желчен и зол. Был, пожалуй, самым живым человеком из всего своего тогдашнего репертуара (кроме Петра Верховенского, которого играл, говорят, исключительно хорошо).
С Массалитиновым – Бондезеном дело обстояло неважно, он был живым, достоверным, но очень уж некрасивым и, главное, неэлегантным. Не помогал ни наклеенный орлиный нос (гуммозу на него шло граммов пятьдесят), ни парик жгучего брюнета. Так что поверить в его увлекательность и мужское обаяние было решительно невозможно. Ингеборг – Крыжановская была, как всегда, очень настоящая, живая и даже трогательная. Только с юмором у нее было, как всегда, слабо. Она его плохо чувствовала и плохо передавала.
Буквально через день была следующая премьера – 30 января были сыграны «Братья Карамазовы». Спектакль шел по инсценировке Вл. И. Немировича-Данченко, но со значительными сокращениями. Играли, конечно, в один вечер: 1) «За коньячком», 2) «Обе вместе», 3) «Мокрое», «Допрос», 4) «Последнее свидание», 5) «Кошмар», 6) «Суд». Несмотря на все сокращения, спектакль продолжался почти четыре часа. Ведь «Мокрое» с «Допросом» шло больше часа, «Кошмар» – больше получаса. Состав был следующий: Чтец – Бертенсон, Федор Павлович – Павлов, Дмитрий – Бакшеев, Иван – Качалов, Алеша – Комиссаров, Грушенька – Германова, Катерина Ивановна – Орлова, Смердяков – Шаров, Григорий – Тарханов, прокурор – Массалитинов, адвокат – Берсенев, следователь – Васильев, исправник – Александров. Оформление было очень близко к московскому, только специального занавеса не было, и чтец читал при открытом занавесе и затемненной сцене.
Я думаю, что, если бы специально поставить перед театром задачу – найти самого неподходящего для передачи Достоевского чтеца, решить ее лучше, чем использовав для этого Бертенсона, нельзя было. Сухо, скучно, формально, с внутренним отвращением, брезгливостью к тексту докладывал он его, как чиновник докладывает своему начальнику об окончании годового отчета. Это было грамотно, отчетливо, но так скучно!.. Отца Карамазова Павлов играл крепко; может быть, только в нем мало было барина, скорее, уж он был лавочник, буфетчик… Но сцену с рассказом о «мовешках» и о своей покойной жене с ее иконой он вел так, что мороз по коже подирал. «Карамазовщину» в нем надо было додумать, довоображать, но это было нетрудно, и его внешний образ и пропитавшее его, правда, не карамазовское, не «инфернальное», а скорее, арцыбашевское сладострастие помогали поверить в его Федора Павловича. Он очень долго бился над гримом, париком, никак ему не удавалось из своей здоровой, крепкомясой физиономии сделать «римлянина времен упадка». Так и не удалось до конца, хотя и то, что получилось, было неплохо, потому что достаточно омерзительно.
Бакшеев – Дмитрий совершенно откровенно копировал Л. М. Леонидова, и, так как у него был широкий, размашистый русский темперамент, искренность, страсть, мощный и горячий голос, да еще хорошая сильная фигура и молодость, получалось хорошо. Конечно, страшного трагизма леонидовского «узко, узко!» не было, не было и многого, очень многого другого, от чего рыдали мужчины и бились в истерике женщины, когда кончал последнее слово подсудимого Леонидов, но все-таки было много и хорошего.








