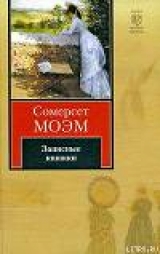
Текст книги "Записные книжки"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
* * *
Неаполитанский залив, разыгрался шторм. Неаполитанцы изрыгали в море горы непереваренных макарон, изрыгали внезапно и дружно, будто прорвало магистральную трубу; их разинутые рты придавали им глуповатый ошалевший вид вытащенной из воды рыбы; но их-то, в отличие от рыбы, не стукнешь ведь по голове, чтобы положить конец мучениям. Да и стукнуть нечем.
* * *
Полагаю, что нашим представлением о святости домашнего очага мы обязаны евреям. Именно в семье находили они покой и отдохновение от сумятицы и гонений окружавшего их мира. То было их единственное прибежище, и они любили его, любили по слабости своей. У древних греков, похоже, семейной жизни не было вовсе. Никто никогда не упрекал их в привязанности к домашнему очагу. Исполненные сил, нетерпения и радости жизни, как, пожалуй, ни один другой народ за всю историю, они считали мир полем боя; шум битвы, победные клики и даже стоны побежденных казались им музыкой. Они отдавались перипетиям жизни с тем же самозабвением, с каким бесстрашный пловец бросается в бурные волны.
* * *
Одно из наиболее распространенных заблуждений человеческого ума состоит в уверенности, что правило непременно распространяется на все случаи без исключения. Но возьмем пример из анатомии. В восьми случаях из двадцати артерия ответвляется в средней части корня легкого, в шести – в верхней и в шести – в нижней. Правило же, несмотря на количественный перевес исключений, гласит, что артерия ответвляется от грудного отдела аорты в средней части корня легкого.
* * *
Те остатки ума, что не растрачены на самосохранение и воспроизводство рода, большинство людей используют препос-тыдным образом.
* * *
Я вполне допускаю, что, достигнув достаточно высокого уровня цивилизации, человечество по собственной воле вернется к варварству; или же откатится назад просто от неспособности поддерживать достигнутый высокий уровень.
В жизни все лишено смысла, боль и страдания бесполезны и бесплодны. Никакой цели у жизни нет. Ничто, кроме продолжения вида, не имеет в природе значения. Но не покоится ли последний опрометчивый вывод на чересчур краткосрочных наблюдениях, сделанных невооруженным глазом, который видит лишь то, что рядом?
* * *
Пусть смерть укроет мою жизнь вечным мраком.
1897
Одухотворенность человека особенно бросается в глаза, когда он с аппетитом обедает.
* * *
Т. стоял на вокзале; к нему подошла женщина и сказала, что когда-то она попала под суд, где Т. выступал обвинителем и проявил при этом такую доброту, что ей хотелось его поблагодарить. Но более всего ей хотелось уверить его в своей невиновности. А Т. не мог даже вспомнить ее лицо. То, что для нее явилось трагическим и мучительным испытанием, для него было всего лишь ничтожным происшествием, которое он вскоре позабыл.
* * *
Лодочник, промышлявший на Темзе перевозом, влюбился в одну девицу, но за отсутствием денег не мог ее никуда сводить повеселиться. Как-то он заметил в воде человека, едва подававшего признаки жизни; однако за спасение живых денег не полагалось; подцепив крюком одежду утопающего, он втащил того в лодку. Когда тело выгрузили на берег, кто-то из зевак заметил, что бедняга еще не совсем захлебнулся. Лодочник набросился на того зеваку, понося его последними словами. Перевернув утопленника лицом вниз, он умело не дал тому очухаться. В результате он получил положенные пять шиллингов и смог повести свою ненаглядную в кабачок.
* * *
Три женщины предстали перед полицейским судом. Все они были шлюхами. Две крепкие и здоровые, а третья умирала от чахотки. У двух здоровых водились деньги, и они отделались штрафом, но у третьей не было ни гроша. Приговор третьей: две недели заключения. Спустя недолгое время обе ее товарки явились снова: несмотря на стужу, они заложили свои жакетки и уплатили за подругу штраф. «Мы ее до самой смерти не оставим», – заявили они и втроем вернулись в бордель. Целый месяц они ухаживали за умиравшей девушкой; наконец, она скончалась. Оплатив похороны и купив по венку, те две надели новые черные платья, наняли извозчика и отправились за похоронными дрогами проводить подругу в последний путь.
* * *
Женщина сидела, глядя на пьяного в стельку, распластавшегося на постели мужа; в тот день была двадцатая годовщина их брака. Выходя за него замуж, она думала, что будет счастлива. Но жизнь с бездельником, пьяницей и грубияном оказалась исполненной тягот и мук. Женщина прошла в соседнюю комнату и приняла яд. Ее отвезли в больницу Св. Фомы и вернули к жизни, а потом в полицейском суде обвинили в попытке самоубийства. Она не проронила ни слова в свое оправдание, но тогда встала ее дочь и рассказала о мучениях, которых натерпелась мать. Суд вынес решение о раздельном жительстве супругов, присудив женщине еще и содержание в пятнадцать шиллингов в неделю. Подписав документ о раздельном жительстве, муж выложил пятнадцать шиллингов со словами:
«Вот тебе денежки на первую неделю». Схватив монеты, жена швырнула их ему в лицо. «Забирай свои деньги, – не своим голосом закричала она, – верни мне мои двадцать лет!»
* * *
На днях я пошел в операционную, чтобы посмотреть, как пройдет кесарево сечение. К нему прибегают не часто, и операционная была полна народу. Прежде чем приступить к делу, доктор С. произнес небольшую речь. Я слушал не очень внимательно, но, помнится, он отметил, что операции эти редко проходят успешно. Еще он сказал, что больная никак не может разродиться естественным путем, ей уже дважды приходилось искусственно прерывать беременность; но забеременев снова, она твердо решила рожать, хотя доктор С. объяснял ей, какой опасности она подвергается: шансов выкарабкаться у нее было не больше, чем умереть. Она, тем не менее, заявила, что готова пойти на риск. Ее муж тоже очень хотел ребенка, и это обстоятельство, видимо, также имело для нее большое значение. Операция вроде бы прошла прекрасно, доктор С, сияя, благополучно извлек ребенка. Сегодня утром я зашел в отделение и спросил у одной из сестер, как себя чувствует роженица. Сестра ответила, что она ночью умерла. Сам не знаю почему, но эта новость меня глубоко поразила; я сильно нахмурил брови, опасаясь расплакаться. Это было бы нелепо, ведь я даже не был с нею знаком, один раз видел на операционном столе. Думаю, на меня сильно подействовало страстное желание той женщины, обыкновенной больничной пациентки, родить ребенка; желание столь сильное, что она с готовностью пошла на страшный риск; ее смерть показалась мне жестокой, ужасно несправедливой. Сестра сказала, что ребенок чувствует себя хорошо. Бедная женщина.
* * *
Cri du coeur [4]4
Крик души (фр.).
[Закрыть]никогда не остается без ответа, хотя, как ни странно, он вовсе не всегда исходит из души; достаточно лишь убедительно симулировать его, и дело в шляпе.
* * *
Большой званый обед – это возможность предаться удовлетворению заурядных плотских аппетитов.
* * *
По воскресеньям дважды в день приходский священник толковал наиболее доступные места из Священного Писания; в течение минут двадцати он оделял свою неотесанную паству банальными суждениями, излагавшимися на низкопробной смеси цитат из Библии начала семнадцатого века и газетных штампов. Священник обладал редкой способностью горячо и пространно растолковывать вещи, очевидные самому недалекому уму. Свое красноречие он тратил на две регулярно чередовавшиеся темы: нужды бедных прихожан и нужды самой церкви. Он видел прямую связь между религиозными догматами и необходимостью раздобывать свечи для освещения алтаря и уголь для отапливания ризницы. А потому по воскресеньям он взял себе за правило выпалывать греховные ростки ереси, разъясняя своей многоумной пастве, состоявшей из деревенских невежд с детьми, самые темные места, касающиеся отношений между Богом-Отцом, Богом-Сыном и Святым Духом. Но с особым жаром изливал он испепеляющий гнев свой на лживых отступников: атеистов, папистов, сектантов, ученых. В своем презрении к теории эволюции он с трудом сохранял серьезный тон; перечисляя постулаты философов и мудрецов, он разметывал их, точно кегли, доводами своего не знающего страха и сомнения разума. Все это могло привести к весьма опасным последствиям, не будь прихожане неколебимо убеждены в истинности веры отцов, да к тому же крайне невнимательны к его проповедям.
1900
Когда сорокалетняя женщина говорит мужчине, что годится ему в матери, ему надо немедленно спасаться бегством, иначе она либо женит его на себе, либо измучит бракоразводным процессом.
* * *
Всегда следует культивировать собственные предрассудки.
* * *
Корнуолл.Ветер поднимал морскую воду чуть ли не с самого дна и темными глыбами обрушивал на скалы. Над головой тоже все было в безумном движении, истерзанные тучи неслись по ночному небу под свист, шипение и вой ветра.
* * *
Клочки разорванных туч мчались в вышине, словно натерпевшиеся мук безмолвные души, на которые обрушился гнев Бога-ревнителя.
* * *
Вдалеке простонал гром, одна за другой упали первые капли дождя – словно Божьи слезы.
Ветер был подобен возничему колесницы; напрягая все мускулы, лошади бились в постромках; возничий яростно ожег их кнутом, они вихрем понеслись вперед, и утреннюю свежесть прорезал долгий пронзительный вопль, будто объятые ужасом женщины пытались спастись от неминучей беды.
* * *
Я брел наугад; от мягкого грунта, изрезанного сотнями извилистых ручейков и покрытого бурым ковром палой листвы, исходил дух влажного перегноя, чувственный аромат нашей матери-Земли, во чреве которой беззвучно зарождалась жизнь. Ноги мои путались в длинных ветках шиповника. Там и сям, в тенистых уголках, зацветали примулы и фиалки. Чернели тонкие веточки бука, покрытые молодой, только распустившейся листвой, яркой и нежной. Настоящий изумрудный рай. Глаз был не в силах проникнуть сквозь этот замысловатый зеленый узор. Филигрань, опутавшая хрупкие веточки, была изящней, чем блеск листвы в летний дождь, изысканней, чем закатная дымка. Она так же не поддается описанию, как прекрасная в своей неизреченности мысль. От этого зрелища отлетали печальные думы о бренности жизни. А зеленый цвет был столь чист, что ум мой тоже очистился, и я ощутил себя почти ребенком. Кое-где вздымались над другими деревьями ели, невероятно высокие и прямые, как безупречно прожитая жизнь; и одновременно угрюмые, холодные, молчаливые. Слышалось лишь, как копошится в палых листьях кролик или скачет резвая белка.
Вечером, после дождя, раздался такой веселый птичий хор, что невозможно было думать о земле как о юдоли печали. Скрытый листвою, на макушке бука во весь голос распевал скворец; ему подсвистывали снегирь и дрозд. На дальней луговине бесконечно твердила свое кукушка, и откуда-то из-за леса вторила ей еще одна.
* * *
Грин-парк зимой.
Шел снег, легкий, как шаги ребенка. Снег прикрыл аккуратные дорожки, окутал белым саваном истоптанную траву, кругом, куда ни глянь, снег – на крышах, на деревьях. Над головой низко нависло небо, отяжелевшее от жестокой стужи, дневной свет стал серым и тусклым. Замерцала длинная цепочка круглых фонарей, в безлистых ветвях деревьев запуталась лиловая мгла, шлейфом зимней ночи плыла она вдоль самой земли. От пронзительного холода все другие цвета поблекли, только мгла лиловела, изысканно нежная, но холодная, холодная до того, что терпеть эту стужу было почти не под силу усталой душе. На фоне снежной белизны грозными темными громадами высились дома на Карлтон-Хаус-Террас. День истаивал в призрачной тиши, и даже закатное солнце не пробило пелены туч. Свинцовое небо потемнело; окруженные бледным ореолом, ярче засияли фонари.
* * *
Лондон.Закатные облака походили на исполинское крыло архангела, летящего в поднебесье свершать возмездие; и его тень с огненно-красным отливом бросала на город зловещий свет.
* * *
Зеленый луг, как золотой парчой, был сплошь покрыт лютиками – словно расстелили ковер для королевской дочери Лилии и белотелого пастушка Нарцисса.
* * *
Поверх макушек деревьев, цепляясь за голые ветви, плыли тонкие темные тучки, похожие на лохмотья какого-то просторного замысловатого одеяния.
Тонкие темные тучки тянулись сквозь вершины деревьев и, цепляясь за голые ветви, рвались в клочья.
* * *
Невесомо парящий в воздухе океанский буревестник.
* * *
Темные недвижные тучи громоздились гигантскими горами; очертания их были столь отчетливы, столь округлы, что почти можно было различить отпечатки пальцев, оставленные могучим скульптором.
* * *
Несколько высоких елей сошлись потесней, угрюмые и мохнатые; серебристая дымка окутывала их темно-зеленые лапы, будто изморозь сотен зим обратилась летом в холодный туман. Перед елями, на гребне горы, по склону которой дружными рядами взбирались сотни сосен, тут и там распускались дубы, их, словно невесту молодого бога, окутывала фатой молодая листва. Деревья эти являли собой разительный контраст – как день и ночь; и неувядаемая молодость дубов подчеркивала вековечную старость елей.
* * *
Ели напоминали лес нашей жизни, тот серый угрюмый лабиринт, где блуждал певец Ада и смерти.
* * *
На полях зеленела высокая молодая весенняя трава, над нею, легкомысленно позабыв о жестоком холоде ночи, красовались и радовались солнцу веселые лютики, как перед тем радовались живительному дождю. На маргаритках еще сверкали его благодатные капли. Мимо проплыл, несомый легким ветерком, пушистый шарик одуванчика – символ человеческой жизни: послушный любому дуновению, бесцельный и бесполезный; нет у него иного предназначения, кроме как рассеять свое семя по плодородной земле, чтобы следующим летом взошли подобные ему создания, расцвели без всякого ухода, произвели себе подобных и умерли.
В то время я еще не знал, какой сочный салат получается из этой скромной травки.
* * *
Пышные, аккуратно подстриженные кусты боярышника в живых изгородях распускали крошечные бутоны, а кое-где уже буйно цвел шиповник.
К вечеру над скопившимися на западе аспидно-серыми тучами разлилась пламенеющая дымка, мельчайшая, тончайшая морось, которая огромным облаком золотой пыли опустилась на тихое море, будто шлейф богини огня; внезапно, пробившись сквозь угрюмую стену туч, словно титан, прорвавшийся на свободу сквозь стены темницы, гигантским медным шаром засияло солнце. Казалось, оно почти физическим усилием раздвинуло заслонявшие его тучи и заполнило своим блеском весь небосвод; на морскую гладь легла широкая огненная полоса, по которой людские души могли бы нескончаемо плыть к источнику бессмертного света.
Над долиной нависли набухшие дождем тучи; отчего-то тягостно было смотреть на них, набрякших влагой, но из последних сил удерживающих ее в своем чреве.
* * *
Сосновая роща стояла прохладная и безмолвная, под стать моему настроению. Высокие стволы, прямые и стройные, как мачты парусников: легкий аромат; приглушенный свет; и лиловая дымка, прозрачная, еле заметная, нежнейший теплый, разлитый в воздухе оттенок, – от всего этого у меня возникло чувство полного отдохновения. Слой коричневых игл под ногами скрадывал шаги, идти было приятно и легко. Запахи, как восточный дурман, пьянили и навевали дрему. Тона вокруг были столь нежны, что, казалось, нет на свете красок и кистей, способных передать их; неуловимо окрашенный воздух окружал предметы, размывая их очертания. Мною овладела приятная, не подвластная уму мечтательность, чувственный сон наяву.
Счастлив тот, кому дано испытывать чудные, даруемые природой переживания без малейшего позыва исследовать это чудо!
* * *
Среди сосен раздавались жалобные вздохи ветра, подобные стонам девушки, вздыхающей по былой любви.
* * *
Луг, желтый от бесчисленных лютиков, весенний ковер, вполне достойный того, чтобы по нему ступали ангелы маэстро Перуджино.
* * *
Концерт отличался бесконечным разнообразием номеров; в кустах живой изгороди, в кронах всех до единого деревьев заливались незаметные среди листвы птицы. Каждая словно старалась перепеть остальных, будто жизнь ее зависела от этого пения, будто мир наш полон лишь радости и веселья.
* * *
С возвышенностей глазам отзывались просторы тучных полей и зеленые холмы графства Кент. То был самый благодатный уголок графства, украшенный густыми перелесками. Вязы, дубы и каштаны. Каждое поколение старалось в меру сил, и земля казалась ухоженным садом.
Сад этот был строго распланирован, как на картинах Пуссена и Клода. Никаких необузданных порывов, никакой вольницы; в этой четкой, продуманной композиции постоянно чувствовалась рука человека.
Порою, взобравшись на холм повыше других, я оглядывал раскинувшуюся внизу залитую ослепительным золотистым светом равнину. Хлебные поля, клеверные луга, дороги и речушки образовывали в этом половодье света гармоничный узор, сияющий и воздушный.
* * *
Квадратный, покрытый белой штукатуркой дом, с двумя огромными эркерами и верандой, укрытой разросшимися кустами жимолости и мелкой розы. Природе оказалось не под силу приукрасить это кошмарную постройку, уродливое порождение георгианской архитектуры и безжалостного практицизма. Тем не менее от дома веяло уютом и надежностью. Его окружали рослые кудрявые деревья, а летом в саду пышно цвели розы десятка разных сортов. Низкая живая изгородь отделяла сад от лужайки, на которой долгими вечерами деревенские мальчики играли в крикет. Напротив дома, в удобной близости, стояли деревенская церковь и пивная.
* * *
Небо было свинцово-серым, таким тусклым и унылым, что казалось творением человеческих рук. То был цвет неизбывной тоски.
* * *
Сентджеймсский парк.
Низко нависло ровное, беспросветно серое небо; сквозь эту серость неуверенно белел небольшой солнечный диск, отбрасывая блики на темную рябь озера. В мутном свете дня зелень деревьев потускнела; тонкая, едва заметная мгла окутала пышную листву. За кронами тополей едва виднелись нестройные очертания правительственных зданий и массивные крыши домов на Трафальгарской площади.
Серое небо и угрюмые деревья отражались в темной спокойной воде; от затхлого запаха стоячей воды мутило, голова начинала кружиться.
* * *
При свете солнца зеленая, поросшая лесом долина манила желанной прохладой; но когда с запада, задевая вершины окружавших долину холмов, надвинулись тучи, серые и тяжелые, окоем сразу сузился настолько, что я готов был кричать, как от физической боли. Нестерпимо было смотреть на этот чересчур правильный пейзаж. Угрюмые, аккуратно расставленные вязы, невероятно ухоженные луговины. Когда грузные тучи опустились на холмы, я почувствовал себя взаперти. Казалось, не выбраться из этого маленького замкнутого круга, да и бежать нет сил. Пейзаж передо мною был так аккуратно разграфлен, что если бы мне выпало здесь жить, я навек оказался бы пленником. Я остро ощущал влияние многовекового уклада, людей, поколениями живших по определенным обычаям, под воздействием определенных впечатлений. Я чувствовал себя глупенькой птичкой, родившейся в клетке и не способной вырваться на свободу. Тщетно жаждал я воли, ибо сам сознавал, что у меня не хватит сил ее добиться. Я брел по полям, вдоль окружавшей их аккуратной железной ограды. Всюду виднелись следы заботливых человеческих рук. Казалось, сама природа, усвоив эту упорядоченность, цвела в строгом соблюдении правил и приличий. Никаких дикорастущих вольностей. Деревья безжалостно подстрижены, дабы придать им нужную форму; некоторые уже срублены, ибо их присутствие нарушало элегантный ландшафт, другие для симметричности композиции насажены заново.
* * *
После бури небо, дочиста разметенное истошно завывавшим ветром, казалось воплощением жуткой бездушной справедливости.
* * *
Легкая дымка заволакивает прошлое переливчатым туманом, смягчая резкость воспоминаний и придавая им незнакомую прелесть; так бывает, когда сквозь вечернюю мглу видишь город или гавань: очертания размыты, яркие краски приглушены и создают более изысканные и тонкие сочетания. Но эта дымка наплыла из бездонного океана вечности, неумолимого и неизменного, и с годами воспоминания мои скрылись окончательно в серой непроницаемой ночи.
* * *
Проходящие годы напоминают марево, которое, поднимаясь над океаном времени, придает моим воспоминаниям новизну; резкость их кажется менее резкой, грубость менее грубой. Но как порою случайный береговой ветерок развеивает мглу, что наплыла с угрюмых вод, так одно слово, жест или мотив могут рассеять иллюзию, навеянную предательским временем, и я заново, с пронзительной ясностью вижу события юных лет во всей их жестокой подлинности. Однако это зрелище меня совсем не трогает. Я подобен равнодушному зрителю или пожилому актеру, который смотрит на созданный им образ, дивясь разве что устарелым приемам лицедейства. Я смотрю на себя в прошлом с недоумением и с каким-то не лишенным презрения удовольствием.
* * *
Веселый апрельский дождь.
Терпеливая ночь.
От жары тягостное безмолвие разлилось окрест.
Предсмертная роскошь осеннего убранства напоминало бесконечно печальную мелодию, грустную песнь бесплодных сожалений; но было в этих неистовых красках, в алых и золотистых тонах яблок, в разнообразных переливах опавших листьев что-то такое, что не позволяло забыть: в смерти и увядании природы всегда зарождается новая жизнь.
* * *
Знойная, звездная ночь. Розовый, переменчивый свет зари.
Ветер, призрачный и зловещий, незрячим зверем шуршал безлистыми вершинами деревьев.
* * *
Для любовника, ожидающего возлюбленную, нет горше звука, чем регулярный бой часов.
* * *
Пламя в лампе трепетало и гасло, как блуждающий взгляд умирающего.
* * *
После долгой томительной ночи взойдет заря, но никакой свет не проникнет уже в его несчастное сердце; душа его будет вечно странствовать во тьме, вечно во тьме, вечно.
* * *
За городом ночная тьма знакома и дружелюбна, но в залитом огнями городе она кажется неестественной, враждебной и грозной. Словно чудовищный стервятник парит над головой, дожидаясь своего часа.
* * *
Утро незаметно выползло из-за тучи, словно незваный гость, не уверенный, что ему будут рады.
* * *
С. Г. и я любовались закатом, и он обронил, что считает закаты довольно пошлым зрелищем. Я же, восхищенный открывшимся мне великолепием, почувствовал себя уязвленным. Он с пренебрежением заметил, что у меня чересчур английский вкус. Я-то всегда полагал, что это вовсе не плохо. С. Г. сообщил, что он почитает все французское; в таком случае, подумал я, очень жаль, что по-французски он говорит с таким сильным английским акцентом.
* * *
С. Г.обладает всевозможными достоинствами и добродетелями (правда, только в переносном смысле, ибо высокой нравственностью он не блещет) и очень гордится своим чувством юмора. Если какое-либо дело не пользуется популярностью, С. Г. считает это наилучшим доводом в его пользу. Он самодовольно поносит родину, уверенный, что это свидетельствует о широте его ума. Десяти дней в Париже по путевке бюро путешествий Кука ему хватило, чтобы убедиться в превосходстве французов. Он толкует об идеальной любви, о надежде, а потом за десять шиллингов берет на Стрэнде шлюху. Жалуется на наш век, объясняя его пороками свои неудачи. В самом деле, что хорошего можно сказать о веке и о стране, которые не желают соглашаться с его оценкой своей персоны! С. Г. жалеет, что не родился в Древней Греции, но ведь он, сын сельского врача, неизбежно был бы рабом. Меня он презирает за то, что я принимаю холодные ванны. Он проваливается на всех экзаменах; однако любые удары судьбы лишь укрепляют его самомнение. Он пишет стихи; найдись в них хотя бы на гран самобытности, они были бы вполне сносны. Физической смелости у него нет вовсе, и, купаясь, он дрожит от ужаса при мысли, что может оказаться на глубоком месте. Но он и трусостью своей гордится: утверждает, что храбрым быть не велика заслуга, это-де просто говорит о недостатке воображения.
* * *
Бог проходит всеми земными дорогами, вспахивая почву и засевая ее болью и муками, засевая всюду – с востока до запада.
* * *
Золотое великолепие летнего вечера.
Словно пламенный меч, осушивший безутешные слезы в глазах Евы.
* * *
Оранжерейные красавицы в стиле Патера, от них исходит тяжелый аромат увядающих тропических растений – букет орхидей в натопленной комнате.
* * *
Солнце казалось раскаленной печью, переплавлявшей тяжелые тучи в золотистый сверкающий дождь; и такой разливался ослепительный свет, что невольно возникала мысль о гигантском катаклизме, в котором будет выкован новый могучий мир; а тучи на востоке казались не тучами, а клубами дыма, ползущими из плавильни. В воображении возникали титаны, созидатели нового мира – они швыряют в бурлящий котел ложных богов, мирские блеск и суету, тысячу металлов, бесчисленные творения человека; в жуткой тишине все живое распадается, рассеивается и превращается в новые, бесплотные, таинственные вещества.
* * *
Под быстрыми прикосновениями ветерка по молодой листве пробегала легкая чувственная дрожь.
* * *
Казалось, душа моя обратилась в музыкальный инструмент, на струнах которого боги наигрывают мелодию отчаяния.
* * *
Сердце полнилось жалостью к ней, и хотя я ее больше уже не любил, я не находил утешения. Вместо прежней горькой муки возникла тягостная пустота, пожалуй, еще более невыносимая. Любовь может пройти, но остается память; бывает, и память стирается, но даже это может не принести облегчения.
* * *
Злые волны моря.
В вышине неслись облака, медно-рыжие и багровые на фоне молочно-голубого неба.
Вереск сдержанно лиловеет благородным аметистом.
* * *
Под низким серым небом все краски пейзажа проступали с небывалой яркостью; особенно насыщенными казались коричневый и зеленый тона полей, темно-зеленый – живых изгородей и деревьев; тона, совсем не похожие на великолепие итальянского пейзажа, но столь густые и щедрые, что казались основными цветами. Зрелище это напоминало старинные иконы, где художники добивались подобного эффекта свечения благодаря сплошному золотому фону.
* * *
Когда вы влюблены, что радости вам в том, что на любовь вам отвечают добротою и дружеским расположением? Все это содомским яблоком [5]5
Паслен каролингский.
[Закрыть]застревает у вас в глотке.
* * *
В прежние дни достаточно было просто находиться рядом с …. молча бродить с нею или болтать о всяких пустяках; теперь же, когда мы оба замолкаем, я ломаю себе голову, не зная, что сказать, а если заговариваем, то беседа идет принужденно и неестественно; я испытываю неловкость, находясь с нею наедине.
* * *
До чего же нелепо думать, что любые перемены свидетельствуют о прогрессе! Европейцы сетуют, что китайские кустари-искусники пользуются теми же орудиями, что и сотни лет назад; но если этими грубыми инструментами им удается творить с изяществом и филигранностью, которые и поныне недоступны западным ремесленникам, то с какой стати им что-то менять?
* * *
Три обязанности женщины.Первая – быть красивой, вторая – быть хорошо одетой, и третья – никогда не перечить.
* * *
Смутная тихая песнь Лондона, похожая на отдаленное гудение могучей машины.
* * *
С годами становишься более молчаливым. В молодости хочется всю душу излить миру; остро ощущаешь свое братство с другими людьми, тянет броситься им в объятия, не сомневаясь в ответном порыве; хочется открыться окружающим, чтобы они приняли тебя, и одновременно хочется проникнуть в их души; кажется, самая жизнь твоя, перетекая, сливается с жизнью других, как воды рек сливаются в океане. Но постепенно способность к такому слиянию исчезает; между тобою и окружающими возникает преграда, и вдруг понимаешь, что они тебе чужие. И тогда всю свою любовь, всю жажду общения сосредоточиваешь на одном человеке, как бы в последней попытке слить свою душу с его душой; всеми силами притягиваешь его к себе, стремясь познать его и дать ему познать тебя до самых потаенных уголков души. Мало-помалу, однако, обнаруживаешь, что это невозможно, и как бы пылко ты его ни любил, как бы сильно к нему ни привязался, он так и останется тебе чужим. Даже самые любящие муж и жена не знают друг друга. И, замкнувшись в себе, ты молча, таясь от людских глаз, начинаешь возводить свой собственный мир и не открываешь его даже тому, кого любишь больше всех, ибо знаешь: ему не постигнуть твоего мира.
* * *
Иной раз чувствуешь ярость и отчаяние оттого, что так мало знаешь тех, кого любишь. Сердце разрывается от невозможности понять их, проникнуть в сокровенные глубины их душ. Бывает, по случайности или под воздействием порыва чувств приоткрывается внутренний мир любимого человека, и тогда с горечью убеждаешься, как мало знаком тебе этот мир и как страшно далек от тебя.
* * *
Иногда двое, поговорив на какую-то тему, вдруг замолкают, и тогда мысли их текут в разных направлениях; через некоторое время, заговорив снова, эти двое с удивлением обнаруживают, как далеко они мысленно разошлись.
* * *
Говорят, что жизнь коротка; возможно, тем, кто оглядывается на прожитое, она и впрямь кажется короткой; но для тех, кто смотрит вперед, она представляется жутко долгой, бесконечной. Порою возникает чувство, что не хватит сил прожить ее. Отчего нельзя заснуть и больше никогда, никогда не просыпаться? Как, наверное, счастливо живут те, кто с радостью ждет вечности! Мысль о вечной жизни наводит ужас.
* * *
На земле такое множество людей, что поступок отдельного человека не имеет особого значения.
* * *
Как вы любите сыпать нравоучительными афоризмами! Так и тянет перемежать ваши изречения понюшками табака.
* * *
Ужасно не иметь возможности выразить свои чувства и поневоле хранить их втайне.
* * *
Неужто я, словно второстепенный поэт, выставлю кровоточащее сердце свое на обозрение пошлой толпе?
* * *
Будь у людей возможность в первый же год спокойно расторгать брак, то из пятидесяти пар ни одна не осталась бы вместе.
Читатели и не подозревают, что текст, на чтение которого у них уходит полчаса или пять минут, автор писал кровью своего сердца. Чувства, которые кажутся им «столь достоверными», он в полной мере испытал сам, орошая подушку горькими слезами.
* * *
Скорбь человеческая столь же велика, что и человеческая душа.
* * *
Встречаются люди, которые на слова «Здравстуйте! Как поживаете?» отвечают «Спасибо, очень хорошо». До чего же они тщеславны, если думают, что их здоровье кого-то волнует.
* * *
Самое трудное для человека – признать, что он не в центре мирозданья, а на его периферии.
* * *
Шотландцы, по-видимому, считают свою национальную принадлежность собственной заслугой.








