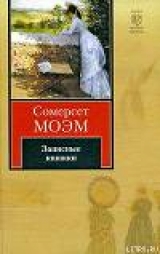
Текст книги "Записные книжки"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Я с интересом наблюдал, как производится мытье арестантов – им полагается мыться два раза в день. Их партиями подводят к большому водоему, у каждого свой таз, по команде они четыре раза окатываются, растираются и, по команде же, снова четыре раза окатываются. Затем по-быстрому надевают сухие саронги и уступают место следующей партии.
* * *
В ночной тьме вырисовываются стройные, изящные очертания арековых пальм. В них суровая красота силлогизма.
* * *
Л. К.У него прозвище гнилушка Гей. Он учился в Бейлли-оле, более образован и начитан, чем плантаторы и государственные чиновники, с которыми вынужден проводить время. Учился в кадетском училище, готовился в офицеры, но стал школьным учителем. Отлично играет в бридж, прекрасно танцует. Местные считают его заносчивым и относятся к нему крайне недоброжелательно. Одевается не без шика, умеет занятно вести беседу на оксфордский манер. Остроумно пересыпает речь жаргонизмами и в то же время у него речь человека образованного. Говорит своеобычно. Хорош собой, лицо интеллектуала – мог бы сойти и за молодого преподавателя Оксфорда или Кембриджа и за профессионального танцора из ночного клуба.
* * *
С.Чопорный, старательный, педантичный, добропорядочный и скучный. Жена – легкомысленная вертушка. Благодаря своим способностям занял в Сингапуре видное положение. По соседству с ними жила одна супружеская пара. Муж – брызжущий энергией здоровяк, жена – ханжа, такая же добропорядочная и скучная, как С. Оба средних лет. В один прекрасный день эта дама и С, к удивлению всей колонии, сбежали вместе. Брошенные муж и жена затеяли бракоразводный процесс и, в конце концов, поженились. С. лишился работы, поселился в Англии, живет в бедности с женщиной, которую увел от мужа. Полное торжество сингапурской колонии омрачает лишь то обстоятельство, что, по слухам, они бесконечно счастливы.
* * *
Прогуливаясь, я думал о широкой дороге – иногда я вижу ее во сне – дороге, петляющей по холмам точь-в-точь, как та, по которой я шел; она ведет в город, куда я, сам не знаю почему, стремлюсь попасть. По ней торопливо идут мужчины и женщины, и, проснувшись, я нередко обнаруживаю, что стою посреди комнаты – так велико мое желание слиться с толпой. Я ясно вижу город на вершине горы, обведенный крепостными стенами, вижу и дорогу, широкую, белую; петляя по холму, она ведет к городским воротам. Свежий душистый ветерок, синее небо. Они идут и идут вперед, женщины и дети, не переговариваясь – они устремлены к цели, лица их озарены надеждой. Они не смотрят по сторонам. Они спешат, их глаза горят нетерпением. Я не знаю, на что они надеются. Знаю лишь, что их гонит вперед некая неотступная мечта. Город несколько напоминает города на картинах Эль Греко, вырастающие на отрогах гор, – «землю моей мечты», зыбкие видения, которые встают при свете молнии, вспарывающей ночную тьму. Но те города – с узкими, кривыми улочками, обложенные со всех сторон тяжелыми тучами. В городе же, который мне снится, светит солнце, а улицы – широкие и прямые. Что за люди живут в этих городах мистиков, уклад этих городов, умиротворение, которое они дают истерзанному сердцу, – я смутно представляю; но что за люди живут в моем городе и почему тех людей на дороге так страстно влечет к нему, я не знаю. Знаю только, что мне насущно необходимо туда попасть и что, когда я наконец войду в его врата, я обрету там счастье.
Стихи;
Невыносима мысль, что я теряю
Тебя, и мы отныне будем порознь.
Хотя в твоем непостоянном сердце
Нет ни любви, ни нежности ко мне.
Я вижу: ты налево и направо
Непрошенные ласки раздаешь.
Когда же я пытаюсь разорвать
Цепь, что связала нас, ты оплетаешь
Меня своими нежными руками,
Чтоб удержать…
Благодарю смиренно
Тебя за все обманы и притворства,
За все твои скупые поцелуи,
Хотя за них я золотом платил.
Но та любовь, как я мечтал, до гроба
Не дожила. Она мертва сегодня.
Ах, где твоя былая власть, когда
Светлело небо от твоей улыбки,
А от небрежно брошенного слова
Средь полдня солнце покрывала хмарь?
Не смерть и не разлука, а усталость
Любовь казнят – и, как вода в реке.
Во время засухи, она иссякла.
Я заглянул в свое пустое сердце
И в ужасе, в отчаяньи отпрянул:
Моя душа – пустыня, дикий ветер
Над нею дует, и ночные птицы
Вьют гнезда среди царственных могил.
Теперь я на тебя гляжу с печалью,
И сожалею о своем страданьи,
Восторгах, боли, муке и блаженстве.
1930
Пансион в Никосии.Типично английская еда – так кормят в какой-нибудь гостиничке на Бейсуотер-роуд. Суп, рыба, жаркое, на десерт бисквит со сливками или горячий пудинг с заварным кремом, по воскресеньям плюс к тому закуска – фаршированные яйца. Две ванные комнаты, воду нагревают в колонке, топят ее дровами. В комнатах стоят узкие железные кровати и дешевая, крашенная белой краской мебель. На полу полоски ковра, смахивающие на лошадиные попоны. В гостиной – громоздкие, обитые английским ситцем кресла и столы, крытые мережевыми скатертями. Лампы яркие, но размещены так, что особо не почитаешь. По вечерам здесь собираются гости, играют по мелочи в карты, шумно подтрунивая друг над другом. Хозяин – толстячок-грек, дурно говорит по-английски, разносить еду ему помогает плюгавый греческий юнец с красивыми глазами и золотым зубом.
Жильцы.Военный, в прошлом драгун, джентльмен до мозга костей, отлично воспитан. У него туберкулез, и он то живет в пансионах Ривьеры, то кочует по Ближнему Востоку. Высокий, изможденный, с резкими чертами лица и жидкими, прилизанными волосами. Пожилая, полная дама, совершенно седая, но крайне веселая и кокетливая. Таких называют мужчинни-цами. Она то и дело хохочет и чрезвычайно игрива. Предприниматель из Египта со своей дородной женой. У него медно-красное лицо и седеющие, коротко, по-солдатски стриженные волосы; похоже, служил в армии. Старик в очках в золотой оправе, не спеша разъезжает по Европе, изучает, как обстоят дела с социальным обеспечением в разных странах. Пишет статьи для третьестепенных газетенок, собирает материал для книги об условиях жизни рабочего класса. Ни о чем другом разговаривать не может. У него большой запас затасканных анекдотов, которые он рвется рассказывать, но остальные жильцы идут на всевозможные уловки, чтобы его прервать. Две изящные дамы хрупкого здоровья – они практически не выходят из своих комнат. Другие женщины никак не могут взять в толк, почему им перед каждой едой подают в комнаты коктейли.
Тучный старичок с седой бородкой клинышком, в очках, прожил сорок два года в Японии. Его предприятие пострадало от землетрясения, перестало приносить доход и его пришлось ликвидировать. Он вернулся в Англию, решил поселиться с дочерью, купил дом в Харроу, предполагая до конца своих дней жить с ней и ее мужем. Дочь он почти не видел с тех пор, как ей исполнилось полгода, – ее тогда отправили в Европу – и, когда они поселились вместе, оказалось, что у них нет ничего общего. Начались нелады, и он, оставив ей дом, уехал на Ближний Восток. Тоскует по Японии и хотел бы туда вернуться, но понимает, что ему не по средствам жить там на широкую ногу, как прежде. Здесь он ходит в клуб, читает газеты, играет в бильярд. Вечерами в гостинице раскладывает пасьянс или слушает чужие разговоры. Сам вступает в разговор крайне редко, явно чувствует себя не в своей тарелке, но смеется, когда жильцы поддразнивают друг друга. Коротает свой век. Разговоры здесь сводятся к взаимному поддразниванию. Плата за пансион – десять шиллингов в день.
* * *
Нью-Йорк.Она служила секретаршей у богатой женщины и жила в небольшой гостинице; там жил и отец одного английского поэта. Пламенная поклонница поэта, она опекала ради него отца, обнищавшего, спившегося и довольно беспутного старикана. Он любил сына, гордился им. Затем поэт приехал в Нью-Йорк – погостить у ее хозяйки. Она считала, что поэт просто не знает, как нуждается его отец, и, едва его просветят на этот счет, непременно поможет старику. Но время шло, поэт не выказывал желания увидеть отца, и, в конце концов, в один прекрасный день, отвечая под диктовку поэта на письма, она рассказала ему, что знакома с его отцом, что они, к слову сказать, живут в одной гостинице и что отец очень хочет его повидать. «Вот как?» – сказал поэт и продолжал диктовать. Она пришла в ужас. Сочла своим долгом рассказать об этом старику. Старик расхохотался. «Стыдится меня», – сказал он. «Он никудышный поэт», – возмутилась она. «Нет, – ответил старик, – он никудышный человек, но это не мешает ему быть великим поэтом».
Писатель должен без устали изучать людей, а мне, увы, это порой наскучивает. Тут требуется невероятное терпение. Разумеется, встречаются люди с такой ярко выраженной индивидуальностью, что их видишь сразу во всех деталях, как завершенную картину; это «чудаки», впечатляющие, яркие фигуры; они рады случаю выставить свои странности напоказ, словно бы теша себя и желая нас потешить. Но их немного. Это люди необычные и, следовательно, им присущи все достоинства и изъяны натур исключительных. И чем более они колоритны, тем менее достоверны. Изучать рядового человека – совсем другое дело. Ему присуща поразительная неопределенность. Вот он, этот человек, со своим характером, самостоятельный, с множеством особенностей; но ясного и четкого образа из всех этих свойств не складывается. Раз он себя не знает, что он может рассказать о себе? И пусть он даже очень разговорчив, ничего передать он не может. И какими сокровищами он бы ни обладал, он таит их тем более успешно, что сам не ведает, чем владеет. Если вознамериться создать из этого нагромождения примет человека – подобно тому, как скульптор высекает статую из глыбы камня, – нужно время, терпение, китайское хитроумие и, как минимум, десяток тому подобных свойств. Придется часами слушать, как он пересказывает чужие мысли в надежде, что в конце концов он ненароком выдаст себя случайной фразой. И впрямь, чтобы знать людей, должно интересоваться ими ради них, а не ради себя, – должно интересоваться тем, что они говорят, только потому, что это говорят они.
* * *
Наружность.Как описать наружность персонажа – вот одна из трудностей, встающих перед романистом. Самый естественный путь – конечно же, простое перечисление: рост, цвет и форма лица, размер носа, цвет глаз. Перечислять можно скопом или по отдельности при удобном случае – характерная черта при уместном повторении врежется читателю в память. О ней можно упомянуть, когда персонаж предстает перед читателем впервые, или же, когда он уже успел возбудить интерес читателя. Так или иначе, я не верю, что читатель четко представляет себе наружность персонажа. В былые времена романисты очень подробно описывали внешность своих персонажей, и тем не менее случись читателю лицезреть во плоти особу, с таким тщанием описанную автором, думаю, он бы ее не узнал. По-моему, не взирая на пространные описания, точный образ почти никогда не складывается. Мы четко и ясно представляем себе как выглядели великие литературные персонажи лишь, когда иллюстратор ранга Физа навязывал нам свое видение мистера Пиквика, а Тэнниэл – Алисы. Читать перечень примет, разумеется, скучно, и, чтобы придать описаниям живость, многие писатели прибегали к импрессионистскому методу. Конкретными деталями они полностью пренебрегали. Отведут две-три более ли менее остроумных фразы наружности персонажа в расчете, что нескольких ядовитых замечаний да впечатления, которое он произвел, скажем, на любопытного прохожего, достаточно, чтобы у читателя составился портрет персонажа. Такие описания куда занятнее читать, чем сухой перечень примет, однако представления о наружности персонажа они не дают. Я полагаю, что живость этих описаний прикрывает отсутствие у авторов четкого представления об облике своего персонажа. Писатели бегут от трудностей. А некоторые из них и вовсе не подозревают о том, как важен внешний облик персонажа. Похоже, они никогда не замечали как наружность влияет на склад характера. Мужчина ростом в пять футов семь дюймов и мужчина ростом в шесть футов два дюйма живут в разных мирах.
1933
Монтсеррат.Он подобен суровой и сложной поэме поэта, понуждающего свой стих к необычной гармонии и преодолевающего сопротивление формы в стремлении передать многозначную мощь и красоту мысли, которую не выразишь словами.
* * *
Сарагоса.Часовню скудно освещают алтарные свечи, на ступенях алтаря преклонили колени две-три женщины и мужчина. Над алтарем раскрашенная статуя – Христос на кресте, чуть ли не в натуральную величину. Низким лбом, густыми черными волосами и небрежной черной бородкой он походит на астурийского крестьянина. В темном углу часовни, поодаль от молящихся, стоит на коленях женщина, она простирает чуть расставленные руки к алтарю так, словно подносит на незримом блюде свое истерзанное сердце. У нее продолговатое, гладкое без морщин лицо, большие глаза обращены к статуе Христа над алтарем. Ее поза – поза молитвенницы, беспомощной и беззащитной, взывающей о помощи в смятении и горе, – пробуждает сострадание. Кажется, она не понимает, за что ей ниспосланы такие муки. Я решил, что она молит не за себя, а за кого-то из близких. За кого: смертельно больного ребенка, мужа, любовника в тюрьме или ссылке? Она оставалась до странности неподвижной, ее немигающий взгляд был прикован к лицу умирающего Христа. Но молилась она не тому, кто смертью смерть попрал, и чье изображение – лишь грубый символ, пламенные молитвы она в буквальном смысле возносила жутковатой реалистической статуе, творению рук человеческих. Глаза ее говорили о безраздельном повиновении, подчинении воле Божией и вместе с тем о неколебимой, пламенной вере в то, что деревянная статуя поможет – удалось бы только тронуть деревянное сердце в деревянном теле. Вера озаряла ее лицо сиянием.
* * *
О Мурильо почти нечего сказать (разве только, что он не так плох, как Вальдес Леаль), кроме того, что его картинами очень хорошо обставлять храмы. Со всех других точек зрения они не представляют никакого интереса. У него недурная композиция, нежные, ласкающие глаз тона; он точен, чувствителен, изящен и поверхностен. И при всем при том, в картинах Мурильо, когда они, скудно освещенные, великолепно обрамленные, висят в тех местах, для которых и предназначены – скажем, в часовне, своими роскошными красками отлично их оттеняющей, – нельзя не согласиться, что в них что-то есть. Они созвучны лихорадочной болезненной набожности испанцев – оборотной стороне их буйства, грубости и жестокости. Созвучны способности среднего испанца легко пустить слезу, мимолетно восхититься хорошенькой девушкой, его любви к детям, его суеверной отзывчивости.
* * *
«Селестина».Она читается увлекательно, но сегодня уже не может взволновать. Важна лишь как памятник литературы. «Селестина», по всей видимости, предшественница и плутовского романа, и испанской драмы. Кое-какие из ее персонажей повторили и развили многие более поздние авторы. Однако литературоведы преувеличивают ее значение – называть «Селестину» великим произведением нелепо. Сюжет в ней дурацкий. Диалоги хвалят за естественность, и они, не приходится отрицать, написаны живым, сочным языком, однако все без исключения персонажи говорят одинаково, уснащают свою речь пословицами – этим проклятием испанской литературы, ими злоупотреблял и сам Сервантес. Юмор строится на одном приеме: в уста главного и самого живого персонажа трагикомедии, старой сводни, вкладываются нравственные максимы. Но этот прием даже улыбку вызывает крайне редко. Он может развеселить лишь очень смешливого человека. Кое-какие сцены отличают живость и достоверность. Они вполне приемлемы, но увлечь никак не могут. Хотя в трагикомедии речь идет о любви молодого дворянина к высокородной девице, и все только и делают, что говорят об их неистовой страсти, они от первой до последней страницы не обнаруживают ни малейших признаков чувства. В этой любовной истории любовь отсутствует. И при том – вот незадача! – Калисто – балбес, а Мелибея – слабоумная; однако, несмотря на это, утрет нос любому синему чулку: вне себя от горя после смерти возлюбленного, она – перед тем, как броситься с башни – пространно рассуждает, подражая Плутарху, о людском непостоянстве, приводя примеры из античной литературы. Слава «Селести-ны» объясняется своевременностью ее появления, а не художественным совершенством.
* * *
Севилья.За городом, под вечер, с неба струится такой же золотистый свет, какой исходит от святых на полотнах Мури-льо, а белые облачка на горизонте походят на херувимов, окружающих Богоматерь во славе ее.
* * *
Толпа на бое быков.В раскаленном воздухе порхают тысячи разноцветных вееров; впечатление такое, точно на свет разом народился целый рой бабочек.
* * *
Вальдес Леаль. Гладкопись.Размашистый, но нечеткий рисунок крайне невыразителен. Картина напоминает фотографию не в фокусе. Люди кажутся бескостными. У Вальдес Леаля нет дара композиции, его картины плохо построены; кажется, что эти огромные полотна заполнены наобум. Цвет тусклый, неестественный. Ему не откажешь в фантазии, но фантазия его – нелепая утрированная фантазия контрреформации.
* * *
Андалузия.Луна привалилась к небу, как клоун с запудренным добела лицом к стене цирка.
* * *
Машина мчалась по обсаженной деревьями дороге, и полная луна то пряталась за ними, то выныривала из-за них, как веселая толстуха, с нелепым, но милым лукавством играющая в прятки.
* * *
Гудки клаксонов и выхлопы моторов пронзали ночь подобно тому, как острые вершины японских гор прорезают безоблачное небо.
* * *
М. П.Он отпустил «хлеб свой по водам», твердо надеясь получить в четыре раза больше, но на всякий случай – а вдруг провидение запамятует его вознаградить – привязал к хлебу веревочку, чтобы, буде возникнет такая надобность, вытянуть его назад.
* * *
В развитии каждого искусства сушествует промежуток, отделяющий обаяние наивности от изыска изощренности, – вот тогда-то и рождается совершенство. Но этот промежуток порождает и посредственность. В эту пору художники уже овладели мастерством, и подняться над унылым реализмом удается лишь натурам неординарным.
Сравните свежую прелесть ранних работ Рафаэля и великолепие и мощь лоджий Ватикана с пустоватыми картинами того периода, когда он писал, как Джулио Романе
Совершенство всегда несет в себе опасность вырождения, неизбежно следующего за ним.
* * *
Художнику от природы даны и отрешенность, и свобода, мистик достигает их, умерщвляя плоть. Художник подобен мистику, стремящемуся постичь Бога, – он так же духовно отрешен от мирской суеты.
* * *
У энергичного, деятельного человека чувство греха притуплено; лишь когда энергия иссякает, в нем может пробудиться совесть.
* * *
Искусство Возрождения открывает всё, что в нем есть, сразу. А в нем есть покой, здоровье и душевная ясность. Оно гораздо ближе к совершенству, чем искусство любой другой эпохи. Оно не так будоражит воображение, как дает ощущение общего благополучия. Чуть ли не физически переполняет радостью, как солнечное утро по весне.
Кордова. Площадь дель Потро.Длинная, узкая, окруженная со всех сторон беленькими домишками, она упирается в реку. В верхней ее части фонтан, посреди него на пьедестале статуя гарцующей лошади. Жители соседних домов ходят к фонтану с кувшинами по воду. Наставляют на пляшущие струи стебли бамбука, и вода стекает по ним в кувшины. Ослов и лошадей поят прямо из чаши фонтана. Слева, если смотреть вверх от реки, постоялый двор. С фасада скромный по виду дом в два этажа, беленый известью, большие ворота на ночь запираются. Но у него просторный внутренний двор в колдобинах, вымощенный кое-как. Имеются конюшни – в каждой поместится всего одна лошадь, рядом с которой может прикорнуть грум или конюх. Сейчас там не больше двух-трех лошадей. Одну из конюшен занимает торговец цветами, о своем приходе он оповещает криком. В просторном проходе, ведущем с улицы во двор, девушки гладят белье. Имеются две кухоньки для общего пользования, на верхний этаж ведут грубые каменные ступени. Дом огибает широкая деревянная галерейка с шаткими перилами, вход в комнаты с галерейки. Здесь жил Сервантес.
* * *
Ла-Манча. Дубы.Они тянутся миля за милей по одному пологому холму за другим. Невысокие, отнюдь не величественные, зато очень крепкие на вид, стволы их такие корявые и кривые, что, кажется, они устояли лишь ценой невероятных усилий, стойко сопротивляясь натиску времени, ветра, дождя.
На много миль – насколько хватает глаз – тянутся однообразные ряды борозд.
Лишь изредка встретишь крестьянина, пашущего поле деревянным плугом, в который впряжены два мула, – такими плугами пахали еще при римлянах. Или крестьянина верхом на ослике, а то и на лошади, позади него обычно сидит сын. Они обмотаны бурыми одеялами, чтобы уберечься от пронизывающего ветра. Или закутанного пастуха, который охраняет стадо щиплющих чахлую траву овец или разбредающихся шустрых коз. Пастухи жилистые, старые, чисто выбриты, у них небольшие, проницательные, выцветшие глаза, землистого цвета костистые, изрезанные морщинами, умные лица; их иссушили пронзительные зимние холода и летний зной. Двигаются они неспешно и, сдается мне, слов на ветер не бросают. Дома в деревнях – цвета бесплодной земли, строят их из камня и глины; кажется, что эти времянки вскоре врастут в землю, на которой стоят.
* * *
Алькала-де-Энарес.Здесь есть большая площадь с пассажами, улица с пассажами и двухэтажными незатейливого вида домишками. Пустой, сонный городок. Улица пуста, если не считать двух-трех прохожих, запряженной мулом крытой повозки да мелочного торговца верхом на лошади, по обеим бокам которой свисают корзины. В университете прекрасный внутренний двор и аляповатый, не представляющий художественной ценности фасад. Остальные улицы – тесные, ничем не примечательные, тихие.
* * *
Las Metinas.Какая она радостная – вот что прежде всего поражает, потом замечаешь, что впечатление это создает теплый, дневной свет, загадочным образом обволакивающий фигуры. Ни в одной картине Веласкеса не проявился с такой силой его жизнерадостный, спокойный характер. «Молодые фрейлины» веселостью – лучшей и самой типичной чертой андалузцев.
Веласкес писал своих карликов и шутов в шекспировской манере, явно потешаясь, беспечально: ни их чудовищное уродство, ни несчастная судьба не вызывали у него ни малейшего сострадания. У него был светлый нрав, и поэтому он смотрел на эти жуткие исковерканные создания благодушно, понимая, что Господь сотворил их для забавы коронованных особ.
Ни в одном из портретов Веласкеса нет и намека на критическое отношение к модели. Он изображал людей такими, какими они хотели себя видеть. В его обаянии примесь бесшабашного бессердечия. Его замечательное мастерство, я думаю, общепризнанно; платья некоторых его инфант потрясают, но пока восхищаешься ими, не покидает чувство некоторой неловкости и преследует вопрос, а так ли ценно это замечательное мастерство? Веласкес походит на писателя, который говорит вещи на редкость здравые, но при этом довольно несущественные. К чему умалять значение широты в пользу глубины, но удержаться от этого трудно. Возможно, Веласкес поверхностен, но поверхностен масштабно. Он размещает фигуры на полотне так красиво, что они образуют узор, радующий глаз. Из всех придворных художников он самый великий.
Лондон. Парикмахер.Работает в этой парикмахерской с шестнадцати лет. Рослый юнец, он выдал себя тогда за восемнадцатилетнего; у него роскошная копна кудрей, что и побудило его заняться парикмахерским делом. Он любил читать стихи, и по воскресеньям – в те дни парикмахер работал по шесть дней в неделю – совершал паломничества в места, связанные с жизнью поэтов, которыми в то время увлекался. Когда читал «Потерянный рай», съездил в Чалфонт-Сент-Джайлс; посетил улицу, где родился Ките, дом, где жил Колридж; отправился в Стоук-Поджис, бродил по кладбищу, вдохновившему Грея на «Элегию». В его энтузиазме была прелесть простодушия. Все свободные деньги он тратил на книги. В обед перекусывал в кафе-кондитерской и, пока ел булочку с маслом и пил молоко, листал драгоценный том. Там же он познакомился с девушкой, ставшей впоследствии его женой. Она работала в портняжной мастерской на Дувр-стрит. Потом у него родился сын. Пока он ухаживал за своей будущей женой, она восхищалась его начитанностью, но после свадьбы ее стало раздражать, что он вечно сидит, уткнувшись в книгу. Когда он возвращался с работы, она требовала, чтобы после ужина он шел с ней гулять или в кино. Они прожили лет семь-восемь, когда разразилась война. Его призвали, но благодаря ходатайству одного из постоянных клиентов послали в Россию – сопровождать бронемашины. Всю войну он провел вдали от Англии. Конец войны застал его в Румынии. В итоге он возвратился в Англию, вернулся в парикмахерскую. Он был еще не стар. Ему шел тридцать четвертый год. Перспектива посвятить всю оставшуюся жизнь стрижке и бритью его страшила. Но чем бы еще заняться, он не знал. Кроме стрижки и бритья, он ничего не умел. Жена считала, что он должен радоваться: ведь за ним сохранили хорошую работу. До войны они друг с другом ладили, теперь их отношения испортились. Она считала, что он брюзга и привереда. Его раздражало, что она вполне довольна жизнью и ничего иного не хочет. Он понял, что обречен всегда обеспечивать жену и сына, чтобы они ни в чем не нуждались. Мальчику уже исполнилось десять лет. Парикмахеру со временем стали отвратны его клиенты. Я спросил, по-прежнему ли он много читает. Он покачал головой. «Зачем? – сказал он. – Что мне это даст?» – «Чтение поможет вам отвлечься от невзгод», – ответил я. «Возможно. Но все равно от них не уйти». У него осталось лишь одно желание – во что бы то ни стало обеспечить сыну свободу, которой он сам был лишен. Он потерпел поражение, распростился со своими надеждами, но со злопамятностью дикаря ждал, когда сын отомстит за его утраченные иллюзии. Сын вырос и стал парикмахером, только не мужским, а женским, так как это более прибыльно.
* * *
Рецепт.Молодежь склонна принимать все всерьез. Юнец с дерзким, но довольно приятным лицом и копной густых, темных, зачесанных назад волос, которые он пытался укротить и придать им модный зализанный вид, щедро смазывая их маслом. Он испытывал смутное влечение к литературе и однажды спросил меня, как сочинить эпиграмму. Так как он служил в авиации, мне показалось, что уместно будет ответить так: «Пикируйте на банальность, и приземляйтесь между строк». Наморша лоб, он осмысливал мой ответ. Такое серьезное отношение к моим словам, конечно, лестно, но мне было бы куда приятней, если бы он просто улыбнулся.
* * *
Как-то одна дама, у сына которой были литературные наклонности, спросила меня, что бы я посоветовал ее сыну, если бы он решил стать писателем; сочтя, что дама вряд ли воспользуется моими советами, я ответил: «Давайте ему по сто пятьдесят фунтов в год и пусть идет ко всем чертям». С тех пор я не раз вспоминал свой совет, и мне кажется, он совсем не плох. При таком доходе молодому человеку голод не грозит, и вместе с тем деньги это небольшие, в довольстве на них не поживешь, а что, как не довольство, злейший враг писателя. При таком доходе он сможет объехать весь мир но при его средствах жизнь предстанет перед ним такой разнообразной и пестрой, какой ее никогда не увидеть человеку более состоятельному. При таком доходе он часто будет сидеть без гроша, а следовательно, будет вынужден всячески изворачиваться, чтобы обеспечить себе пищу и кров. Будет вынужден попробовать свои силы на самых разных поприщах. Хотя прекрасные писатели жили весьма замкнуто, они писали хорошо вопреки этому обстоятельству, а не благодаря ему; немало старых дев, проводивших большую часть года в Бате, писали романы, но лишь одна из них – Джейн Остен. Писателю очень полезно побывать в таких обстоятельствах, в которых он будет подвергаться тем же злоключениям, что и большинство из нас. Не следует всецело отдаваться чему-то одному, надо испытать всего понемножку. По мне, ему следовало бы по очереди поработать сапожником, портным и т. д., любить и терять, голодать и пьянствовать, играть в карты с головорезами Сан-
Франциско, держать пари с жучками в Ньюмаркете, увиваться за герцогинями в Париже, дискутировать с философами в Бонне, скакать верхом с пикадорами в Севилье, плавать с канаками в Южных морях. Писателю интересен любой человек; любой пустячный случай у него идет в дело. Иметь дарование, иметь в своем распоряжении пять лет и доход в сто пятьдесят фунтов, притом в двадцать три года – что может быть лучше.
* * *
Оба они уже умерли, эти братья. Один был художник, другой – врач. Художник твердо верил, что он гений. Заносчивый, вспыльчивый, тщеславный, он презирал брата, считал его филистером, чувствительной размазней. Но он почти ничего не зарабатывал и, если бы не помощь брата, жил бы впроголодь. И вот какая странность – грубый и неотесанный, как внутренне так и внешне, он писал слащавые картинки. Время от времени он ухитрялся устраивать выставки и на них всегда продавал одну-другую картину. Но не больше. В конце концов до врача дошло, что брат отнюдь не гений, а всего лишь второразрядный художник. Жестокое разочарование после всех его жертв. Но он держал свое открытие при себе. Потом врач умер, свое достояние он оставил брату. Художник обнаружил в доме врача все картины, проданные за четверть века неизвестным покупателям. Поначалу он был озадачен. Долго ломал голову, как это следует понимать, и наконец его осенило: хитрый брат нашел выгодное вложение капитала.
* * *
Английскую публику неизменно смешат крайности любовной страсти. Любовь не должна выходить за известные рамки, иначе рискуешь попасть в глупое положение.
* * *
Средний возраст.Думается, я ощущал свой возраст острее, чем многие. Я не заметил, как пролетела юность: меня всегда тяготило ощущение, что я старею. Оттого что для своих лет я изрядно повидал, много путешествовал, обладал широкой начитанностью и интересовался предметами, обычно не занимающими людей моего возраста, я казался старше своих сверстников. Однако вплоть до войны 1914 года, мне и в голову не приходило, что я немолод, А тут я с сокрушением обнаружил, что в сорок лет уже стар. Стар лишь для военной службы, утешал я себя, но вскоре произошел случай, окончательно лишивший меня иллюзий. Я обедал с одной дамой, своей давней знакомой, и ее племянницей, девушкой семнадцати лет. После обеда мы взяли такси, собирались поехать куда-то еще. Первой в такси села знакомая, за ней племянница. Но села она на откидное сиденье, уступив место рядом с теткой мне. Отказавшись от привилегий своего пола, она отдала дань уважения возрасту джентльмена уже не первой молодости. И до меня дошло, что я для нее человек почтенного возраста. Не очень-то приятно сознавать, что для молодых ты уже не ровня. Принадлежишь к другому поколению. Они считают, что твои скачки закончены. Они могут тебя почитать, восхищаться тобой, но ты не из их числа, и в конечном счете они всегда предпочтут общество людей своего возраста – твоему. Однако у среднего возраста есть и свои преимущества. Юность по рукам и по ногам связана общественным мнением. Средний возраст наслаждается свободой. Помнится, когда я кончил школу, я дал себе зарок: «Отныне буду вставать и ложиться, когда заблагорассудится». Это я,разумеется, хватил, вскоре мне стало ясно, что цивилизованный человек может быть независим лишь в определенных пределах. Если у тебя есть цель, для ее достижения приходится отчасти поступиться свободой. Но, достигнув среднего возраста, открываешь: в какой-то мере стоит поступиться свободой ради того, чтобы достичь той или иной цели. В детстве я страдал от застенчивости – средний возраст в значительной мере избавил меня от нее. Я всегда был слабого здоровья и долгие прогулки меня утомляли, но я не отказывался от них, стыдясь признаться в своей слабости. Нынче я ничуть не стесняюсь своих слабостей, и благодаря этому освободил себя от множества неудобств. Холодная вода мне всегда была ненавистна, но долгие годы я, не желая отставать от других, принимал холодные ванны и купался в холодном море. Нырял с такой высоты, что у меня душа уходила в пятки. Отчаивался от того, что в спорте уступал многим. Если я что-то не знал – стыдился признаться в своем невежестве. Лишь на склоне лет я понял, что сказать: «Я не знаю», – проще простого. В среднем возрасте мне открылось: никто не ожидает, что я пройду сорок километров, сыграю в гольф без форы или нырну с девяти метров. И это только к лучшему, это делает жизнь куда более приятной. А если бы от меня этого и ожидали, я бы этим пренебрег. Юность – несчастливая пора именно потому, что ты из кожи вон лезешь, лишь бы быть таким, как другие; в среднем же возрасте принимаешь себя таким, как есть, и благодаря этому средний возраст – вполне сносная пора.








