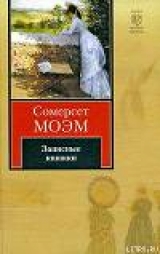
Текст книги "Записные книжки"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
* * *
Я давно пришел к выводу, что жизнь слишком коротка, а значит, не стоит делать ничего того, что вместо меня могут за деньги сделать другие. Теперь я исключил бы из этого перечня дел бритье. Я изумляюсь, когда вижу, как занятые люди, твердящие, что им дорога каждая минута, шесть дней в неделю подвергают себя долгой, скучной и сложной процедуре, в которую превратили бритье американские парикмахеры.
* * *
Не стану отрицать, быть членом любящей, сплоченной семьи приятно, но, на мой взгляд, это не подмога человеку в жизни. Взаимное восхищение, непременное в таких семьях, создает ошибочное представление о своих способностях – и от этого человек хуже других подготовлен к жестокой жизненной схватке. Но если для обычного человека это не более, чем помеха, для художника это пагубно. Художник – одинокий волк. У него свой особый путь. И если стая изгоняет его, ему это во благо. Неумеренные хвалы обожающей родни начинаниям, которые, в лучшем случае, свидетельствуют лишь о задатках способностей, ему лишь во вред: если он поверит, что его работы хороши, у него не будет стимула работать лучше. Самодовольство – смерть для художника.
* * *
Заметив, что от былой любви к риску в этой стране, судя по всему, практически не осталось и следа, я немало удивился. Я знаю, что множество людей бежали из Европы от нищеты, однако еще больше людей остались на родине и сносили нищету; эмигрировали те, кто не боялся рискнуть. Я знаю, что множество людей покинуло родину, чтобы не испытывать религиозного или политического гнета, однако едва ли не больше не сдвинулись с места, так как были готовы смириться с тяготившими их обстоятельствами. Я знаю, что из тех, кто покинул обжитое Восточное побережье, чтобы обосноваться на Среднем Западе, многие уехали с семьями; но тысячи тысяч мужчин – и молодых, и средних лет, и старых – уезжали в одиночку.
Они стекались к месторождениям Невады и Калифорнии. Когда Хорас Грили провозгласил: «Держи путь на Запад, парень!» – к чему он взывал, как не к юношеской любви к риску. Я разговаривал со множеством юношей, которые идут на войну. Большинство идет на войну, так как не могут этого избежать, кое-кто – так как считает это своим долгом, но мне не довелось встретить ни одного, который видит в войне волнующее приключение. Можно подумать, что молодые люди мечтают лишь покойно жить в родном городе и получить работу в конторе или магазине, где ничто не угрожает их безопасности.
* * *
Нравственные ценности.Вполне естественно впасть в некоторый трепет, когда приходишь к выводу, что теория, согласно которой нравственные ценности абсолютны и не являются плодом нашей умственной деятельности, ошибочна: ведь ее, как известно, придерживались многие философы. Казалось бы: будь нравственные ценности и впрямь абсолютными, а не плодом нашей умственной деятельности, человечество давным-давно определило бы, каковы они, и, сочтя их незыблемыми, неизменно ориентировалось на них. Однако отношение к нравственным ценностям меняется в зависимости от обстоятельств. А они могут меняться вместе со сменой поколений. У греков гомеровской эпохи были совсем иные ценности, чем у греков периода Пелопонесской войны, В разных странах они разные. Отстраненность, высоко ценимая индусами, как мне кажется, ничуть не ценится, европейцами; смирение, столь ценимое христианами, не имеет никакой ценности в глазах людей, исповедующих другую веру. В течение жизни я не раз видел, как нравственные ценности переставали считаться таковыми. В пору моей молодости понятию джентльмен придавали большую ценность; теперь же не только все, с этим понятием связанное, но и само это слово приобрело предосудительный оттенок. В уборных на одной двери часто видишь надпись «Дамы», на другой просто «Мужчины». Если правда все, о чем я слышу и читаю, то ценность целомудрия у незамужних женщин в англосаксонских странах за последние тридцать лет резко упала. В латинских же странах его до сих пор ценят весьма высоко. Впрочем, утверждать, что нравственные ценности должны, раз уж они не абсолютны, зависеть от наших предрассудков или предпочтений, было бы нечестно. Язык – и это общеизвестно – появился потому, что в нем возникла биологическая потребность. Так почему бы и нравственным ценностям не появиться по этой же причине? Разве не напрашивается вывод, что нравственные ценности родились в процессе эволюции человечества, потому что были ему насущно необходимы? Эта война преподнесла нам лишь один урок: если нация не уважает некоторые ценности, она неминуемо погибнет. И пусть эти ценности уважают лишь потому, что без них не выжить не только государству, но и отдельному человеку – они существуют и все тут.
* * *
Когда мы выиграем войну, я всей душой надеюсь, что мы не настолько поглупеем, чтобы вообразить, будто победили благодаря неким достоинствам, которых нет у наших врагов. Было бы большой ошибкой уверить себя, что мы одержали победу благодаря нашему патриотизму, храбрости, верности, честности и бескорыстию; они бы нам не помогли, не имей мы возможности производить в огромных количествах оружие и обучать колоссальные армии. Победила не правота, а сила. Что еще можно сказать о нравственных ценностях: только то, что если нация в целом не блюдет их, она, как видно на примере Франции, упустит, а то и вовсе не сочтет нужным обеспечить себя средствами защиты, без которых не отразить врага. Глупо было бы отрицать, что у наших врагов в почете кое-какие из тех же нравственных ценностей, что и у нас: это, как минимум, храбрость, верность и патриотизм. Но в почете у них и кое-какие ценности, которые мы отрицаем. Не исключено, что получи они власть над миром – что и было их целью – через сто лет их нравственные ценности мы приняли бы так же безоговорочно, как и те, что мы почитаем сегодня. «Сила права» – жестокие слова, и поэтому мы относимся к ним с предубеждением, тем не менее они неоспоримы. Из этого следует вывод: нация должна быть уверена, что у нее есть сила защитить свою правоту, как она ее понимает.
* * *
Олдос в первой из своих «Семи медитаций» пишет: «Бог есть. Это изначальная данность. Благодаря этому мы можем открыть сами, путем непосредственного опыта, что мы существуем». Бог у него выглядит круглым дураком!
* * *
Нелегкую задачу ставят перед собой те философы, которые стремятся поместить прекрасное в ряд других абсолютных ценностей. Называя нечто прекрасным, подразумеваешь, что оно вызывает в тебе некое чувство; но что такое это нечто, зависит от самого разного рода обстоятельств. Однако что это за абсолют, если он зависит от склада ума, впечатлений, моды, привычек, полового инстинкта и новизны? Казалось бы, раз некий предмет признан прекрасным, он, по самой своей природе, должен вечно сохранять красоту в наших глазах. Так нет же. Нам он прискучивает. Привычка порождает если не презрение, то безразличие; а безразличие – смерть для эстетического чувства.
* * *
Красота ценна, какой бы предмет ни был ею наделен, но подлинно ценной она становится лишь если возвышает душу и помогает воспринимать вещи более значительные, или вызывает чувства, помогающие их воспринимать. Но что такое, черт меня подери, душа?
* * *
Некоторые ощущения, вызванные событиями внешней жизни, способны пробудить то, что принято называть эстетическим восторгом. Но у него есть одна странная особенность: восторг может пробуждать и искусство не слишком высокого пошиба. Нет оснований полагать, что «Цыганка» Балфа вызывает менее искренний, подлинный и благотворный восторг, чем «Пятая симфония» Бетховена.
Теоретики искусства, которые объявляют абсолютом красоты то, что почитается таковым людьми с тонким, развитым просвещенным вкусом, слишком самонадеянны. У Хэзлитта, несомненно, был просвещенный, развитый и тонкий вкус, и тем не менее он ставил Корреджо вровень с Тицианом. Когда в пример приводят художников, чьи прекрасные творения представляются верхом совершенства, чаще всего называют Шекспира, Бетховена (а если это высоколобые знатоки искусства – Баха) и Сезанна. В случае с первыми двумя (или тремя) их, наверное, нельзя опровергнуть, но на чем зиждется их уверенность, что Сезанн будет восхищать последующие поколения также, как наше? Не исключено, что наши внуки отнесутся к нему так же холодно и равнодушно, как мы сегодня относимся к художникам Барбизонской школы, которыми некогда восхищались.
За мою жизнь эстетические оценки не раз круто менялись, так что суждения современников не представляются мне вескими. В отличие от Китса, я не считаю, что «Прекрасное пленяет навсегда». Прекрасное вызывает особое чувство в определенный момент и, если уж так случилось, дает все, чем может одарить. Глупо презирать людей, которые не разделяют наших эстетических пристрастий. Все мы этим грешим.
Видимо, физический облик расы, а с ним и идеал красоты, может измениться за жизнь одного-двух поколений. В пору моей юности красивой считалась англичанка с высокой грудью, тонкой талией и широкими бедрами. В ней виделась будущая многодетная мать. Теперь красивой считается англичанка тоненькая, узкобедрая, плоскогрудая и длинноногая. Не исключено, что такие фигуры вызывают восхищение, так как нынешние экономические обстоятельства не позволяют иметь много детей, и сложение, приближающееся к мужскому, привлекательно тем, что предполагает бесплодие.
Если судить по картинам и фотографиям, американец прошлого столетия был поджарым и долговязым, с резкими чертами лица, крупным носом, тонкими губами и волевым подбородком. Теперь пришлось бы немало потрудиться, чтобы найти человека, обладающего сходством с тем дядей Сэмом, какого любили изображать английские карикатуристы. Сегодняшний американец – пухлый, круглолицый, черты лица у него мелкие, чуть смазанные. Старится он плохо. В Америке встречаешь множество красивых молодых людей; но лишь немногие из них сохраняют привлекательность в пожилом возрасте.
* * *
Перечел Сантаяну.Приятное занятие, но когда, дочитав главу, остановишься и задашь себе вопрос: стал ли ты, прочтя ее, лучше или умнее, – не знаешь, что и ответить. Сантаяну принято хвалить за хороший слог, но слог хорош, когда фраза проясняет смысл, в случае Сантаяны она его лишь затемняет. Ему многое дано: фантазия, образность, умение подыскать удачное сравнение, блестящий пример; но не уверен, что философия нуждается в таком роскошном и пышном украшательстве. Оно отвлекает внимание читателя от хода авторской мысли, и у него может создаться неприятное впечатление, что автор не стал бы излагать свои умозаключения столь затейливо, будь они более убедительны.
По-моему, Сантаяна обязан своей репутацией в Америке достойной жалости убежденности американцев, что все иностранное гораздо выше отечественного. Так они с гордостью будут потчевать вас французским камамбером, хотя их собственные сыры ничуть не хуже, а то и лучше привозных. Я полагаю, Сантаяна сбился с пути. При его иронии, остроумии, здравом смысле, житейской умудренности, чуткости и восприимчивости, ему, мне кажется, следовало бы писать романы с философским уклоном на манер Анатоля Франса, и они бы еще долго доставляли удовольствие читателям. Образованностью он превосходит француза, язвительным остроумием равен ему, кругозор у него шире, ум изощреннее. Американская литература понесла урон от того, что Сантаяна предпочел стать философом, а не романистом. Но раз уж так случилось, лучше всего читать небольшие эссе, которые Пирсолл Смит выбрал из его произведений.
* * *
Смирение– это добродетель, которую нам предписывают. И если речь идет о художнике – не без оснований; и впрямь, когда художник сравнивает то, что сделал, с тем, что замыслил, когда сравнивает свои не оправдавшие ожиданий достижения с великими мировыми шедеврами, эта добродетель дается ему лучше всего. Без смирения он вряд ли мог бы надеяться работать лучше. Самодовольство для него губительно. Но вот что странно – чужое смирение обескураживает. Нам не по себе, когда кто-то унижает себя перед нами. Наверное, нам видится в этом нечто сервильное, оскорбляющее наше человеческое достоинство, иного объяснения подыскать не могу. Я решил нанять двух цветных горничных, и надсмотрщик плантации, которого я попросил подобрать мне прислугу, желая отрекомендовать их как нельзя лучше, сказал: «Это хорошие негритоски, смирные».
Иной раз, когда одна из них, прикрывая лицо рукой или нервно хихикая, спрашивает, нельзя ли взять какую-то выброшенную мной ерунду, я с трудом удерживаюсь, чтобы не крикнуть: «Бога ради, да не унижайтесь вы так!»
А что если чужое смирение напоминает нам о собственном ничтожестве?
* * *
Но почему человеку надлежит смириться, когда он явится пред лицом Господа? Потому что Господь превосходит его и мудростью, и силой? Это еще не основание. Точно так же и моей горничной нет нужды унижаться передо мной только потому, что у меня кожа белее, денег больше и образование получше. По-моему, это Богу следует испытывать смирение при мысли о том, что из сотворения человека у него ничего путного не вышло.
* * *
Не знаю, почему критики полагают, что писатели всегда пишут в полную силу своего дарования. Писателю редко удается написать так, как хотелось бы: выше головы не прыгнешь.
Шекспироведы меньше ломали бы головы, если бы, наталкиваясь в его пьесах на явную несуразицу, не искали ему оправдания вопреки здравому смыслу, а признали бы, что Шекспир там-сям дал маху. По-моему мнению, и тут меня никто не переубедит, он и сам сознавал, что из-за слабых мотивировок кое-какие его пьесы совершенно неправдоподобны. С какой стати критики утверждают, будто он не придавал этому значения? На мой взгляд, это не так, и тому имеются доказательства. Иначе с какой стати он заставил бы Отелло объяснять, что пресловутый платок подарил его матери египтянин, если б не сознавал, что эпизод с платком уж слишком неуклюжий? Думаю, критики сберегли бы много времени, признав, что Шекспир и рад был бы придумать что-нибудь получше, да не сумел.
* * *
Рослый, крепко сколоченный, с копной вьющихся золотистых волос, поблескивающих на солнце, с ярко-синими глазами и приветливым, открытым выражением лица. Не получил почти никакого образования, чудовищно говорит по-английски. Однако ничуть не тушуется. Держится непринужденно, легко завязывает разговор, знакомится. Он летчик. Как-то он рассказывал об одном случае из своей жизни. «До этого я не верил в Бога, но, попав в переплет, стал молиться. Господи, сказал я, дай мне дожить до завтрашнего дня». И повторял это снова и снова.
* * *
Миниатюрная, с темными волосами, темными глазами; свеженькая, подтянутая. Из-за превратностей войны ей пришлось уехать далеко на юг, до тех пор она всегда жила в Портленде, что в штате Орегон, и обо всем судит, исходя из правил и обычаев, принятых в тех местах. Ко всему, что не подходит под эти мерки, относится с неприязнью и презрением. Считает, что ни в чем другим не уступает и будет поумнее многих, и тем счастлива, но совершенно теряется, когда вот как здесь – попадает в общество людей классом выше, что ей не без смущения приходится признать. Она и робеет, и нахальничает одновременно; робеет, так как боится, что ее не оценят по достоинству, а нахальничает, так как решила, что помыкать собой не позволит. До замужества работала секретаршей у бизнесмена и у нее никогда не было слуг. В ней борются гнев и смятение, она считает, что держать прислугу недемократично, но почему она полагает менее демократичным, когда за тебя варят обед, чем пишут письма, не вполне понятно. Заботы хозяев она расценивает как обидное покровительство и все, что для нее делают, принимает как должное: ведь ей пришлось покинуть родной город. Жителей восточных штатов она недолюбливает; считает их заносчивыми, напыщенными, чванными воображалами; по сути, она испытывает к ним такое же отвращение, как американцы к англичанам. Она сравнивает южан с жителями Портленда, и сравнение не в их пользу.
* * *
Будет весьма прискорбно, если из-за эгоизма, недальновидности или глупости союзники, ужаснувшись немецким злодеяниям, не захотят после войны перенять положительные свойства немцев. Немцы беспощадны, жестоки, вероломны, коварны, деспотичны, бесчестны и продажны. Все так, именно так. Но они привили народу прилежание и дисциплину. Они постарались, чтобы их молодежь стала сильной, мужественной и смелой. Приучили их бестрепетно жертвовать собой ради общего блага. (Неважно, что они понимают общее благо иначе, чем мы.) Патриотизм у них стал мощной и действенной силой. Все это хорошие черты, и нам надо бы их перенять. Историю следует знать. Итальянские республики надеялись сохранить свободу, покупая за звонкую монету своих врагов и препоручая охрану границ наемникам. История итальянских республик учит: если граждане не готовы сражаться за свое государство, если они не хотят тратить деньги, чтобы обеспечить себя оружием, им не удержать свободу.
* * *
Сентенцию– не видать свободы тому, кто не готов хоть отчасти ею поступиться, – затрепали. Ее всегда забывают.
* * *
Мне приятно, когда друг хлопает меня рукой по спине и говорит, что я славный малый, но мне не по душе, если он одновременно запускает другую руку мне в карман.
* * *
Мошенник, сидел в тюрьме. Сейчас он в армии и очень этим тяготится. Ему только что снова присвоили очередной чин, и он от этого впал в тоску; ненавидит жизнь, говорит, что всегда терпел одно разочарование за другим: все его планы неизменно осуществлялись, и ему не для чего жить.
* * *
Захлебываясь от восторга, она спросила: «Каково быть знаменитостью?»
Мне задавали этот вопрос раз, наверно, двадцать, и я всегда терялся, но тут – слишком поздно – меня осенило:
«Это все равно, что получить в подарок нитку жемчуга. Приятный подарок, ничего не скажешь, но спустя некоторое время о нем забываешь, разве что порой кольнет мысль: а настоящий это жемчуг или поддельный?»
Теперь этот вопрос не застигнет меня врасплох, но скорее всего, больше мне его никто не задаст.
* * *
Канализация.Как подумаешь, до чего равнодушны американцы к качеству приготовления пищи и самих продуктов, которыми они насыщаются, поневоле поразишься тому, сколько внимания они уделяют механизмам, предназначенным для выведения пищи из организма.
* * *
Жизнь одновременно и трагична и банальна: она не что иное, как мелодрама, в которой благороднейшие чувства служат лишь для того, чтобы возбуждать низкопробные переживания у пошлой публики.
* * *
Будем есть, пить, веселиться, все равно завтра умрем. Да, но умирать нам предстоит в отчаянии и муках; правда, не всегда – порой мы умираем, покойно сидя в кресле, прихлебывая виски с содовой после отличной партии в гольф, или в своей постели, во сне, даже не осознав, что нам пришел конец. В таких случаях, надо полагать, мы посмеиваемся над теми, кто не знали отдыха и не оставляли усилий, пока их не настигала смерть, когда они еще столько хотели сделать.
* * *
Ему приписывают всемогущество, всеведение и все, что угодно; меня поражает, что его никогда не наделяют здравым смыслом и отказывают ему в терпимости. Знай он так хорошо природу человека, как я ее знаю, он знал бы, как слаб человек, как не властен над своими страстями, знал бы, какой страх в нем живет, как он жалок, знал бы, как много хорошего таится в сердце самого дурного человека и как много дурного в лучшем из них. Если он способен чувствовать, значит, он способен и сожалеть, и если он размышляет о том, что с сотворением рода человеческого у него вышла незадача, он должен испытывать не что иное, как сожаление. Диву даешься, почему он не использует свое всемогущество, чтобы упразднить себя. А может быть, он так и сделал.
Что толку в знании, если оно не помогает поступать правильно? Но что значит поступать правильно?
* * *
Обмануть меня один раз может любой; я не в претензии, я предпочитаю быть обманутым, чем обманывать сам, и только смеюсь над тем, как меня одурачили. Но я приму меры, чтобы тот же самый человек не обманул меня во второй раз.
* * *
Что так огорчает, когда друг поступает с тобой дурно? Собственная наивность или самолюбие?
* * *
Писателю следует помнить: нельзя слишком много разъяснять.
* * *
Г. К.Он знал, что X. мошенник, но считал, что тот обжулит кого угодно, только не его. Он не знал, что мошенник – сначала мошенник, и лишь затем друг. И вместе с тем в мошенничестве X. для меня есть какое-то жутковатое очарование. Он разорил Г. К. и улизнул в Америку, чтобы избежать суда. Я встретил его в Нью-Йорке, он обедал в дорогом ресторане, был, как всегда, весел, приветлив, бодр и благожелателен. Судя по всему, искренне обрадовался мне. Никакой неловкости не чувствовал, и если кому и было не по себе, так это мне, а не ему. Уверен, угрызения совести не терзают его по ночам.
* * *
Казалось бы, нет ничего легче, чем поблагодарить человека, оказавшего услугу, и тем не менее большинство всячески этого избегает. Наверное, их гордость подсознательно восстает при мысли, что теперь они у тебя в долгу.
* * *
Только что закончил перечитывать «Что мы знаем о внешнем мире» Рассела. Допускаю, что философия, как он утверждает, не решает или не пытается решить проблему человеческого предназначения; допускаю, что она не должна питать надежд найти ответ на практические житейские вопросы: у философов и без того хватает дел. Но кто, в таком случае, объяснит нам, есть ли в жизни смысл и что такое человеческое существование: не трагическая ли это – да нет, «трагическая» – слишком возвышенное определение, – так вот, не нелепая ли это оплошность?
Живя в Америке, скоро начинаешь замечать, что главный здесь грех – зависть. Последствия ее плачевны: здесь подвергают осуждению вещи, сами по себе хорошие. Как ни странно, но отличные манеры, умение одеваться, безукоризненный английский, изящество в быту здесь считается признаком претенциозности и даже вырождения! Тому, кто учился в хорошей закрытой школе, в Гарварде или Йеле, следует вести себя крайне осмотрительно, если он не хочет возбудить недобрые чувства в тех, кто был лишен этих преимуществ. Когда видишь, как просвещенный человек держится со всеми запанибрата и говорит в несвойственной ему манере, чтобы его не сочли – напрасная надежда! – зазнайкой, на него жалко смотреть. Все бы ничего, если бы завистники стремились подтянуться до уровня тех, кому завидуют, так нет же – они стремятся опустить их до своего уровня. Их идеал «славного парня» – человек с волосатой грудью, который, сняв пиджак, рыгая поедает пироги.
* * *
Где-то в «Мелочах» Пирсолл Смит не без самодовольства заметил, что авторы бестселлеров питают зависть к хорошим писателям. Это заблуждение. Они относятся к ним с полным безразличием. Смит имеет в виду писателя иного толка: его произведения хотя и хорошо продаются, но вовсе не в таких количествах, как настоящие бестселлеры, к тому же он считает себя писателем и его убивает, что критика недооценивает его. Таков был Хью Уолпол; я не сомневаюсь, что он с радостью променял бы свою популярность на уважение интеллигентов. Он униженно стучался в их двери, умоляя впустить его, но они, что его крайне огорчало, лишь смеялись над ним. У автора настоящих бестселлеров таких желаний быть не может. Я знал покойного Чарльза Гарвайса. Его читали все служанки и продавщицы Англии и далеко не только они. Как-то раз в «Гаррике» Гарвайса при мне спросили, каков общий тираж его книг. Поначалу он уклонился от ответа. «Стоит ли об этом говорить», – сказал он, но от него не отставали, и он, раздраженно передернув плечами, в конце концов ответил: «Семь миллионов». Человек он был скромный, непритязательный, с отличными манерами. Я убежден: когда он усаживался за стол, чтобы накатать одну из своих бесчисленных книженций, он писал в порыве вдохновения, вкладывая в очередной роман всю душу.
И в этом вся штука: никому из тех, кто ставил перед собой задачу написать бестселлер, это не удавалось. Писать надо с предельной искренностью; уморительные штампы, стертые образы, затрепанные ходы, до невозможности избитый сюжет автору бестселлеров не кажутся ни стертыми, ни затрепанными, ни избитыми. Напротив, он считает их новыми и подлинными. Он ничуть не менее увлечен творениями своей фантазии, чем Флобер – мадам Бовари. Много лет тому назад мы с Эдуардом Ноблоком решили написать сценарий. Это была леденящая кровь мелодрама; нагромождая один захватывающий эпизод на другой, мы смеялись до упаду. Работа над сценарием заняла у нас две недели, мы повеселились вволю. Сценарий вышел вполне профессиональный, ловко построенный и увлекательный; но никто, не взирая на наши старания, не захотел его поставить. Все, кому мы показывали наш сценарий, говорили одно и то же: «Судя по всему, вы потешились вволю, когда его писали». Так оно и было. Вывод ясен: если сам не веришь в то, что пишешь, никто в это не поверит. Бестселлер идет нарасхват, потому что автор пишет кровью сердца. По самой своей природе он искренне разделяет чаяния, предрассудки, чувства и взгляды большинства читателей. Он дает им то, что они хотят, потому что сам хочет того же. Читатели мигом уловят малейшую неискреннюю ноту в произведении и отторгнут его.
* * *
До чего же не повезло людям: плотские желания у них сохраняются еще долгое время после того, как они перестают возбуждать желания. Не вижу ничего дурного в том, что они удовлетворяют их, но лучше бы им об этом помолчать.
* * *
Он сказал, что его жена молчунья, и он не знает, как ее разговорить. «За чем же дело стало? – спросил я. – Возьмитесь за газету. И она застрекочет, как сорока».
* * *
Век за веком сатирики высмеивают стареющую женщину, которая преследует избегающего ее домогательств юношу, тем не менее, стареющая женщина никак не оставляет своих домогательств.
* * *
Ее не назовешь глупой, она умна. Она не читает газет, не слушает радио: раз она не может остановить войну, говорит она, так что толку засорять себе голову. Искренне не понимает, почему ты предпочитаешь последние новости ее рассказам о себе.
* * *
Я дал ей прочесть сигнальный экземпляр моей книги. Она рассыпалась в похвалах, но каждое ее похвальное слово убивало меня. Понадобилась вся выдержка, чтобы не оборвать ее, а наоборот, сделать вид, что я благодарен и польщен. Сколько я думал, сколько бился над этой книгой, сколько трудов проштудировал, готовясь к ней, – и если в ней есть лишь то, что вычитала эта дама, – значит, все впустую. Я пытался убедить себя, что она увидела в моей книге лишь суетность и легковесность, так как она сама суетна и легковесна. Не исключено, что от книги получаешь лишь то, что вкладываешь в нее, и видишь в ней лишь то, что сам собой представляешь. Так что оценить душевную ясность «Федона» можно лишь в том случае, если и в тебе самом есть хоть крупица ясности, а благородство «Потерянного рая» – если сам не совсем лишен благородства. Это совпадает с моей старой мыслью о том, что в художественном произведении писателю удаются лишь те персонажи, в которых отражены какие-то черты его личности. Других персонажей он не создает, а описывает, и они получаются не слишком убедительными. В случае, если это утверждение верно, из него следует вывод: изучая наиболее удавшихся автору персонажей, написанных с наибольшим сочувствием и пониманием, гораздо объемнее представляешь личность автора, чем по любой из его биографий.








