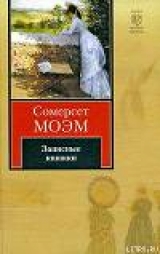
Текст книги "Записные книжки"
Автор книги: Уильям Моэм
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
«Бывает знание, что приходит из головы, а бывает знание, что приходит из сердца. Я прислушался к сердцу и сказал то, что услышал».
* * *
Молодой офицер, возвращавшийся пароходом домой в Англию, изо дня в день усаживался на палубе и сосредоточенно читал книги о Тадж-Махале. На вопрос, почему он читает именно эти книги, он ответил:
– Понимаете, я четыре года прослужил в Агре, а Тадж-Махала так ни разу и не видел. Но я наверняка знаю, что дома меня непременно будут про него расспрашивать, вот и решил к приезду все это вызубрить.
Тадж-Махал.Я видел немало его изображений и ожидал многого, но когда он впервые предстал передо мною в полном блеске, с террасы главного входа, то ошеломил меня своей красотой. Я был по-настоящему потрясен и попытался разобраться в своих чувствах, пока они не утратили остроты. Я знаю по опыту, что слова «от этого захватывает дух» – вовсе не пустая метафора. В те минуты я в самом деле испытывал нечто вроде одышки. В сердце возникло необычное восхитительное ощущение, будто оно вдруг резко расширилось. Меня охватили сразу изумление и радость, а еще, мне кажется, чувство освобождения. Правда, как раз в ту пору я читал книги про философию самкхья, а в ней искусство рассматривается как некое временное освобождение, сродни тому, которое считается высшей целью любой индийской религии; не исключено, что я просто перенес впечатление от прочитанного на собственные ощущения.
Однако я не способен испытывать экстаз при повторном созерцании шедевра, и на следующий день, придя в Тадж ровно в тот же час, уже чисто рассудочно восхищался этим зрелищем. Впрочем, я был вознагражден и совсем новым впечатлением. На закате я забрел в мечеть. Там не было ни души. Я окинул взглядом приделы, и от их пустоты и безмолвия меня охватило жутковатое, непостижимое чувство. Я даже слегка испугался. Выразить испытанное я могу только следующим, не очень осмысленным образом: мне казалось, я слышу бесшумную поступь беспредельности.
* * *
Сундарам.Описывать индийца невероятно трудно. Возможно, потому, что очень мало знаешь о его прошлом, об окружавшей его обстановке; возможно, потому, что вообще знаешь сравнительно мало индийцев, так что не с кем сравнивать; может быть, потому, что натура у них очень гибкая, словно лишенная четко выраженных особенностей; а скорее всего, они приоткрывают тебе лишь то, что хотят, или то, что, по их представлениям, тебе понравится либо вызовет у тебя интерес. Сундарам, мадрасец по происхождению, был коренаст, довольно толст, среднего по европейским меркам роста, не слишком смуглокож; ходил он в набедренной повязке, белой рубахе и шапочке, как у Ганди. У него был короткий толстый нос и крупный рот с мясистыми губами. На лице то и дело вспыхивала сияющая улыбка. Он, как я заметил, не без удовольствия упоминает в разговоре знакомых ему знатных персон – единственное, пожалуй, проявление его тщеславия. Он отличался бесконечной добротою. Воспитанный в пуританской строгости, он, по его собственным словам, ни разу в жизни не был ни в театре, ни в кино. При этом обладал тонкой поэтической натурой: красивый пейзаж, реки, цветы, дневное небо и небо ночное вызывали у него восторг. Чуждый логике, он не проявлял ни малейшего интереса к ученым спорам. Свои взгляды и верования он воспринял из многовековой индийской культуры, а также непосредственно от своего гуру; Сундарам охотно и подолгу рассуждал об этих верованиях, но их обоснованность его ничуть не заботила. Не смущало и то, что его взгляды противоречат друг другу. Он руководствовался чувствами и интуицией, в них он верил слепо. Как правоверный индус неукоснительно соблюдал все обычаи касательно пищи, омовений, медитации и прочего. Питался главным образом молоком, фруктами и орехами. Однажды, рассказывал он, занимаясь серьезной работой, требовавшей умственного напряжения, он полгода жил на одном молоке и хранил полное молчание. Он с проникновенной искренностью толковал мне о самоотречении, об Абсолюте и о Боге, живущем в каждом из нас: Бог есть все, мы все – тоже Бог. По любому поводу у него было наготове несколько образных выражений, которые в ходу у индийцев уже много столетий, пользовался он ими очень к месту, и было ясно, что в его представлении это вполне убедительные аргументы. Красивый оборот речи, в котором упоминается Ганг, обладал для него неопровержимостью силлогизма. Он гордился своим семейством и был несомненно предан жене и детям. Дети были воспитаны превосходно. Сам он встает в пять утра и предается медитации. Он убежден, что этот ранний час – самое подходящее время для такого занятия. Я видел его в компании студентов университета. Он был с ними очень внимателен и любезен, но без приторности, порою свойственной миссионерам по отношению к новообращенным, – он держался естественно и просто.
* * *
Создатель империи.Седой генерал с белой щеточкой усов, мускулистый, но не толстый, с багровым лицом, голубыми глазами и яйцевидной головой. Каждое утро он в шесть часов выезжал на верховую прогулку; в комнате у него стоял гребной станок, на котором он тренировался, прежде чем принять ванну; как только жара чуточку спадала, он уже был на теннисном корте и играл напористо, с изрядным мастерством (он хвастался, что способен достойно сражаться с соперниками вдвое его моложе, и предпочитал одиночную игру, поскольку в ней физическая нагрузка больше), играл до темноты, когда уже и мяча не видно; вернувшись к себе, садился за гребной станок и еще четверть часа тренировался в гребле, а уж потом принимал ванну. «В этой стране необходимо поддерживать форму, – говаривал он и недовольно добавлял: – Нагрузки мне здесь не хватает». Он прожил в Индии тридцать лет. «Единственное, что делает жизнь в Индии сносной, это охота. Я знавал много охотников-туземцев, парни были первый класс; поверьте, на них можно было положиться, почти как на англичан, и стрелки первостатейные, дело свое знали до тонкостей, одним словом, если бы не цвет кожи, настоящие белые люди. Я, поверьте, не преувеличиваю. Факт».
* * *
Ашварт.Он мне рассказывал, что, изучая в колледже философию, никак не мог понять слова учителя о том, что все окружающее и есть ты сам. Разве можно утверждать, что ты есть вон тот стол, а стол – это ты? Это казалось бессмыслицей. Но однажды он это постиг. Отправился он как-то в Майсур полюбоваться великими водопадами и долго ехал на автобусе через джунгли. До того он никогда не видал больших деревьев, а тут автобус шел по дороге, будто проложенной сквозь зеленый туннель, и кроны смыкались высоко над головою; Ашварта охватил трепет восторга, Прибыли к водопаду. Подойдя к краю огромной круглой впадины, он увидел перед собой гигантскую массу воды – дело было после сезона дождей, – падавшую с чудовищной высоты. Он испытал необычайное чувство: ему казалось, что он и есть вода, что он падает, как вода, что вода это он; он и вода – одно целое, понял он. Сейчас ему тридцать восемь лет, для индийца с Деканского плоскогорья он довольно высок, сантиметров, наверное, на пять выше меня; волосы у него черные, волнистые от природы, только начинающие седеть, но лицо по-прежнему очень молодое, на лбу почти ни единой складки, под глазами ни морщинки; глаза большие и влажные, нос короткий, но красивой формы, рот довольно большой, полногубый; маленькие уши прижаты к черепу, но мочки длинные, мясистые, напоминающие мочки ушей Гаутамы на его многочисленных изображениях, но, разумеется, не такие огромные. Лицо чисто выбрито, но волосы на подбородке растут так буйно, что даже после бритья сквозь его смуглую, медового цвета кожу чернеет щетина. Он не красив, но выражение глубокой искренности придает ему какую-то особую привлекательность. У него великолепные зубы, очень белые и ровные. Руки крупнее, чем у большинства индийцев.
Он носит дхоти из самого дешевого хлопка, такую же рубаху и шапочку, вроде той, что носил Ганди; как всякий индиец, добившийся высокого общественного положения, носит шарф; на ногах кожаные сандалии. По-английски говорит бегло, хотя в Англии не бывал никогда, голос у него звучный и приятный. Его искренность и добросердечие бросаются в глаза, а вот в его уме я не был столь же уверен. Все свои идеи он выносил сам и понятия не имеет, сколь многие из них, рожденные им в долгих размышлениях, – увы, банальны и убоги. Неловко становится, когда он с неподдельным чувством изрекает донельзя плоские истины. Впрочем, время от времени его осеняет недурная и даже свежая мысль.
За несколько бунтарских статей, которые он опубликовал в собственной газете, его арестовали и приговорили к году тюремного заключения. Посадили в одиночную камеру, чтобы он своими разговорами не оказывал пагубного влияния на других заключенных; к работе его не принуждали, он вызывался сам и вместе с другими плел в цехе ковры. Свое заключение переживал очень тяжело. По его рассказам, он часами плакал, а порою его охватывало неодолимое желание вырваться на волю, он с воплями бился в окованную железом дверь, пытаясь ее взломать, пока наконец не падал без сил на циновку и тут же засыпал. За четыре месяца заключения он так разболелся от тюремной еды, что его положили в больницу, где он и провел остававшиеся по приговору месяцы. Там-то он и принял решение отказаться от всего, чем владел. Но судебное разбирательство обошлось ему очень дорого, в газете, пока он сидел в тюрьме, дела шли все хуже, а потому, выйдя на свободу, он оказался по уши в долгах. Несколько лет ушло на то, чтобы вернуть деньги кредиторам. А затем, собрав всех своих служащих, он передал им и газету, и печатные станки, все, поставив одно-единственное условие: выплачивать его матери тридцать рупий в месяц на прокормление ее самой, а также его жены, сестры и двоих детей.
Я попытался выяснить, как восприняли такое решение его домочадцы.
– Оно им не понравилось, – спокойно, даже небрежно бросил он, – но тут уж ничего не попишешь. Поступая так, как считаешь верным, непременно доставишь кому-нибудь страдания или неудобства.
Когда он родился, астролог составил гороскоп и предрек, что он станет либо очень богатым, преуспевающим человеком, повелевающим другими людьми, либо святым отшельником. В течение многих лет Ашварт стремился добиться богатства и славы, но когда он решил отказаться от всего, чем владел, его мать, помня предсказание астролога, не удивилась, хотя опечалилась сильно. Что же он скажет сыну, спросил я, когда мальчик вырастет и упрекнет отца за то, что, родив на свет, он лишил его приличного положения в обществе и хорошего образования, предоставив ему вместо этого получать лишь очень примитивные знания и навыки, с которыми ему не подняться выше простого работника? Ашварт спокойно улыбнулся в ответ.
– Наверное, упрекнет, – сказал он, – но ведь у него будет крыша над головой и пища, которые ему обеспечил я. Не понимаю, почему, родив на свет сына, надо непременно тратить свою жизнь только на то, чтобы его жизнь стала лучше твоей. У меня прав не меньше, чем у него.
Он рассказал историю, которая мне понравилась. Раздав все свое имущество, он на следующий день отправился навестить друга, жившего в нескольких милях от Бангалура. Туда он пошел пешком, а на обратном пути, устав, сел на проходящий автобус, но внезапно вспомнил, что в кармане у него пусто. Пришлось остановить автобус и сойти. Я спросил его, где он находит пристанище.
– Если мне предлагают кров, сплю на веранде, если не предлагают, ночую под деревом.
– А еда?
– Если мне предлагают поесть, ем, если не предлагают, обхожусь без еды, – просто ответил он.
Познакомился я с ним довольно любопытным образом. Я уже во второй раз жил в Бомбее; он прислал из Бангалура письмо с просьбой разрешить ему приехать ко мне, поскольку он был уверен, что я открою ему нечто для него очень важное.
– Я человек самый обыкновенный, – ответил я, – просто писатель и не более того, так что вряд ли стоит пускаться в двухдневное путешествие, только чтобы встретиться со мною.
Он, тем не менее, приехал. Я спросил, где он достал денег на дорогу, он ответил, что пошел на станцию и стал ждать. Через некоторое время он разговорился с человеком, ожидавшим своего поезда, и сказал, что направляется ко мне, но не имеет денег на проезд. Тот человек купил ему билет. Я предложил оплатить ему дорогу домой, но брать у меня деньги он не пожелал.
– Доберусь как-нибудь, – улыбаясь, сказал он.
Два дня подряд мы вели долгие беседы. Все это время меня терзала мысль, что он ждет от меня каких-то откровений или хотя бы глубокой идеи. Мне нечего было ему предложить. Он, конечно же, был сильно разочарован; вероятно, следовало наговорить ему трескучей напыщенной чуши, но это было свыше моих сил.
* * *
Гоа.Едешь через рощи кокосовых пальм, среди них там и сям виднеются развалины домов. В лагуне плавают рыбацкие лодки, их треугольные паруса ярко белеют под ослепительным солнцем. В рощах высятся большие белые церкви, украшенные с фасада каменными пилястрами медового цвета. Высокие просторные церкви совершенно пусты; кафедры в стиле португальского барокко покрыты изысканнейшей резьбой, так же отделаны и алтари. В одном из храмов, в боковом приделе священник-индиец совершал у алтаря мессу, ему прислуживал смуглолицый псаломщик. Во всей церкви не было ни единого прихожанина. Во францисканском храме приезжим показывают деревянное распятие, и проводник сообщает, что за полгода до разрушения города из глаз Христа катились слезы. В кафедральном соборе шла служба, играл орган, пел стоявший рядом небольшой хор из местных жителей; голоса их звучали резко, и от этого католические песнопения почему-то приобретали непостижимо языческий, индийский характер. Зрелище огромных пустых церквей в безлюдном городе производило странное, но сильное действие, особенно от сознания того, что изо дня в день священники служат в них мессу, которой не слушает ни единая живая душа.
* * *
Священник.Он приехал в гостиницу специально познакомиться со мною. Это был высокий индиец, не худой и не толстый, лицо красивое, чуть грубоватое, глаза большие, темные, влажные, со сверкаюшими белками. Одет в сутану. Поначалу он очень нервничал, руки его беспокойно двигались, но я всячески старался создать непринужденную обстановку, и наконец его руки замерли. Он великолепно говорил по-английски. Рассказал, что родом из семьи браминов, одного его предка, тоже брамина, обратил в христианство кто-то из спутников Св. Франциска Ксаверия. Священнику едва перевалило за тридцать, он был могучего сложения и хорош собою. Обладал низким и мелодичным голосом. Шесть лет он прожил в Риме, во время пребывания в Европе много путешествовал. Ему хотелось вновь поехать туда, но его престарелая мать пожелала, чтобы он оставался в Гоа до ее смерти. Он работал в школе и читал проповеди. Большую часть времени занимался тем, что обращал в христианство индийцев шудра. Индусов же, принадлежащих к высшим кастам, бесполезно пытаться обратить в истинную веру, утверждал он. Я решил вызвать его на разговор о религии. По его мнению, христианство способно объять все прочие вероучения, но жаль, сказал он, что Рим не позволил индийской церкви развиваться в соответствии с местными особенностями. Насколько я мог судить, он принимает догматы христианства без излишнего рвения, скорее как епитимью; быть может, если докопаться до самых основ его убеждений, там обнаружится, как минимум, изрядный скептицизм. И хотя за его спиною четыре столетия католицизма, в глубине души, мне кажется, он остался приверженцем веданты. Не сливается ли, думал я, пусть не в сознании, но хотя бы где-то в тайных глубинах его подсознания христианский Бог с Брахманом из упанишад? Он мне рассказал, что даже среди христиан кастовая система еще настолько сильна, что ни один индиец не женится на девушке другой касты. Немыслимо, чтобы христианин из рода браминов женился на христианке-шудре. Он не без удовольствия сообщил мне, что в его жилах нет ни капли крови белого человека: в семье всегда твердо блюли чистоту крови.
– Мы, конечно, христиане, – заключил он, – но прежде всего мы индусы.
К индуизму он относился терпимо и сочувственно.
* * *
Заводи Траванкура.Это узкие каналы, более или менее искусственные; вернее, естественные протоки здесь соединили каналами, чтобы проложить водный путь от Тривандрама до Кочина. По берегам высятся кокосовые пальмы, у самой воды стоят лачуги из камыша с глинобитными крышами, при каждой лачуге свой огороженный участок, на котором растут банановые деревья, папайи, кое-где хлебное дерево. Дети играют, женщины сидят праздно или толкут рис, в легких одновесельных лодчонках снуют туда-сюда мужчины и подростки, частенько перевозя груды кокосов, листьев или корма для скота, многие с берега рыбачат. Мне повстречался один такой рыбак с луком, стрелами и небольшой низкой подстреленной рыбы. Все, от мала до велика, здесь же и купаются. Вокруг зелено, прохладно, тихо. Возникает странное ощущение: неспешно идет мирная пасторальная жизнь, простая и не слишком тяжкая. Время от времени проплывает большая баржа, которую двое вооруженных шестами мужчин ведут из одного города в другой. Кое-где проглядывает скромный маленький храм или часовенка, ведь население здесь в большинстве христиане.
* * *
Река заросла водяными гиацинтами. Эти растения с нежными розовато-лиловыми цветами растут не из почвы, а прямо из воды; они плавают на поверхности, и лодка раздвигает их, оставляя за собой полосу чистой воды; но не успеет она отплыть, как течением и ветром их сносит на прежнее место, и от появления лодки не остается и следа. Не ждет ли и нас то же самое, после того как мы слегка нарушим равномерное течение жизни?
* * *
Премьер-министр одного индийского княжества. Мне говорили, что он политик не только хитрый, но и беззастенчивый. Его считали умным и в той же мере лукавым. Это был коренастый крепыш, не выше меня ростом, с живыми, не очень большими глазами, широким лбом, крючковатым носом, полными губами и маленьким круглым подбородком. У него густые, пушистые, коротко стриженные волосы. Ходил он в белом дхо-ти, белом кителе, воротник которого туго охватывал его шею, и в белом шарфе; на босых ногах сандалии, которые он то сбрасывал, то надевал снова. Он обладал тою сердечностью, что свойственна политикам с многолетним стажем, привычно старающимся проявлять душевность по отношению к каждому встречному. По-английски говорил прекрасно, бегло, запас слов богатейший, мысли свои выражал ясно и логично. У него был звучный голос и непринужденные манеры. Он часто не соглашался с моими высказываниями и решительно поправлял меня, но делал это с тою учтивостью, которая как бы подразумевает, что я слишком умен, чтобы обижаться на возражения. Он был, естественно, очень занятым человеком, ведь на нем лежал груз государственных дел, однако мог битый час рассуждать об индийской метафизике и религии с таким увлечением, словно этот предмет интересовал его более всего. Он обнаруживал глубокие познания не только в индийской, но и в английской литературе, однако ничто не говорило о его хотя бы поверхностном знакомстве с литературой или научной мыслью других европейских стран.
Когда я заговорил о том, что религия в Индии является основой всей здешней философии, он меня поправил:
– Нет, это не совсем так, в Индии вообще нет религии в вашем понимании этого слова. Здесь существуют философские учения и теизм, а одним из вариантов теизма является индуизм.
Я спросил его, по-прежнему ли образованные культурные индусы верят в карму и переселение душ.
– Я и сам безоговорочно, всем моим существом в это верю, – убежденно сказал он. – Ничуть не сомневаюсь, что до этой жизни я прожил бесчисленное количество других, и не знаю, сколько их еще придется прожить, прежде чем я получу избавление. В учении о карме и переселении душ я только и могу найти объяснение неравенству людей и мировому злу. Без этой веры все на земле для меня лишилось бы смысла.
– Может быть, благодаря своей вере индус меньше боится смерти, чем европеец, – предположил я.
Он не спешил с ответом и, как это за ним, по моим наблюдениям, водилось, заговорил о чем-то другом; я уж было решил, что он не ответит вовсе. И тут он сказал:
– Индиец не похож на японца. Тому ведь с раннего детства внушают, что жизнь не стоит ломаного гроша и есть несколько высших целей, ради которых он должен быть готов без малейших колебаний пожертвовать ею. Индиец смерти боится, но не потому, что она положит конец его жизни. Он боится ее из-за полной неизвестности, в каком обличье он возродится снова. У него нет ни малейшей уверенности, что в новой жизни он станет брамином, ангелом или тем более богом – он может возродиться шудрой, собакой или червем. При мысли о смерти он боится будущего.
* * *
Музыкант, игравший на вине.Полноватый сорокалетний мужчина с чисто выбритым лицом; спереди полголовы у него было тоже обрито, на затылке длинные волосы стянуты в узел. Одет в дхоти и рубаху без воротника. Играл он, сидя на полу. Инструмент его был затейливо разукрашен, покрыт рельефной резьбой и оканчивался драконьей головою: Он играл часа два, время от времени перемежая игру несколькими тактами старинной, из глубины веков дошедшей до нас песни, но чаще сравнительно недавними сочинениями прошлого века: в правление махараджи Траванкура, который сам был тонким музыкантом, искусство очень почиталось. Это музыка сложная, требующая сосредоточенного внимания, и я, пожалуй, не смог бы ее воспринимать, не будь немного знаком с нынешними индийскими сочинениями. Ей свойствен замедленный ритм, но, вслушавшись, замечаешь ее разнообразие и мелодичность.
В последние годы на местных композиторов немалое влияние оказывает современная, главным образом европейская музыка; странно бывает неожиданно улавливать в этих восточных мелодиях слабые отголоски волынок или бравурный гром военного оркестра.
* * *
Дом индуса.Принадлежал он судье, к которому дом перешел по наследству. Судья уже умер, и меня принимала его вдова, толстая босоногая женщина в белом, с седыми волосами, курчавившимися у нее за спиной. В дом ведет дверь в глухой стене, и войдя, оказываешься в помещении наподобие лоджии, с резным потолком из хлебного дерева. Основу орнамента составляют листья лотоса, а в центре рельефное изображение танцующего Шивы. Из лоджии попадаешь в маленький пыльный дворик, где растут кусты кротона и коричные деревья, а за ними дом. Спереди веранда с длинным, необшитым снизу карнизом, так что видна деревянная крыша с искусно пригнанными друг к другу досками; потолок на веранде тоже резной, густо-коричневого цвета, как в лоджии. В обоих концах веранды имеются возвышения, где хозяин обычно хранил одежду; они же служат сиденьями. Здесь владелец дома принимал гостей. В глубине две двери с дорогими разукрашенными медными замками и петлями; они ведут в две маленькие темные комнатки, в каждой по кровати, в одной из них спал хозяин дома. Сбоку от дверей проем, который ведет в помещение, где хранится зерно. Пройдя сквозь маленькую дверку с другого боку, попадаешь в еще один дворик, в глубине его расположены женские покои, к которым пристроены кухня и еще комнатушки. Меня провели в одну, обставленную дешевой, облезлой и старомодной европейской мебелью.
Ночью первый дворик, скорее всего, утрачивает свою пыльную неприглядность и в лунном свете, под сияющими звездами, прохладный и безмолвный, наверняка приобретает романтический вид. Я бы охотно послушал там игру на вине, глядя в сосредоточенное и отрешенное лицо музыканта, освещенное пламенем медной лампы, чей коптящий фитилек плавает в кокосовом масле.
* * *
Йог.Он был среднего, по индийским меркам, роста; кожа цвета темного меда, коротко стриженные волосы и короткая седая борода. Не толстый, но пухлый. Хотя ходил он в одной только набедренной повязке и при этом казался одетым опрятно, очень чисто, почти щегольски. Передвигался медленно, опираясь на палку и слегка прихрамывая. Рот у него был несколько крупноват, губы довольно толстые, а глаза, в отличие от глаз большинства индийцев, не отличались ни величиной, ни блеском; белки были налиты кровью. Держался он просто и в то же время с достоинством. Неизменно бодрый, улыбающийся, вежливый, он производил впечатление не философа, а, скорее, добродушного старика-крестьянина. В сопровождении двух-трех учеников он вошел в комнату, где я лежал на деревянной кровати, и, сказав мне несколько ласковых приветственных слов, сел рядом. Я чувствовал себя неважно, незадолго до того потерял сознание. Йогу уже сообщили, что я нездоров и не могу прийти в зал, где он обычно сидел, поэтому он сам пришел в комнатушку, в которой меня уложили.
Очень скоро он перестал смотреть на меня и искоса устремил необычайно пристальный взгляд куда-то поверх моего плеча. Сидел он совершенно недвижимо, но одна ступня время от времени слегка постукивала по полу. Пробыл он в этой позе, наверное, с четверть часа и, как потом мне объяснили, во время медитации все свои силы сосредоточил на мне. Потом, прервавшись, йог спросил, не хочу ли я ему что-либо сказать или о чем-нибудь спросить. Я чувствовал себя больным и разбитым, что ему и сообщил. Улыбнувшись, йог заметил:
– Молчание это тоже беседа.
Слегка отвернув от меня голову и снова глядя как бы поверх моего плеча, он опять погрузился в глубокую медитацию. Так, не произнеся ни единого слова, он просидел еще с четверть часа; все, кто был в комнате, не сводили с него глаз; затем йог встал, поклонился, улыбнулся на прощание и медленно, опираясь на палку, захромал в сопровождении учеников прочь из комнаты.
Не знаю, что было тому причиною – то ли я просто отлежался, то ли подействовала медитация йога, но я почувствовал себя гораздо лучше и немного спустя пошел в зал, где он сидел днем и спал ночью. Это длинная пустая комната метров пятнадцати длиною и вдвое меньше в ширину. Окна есть во всех стенах, но низко нависающий карниз загораживает свет. Йог сидел на низком, крытом тигровой шкурой помосте, перед ним в небольшой жаровне курилось благовоние; по комнате плыл приятный аромат. Время от времени один из учеников зажигал новую палочку. Верующие сидели на полу. Некоторые читали, другие предавались медитации. Внезапно вошли два незнакомца с корзиной фруктов, простерлись перед йогом на полу и предложили свое подношение. Слегка наклонив голову, йог дал понять, что принимает его, и знаком велел ученику унести корзину; он ласково, хотя и недолго побеседовал с незнакомцами, потом снова слегка наклонил голову, давая понять, что им пора удалиться. Те опять простерлись ниц, потом, отойдя, сели среди прочих верующих, а йог полностью погрузился в медитацию. Легкая дрожь, казалось, охватила всех сидевших, и я на цыпочках вышел из залы.
Позднее я узнал, что мой обморок породил фантастические слухи, которые облетели не только всю Индию, но достигли даже Америки. Меня якобы охватил благоговейный трепет оттого, что я должен был предстать перед этим святым человеком, уверяли одни. Другие утверждали, что еще до встречи с йогом я находился под его воздействием и на несколько минут был унесен в беспредельность. Когда меня об этом расспрашивали, я только улыбался и пожимал плечами. На самом деле это был у меня не первый и не последний обморок. Врачи говорят, что происходят они из-за повышенной чувствительности моего солнечного сплетения, которое давит на диафрагму возле сердца и что однажды давление может слишком затянуться. Несколько минут чувствуешь себя плохо, а потом не ощущаешь ничего, пока не приходишь в себя, – если, конечно, приходишь.
* * *
Мадурай. Храм ночью.В Индии шум слышится постоянно. Целыми днями люди разговаривают в полный голос, а в храме – еще громче. Гомон стоит страшный. Здесь молятся и читают литании, окликают друг друга, громогласно спорят, ссорятся или приветствуют знакомых. На благоговение и намека нет. Тем не менее все пропитано острым, неодолимым ощущением божественного, так что холодок бежит по спине. Боги там, как ни странно, кажутся близкими и живыми.
Толпа густая, плотная – мужчины, женщины, дети. Мужчины до пояса обнажены, их лбы, а нередко и руки до плеч, и грудь покрыты слоем белого пепла от сгоревшего коровьего навоза. Днем, занимаясь своими обычными делами, многие носят европейское платье, но здесь они отрекаются от западной одежды, от западной цивилизации и западного образа мыслей. Здесь, в храме, обретается исконная Индия, которая знать не знает никакого Запада. Вот они молятся то у одного святилища, то у другого, порою распростершись ничком на полу, в ритуальной позе полной покорности.
Идешь из одного длинного зала в другой, свод опирается на скульптурные колонны, у подножия каждой сидит нищенствующий монах. Среди монахов есть и бородатые старцы, некоторые жутко истощены, есть и молодые – мускулистые и волосатые. Перед каждым стоит чаша для подношений или лежит небольшая циновка, на которую верующие нет-нет да бросят мелкую монетку. Некоторые закутаны в полотнища красной ткани, другие почти голые. Одни смотрят на вас безучастно, кто-то читает вслух или про себя, не обращая внимания на текущую мимо толпу. Поодаль от святая святых на полу сидит группа священнослужителей; у всех череп спереди обрит, на затылке волосы связаны в пучок, все изрядно грузные, у каждого на безволосой коричневой груди и на толстых руках полосы белого пепла. Вот идет в сопровождении двух или трех учеников известный своей святостью философ, в красном тюрбане и пестрой набедренной повязке, с браслетами на руках; седобородый и властный, он творит молитву у святилища, а затем, с достоинством почитаемого человека, шагает сквозь раздвигаемую учениками толпу прямиком в святая святых.
Храм освещен свисающими с потолка голыми электрическими лампочками; они бросают резкий свет на скульптурные украшения, а там, куда свет не достигает, тьма кажется еще таинственней. Невзирая на огромное шумное скопление людей, от увиденного остается впечатление чего-то загадочного и грозного.
* * *
Когда я уезжал из Индии, многие спрашивали меня, что именно из увиденного поразило меня более всего. В ответ я говорил им то, что они ожидали услышать. Но на самом деле душу мою тронул не Тадж-Махал, не священные гхаты Бенареса, не храм в Мадурае и не горы Траванкура. Меня глубоко поразил крестьянин, страшно изможденный, почти нагой, в одной обмотанной вокруг бедер тряпице цвета пропеченной солнцем земли, на которой он трудится; крестьянин, дрожащий от рассветного холода, обливающийся потом в полдневный зной, не разгибающий спины и тогда, когда багровое солнце садится за иссохшими полями; изнуренный тяжким трудом крестьянин, неустанно возделывающий землю на севере и на юге, на западе и на востоке – на просторах бескрайней Индии работает он, не покладая рук, как работал его отец, и отец его отца, и так три тысячелетия, с тех пор как появились в этих краях арийцы; и трудится он ради скудного пропитания, чтобы только не умереть с голоду. Вот какое зрелище сильнее всех других острой жалостью обожгло мне душу.








