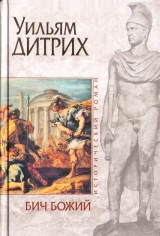
Текст книги "Бич Божий"
Автор книги: Уильям Дитрих
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
– И ты такого мнения о знаменитом генерале?
– По правде признаться, он не любитель развлечений. Аэция нельзя назвать злым или тщеславным, он всего лишь отвлекается по пустякам. Он верит в идею, которая зовётся Римом, но без армии не в силах возродить его былое величие. По этой причине один день он сражается, на следующий – ведёт переговоры, а на третий – подкупает союзников. Он выдающийся человек и почти в одиночку удерживает Запад от распада. А соперники, конечно, презирают его за это. Невежды всегда ненавидят добродетель. Помяни моё слово, когда-нибудь Валентиниан накажет его за героизм.
– Но он ни разу не пришёл на помощь Востоку.
– Для чего? Вашу половину империи опустошили его наёмники, поддерживающие порядок на Западе, а именно гунны. Они работают на него и получают от вас дань. Звучит жестоко, но таков был единственный способ удержать в узде остальные племена.
– А что ты можешь сказать мне о гуннах?
– Я не скажу, а покажу. И помогу тебе увидеть. Научись думать сам, Ионас Алабанда. Тогда тебя станут ненавидеть, бояться, и ты добьёшься успеха. А сперва погляди на это поселение у берега реки. Оно всё тянется и тянется без конца, не правда ли?
– Гуннов очень много.
– Но разве здесь больше людей, чем в Константинополе?
– Конечно нет.
– Больше, чем в Риме? Больше, чем в Александрии?
– Нет...
– Однако человек с деревянной чашей и кубком правит людьми, не умеющими сеять, ковать или строить. Его народ обращает в рабство других и получает всё, что ему нужно. Этот человек верит, что его судьба – владеть миром. Почему? Из-за численности гуннов? Или из-за силы воли?
– Они замечательные и грозные воины.
– Это правда. Посмотри-ка сюда.
Мы добрались по берегу до места напротив луга, где пасли скот и объезжали лошадей. Двадцать гуннских солдат практиковались на этом лугу в стрельбе из лука. Они мчались галопом друг за другом, мгновенно доставали стрелы из колчанов и столь же быстро выпускали их, целясь в дыни на верхушках шестов, находящихся в пятидесяти шагах. Когда стрелы попадали в цель – а это случалось часто, – воины были спокойны. Они начинали кричать и смеяться только при чьём-нибудь промахе, хотя ошибка означала не более чем минимальную погрешность.
– Вообрази себе, как тысячи этих воинов несутся тяжёлыми тучами в своих легионах, – сказал Зерко.
– А мне и не нужно ничего воображать. Согласно подсчётам, такое бывало десятки, а может, и сотни раз. И они нас побеждали. Всегда.
– Понаблюдай за ними.
После каждой попытки воин тем же галопом возвращался к подшучивающим друзьям, ждал своей очереди и снова пускался вскачь по лугу. И лишь проехав четыре тура, усталые и счастливые гунны садились отдохнуть.
– За чем я должен наблюдать?
– Много ли у них осталось стрел?
– Разумеется, ни одной.
– А быстро ли мчатся их лошади?
– Они устали.
– Вот видишь. Я показал тебе больше, чем знают многие римские генералы. Это я и называю умением думать: наблюдение и точные выводы – основа серьёзного мышления.
– Ну и что ты мне показал? Что они могут попасть стрелой в глаз противника? Что они без труда проезжают сотни миль в день, когда наши армии проходят маршем всего двадцать по лучшим римским дорогам?
– А то, что через час или даже меньше у них кончаются стрелы и лошади взмылены после скачек галопом. Что дюжина воинов выпускает облако стрел. Что вся их стратегия зависит от быстроты натиска и умения сломить волю неприятеля. Гунны беспощадны потому, что их не так уж и много. Вдобавок они никогда не отличались особой выносливостью. Скажу точнее: она у них нулевая. И если им придётся сражаться не считанные часы, а целый день, да ещё с крупными армейскими подразделениями...
– Это была стрельба из лука. И они лишь пытались израсходовать все свои стрелы.
– А когда они столкнутся с пехотой, вооружённой крепкими щитами, то стрелы им не помогут. Ведь лошади вроде собак. Им ничего не стоит догнать бегущего, но если кто-то стоит на месте, они боятся его тронуть. Армия в иглах копий, словно дикобраз...
– Ты говоришь о величайшей битве. О сражении, а не просто об умении думать.
– Ну разумеется, о сражении! Но речь идёт о вашем умении навязать свои правила боя. О вашей армии с её мощным снаряжением, медлительной и терпеливой. О том, как вы стремитесь дождаться подходящего момента. Наблюдая за мастерством воинов, тебе не мешает кое о чём подумать.
– О чём же?
– Если ты хочешь выжить, то должен стать похожим на них. Ты привёз с собой хоть какое-то оружие?
– Оно в моем багаже.
– Лучше достань его и попрактикуйся по примеру гуннов. Тогда ты сам сделаешь выводы. Никто не знает, как скоро ему придётся сражаться. И как скоро ему придётся думать.
Я поглядел на шутивших воинов. Они столпились на берегу реки, и я вспомнил, как карлик прыгнул прошлым вечером ко мне на колени.
– Вчера во время пира ты предостерёг меня об опасности. Но кажется, никакой опасности здесь, в лагере, нет.
– Аттила приглашает вас поговорить о мире. Однако слова Аттилы никогда не совпадают с его намерениями. Не удивляйся, если ему известно о твоих спутниках больше, чем тебе, Ионас из Константинополя. Вот об этой опасности я тебя и предупреждаю.
* * *
Скилла промчался галопом на своём лохматом коне, пытаясь успокоиться и побороть поднявшуюся бурю эмоций. Он скакал, сам не зная куда, по плоской равнине Хунугури и как будто сбрасывал по пути какое-то тяжёлое снаряжение или, вернее, непосильное бремя. Порыв ветра уносил Скиллу всё дальше от лагеря со всеми его проблемами, от родного племени и от женщин. Он вдыхал полной грудью свежий степной воздух, и к нему постепенно возвращалось ощущение свободы. Да и Аттила говорил, что луговые травы исцеляют. Если ты в чём-то сомневаешься, тебя выручат быстрый конь и окрестные долины.
Но отчего же гунны покинули родные степи?
До появления римлян Скилла был уверен, что Илана в конце концов достанется ему. Ведь он один защищал её, и, когда Аттила выиграет последнюю битву, у него, молодого военачальника, не будет никаких преград, а у неё – других альтернатив. Но теперь она стала флиртовать с Ионасом и вырядилась, как римская шлюха. Это разъярило его, и он опасался, что писец победит его и завоюет сердце Иланы по одной понятной причине – он тоже был римлянином. Скилла не хотел спать с рабыней. Он мечтал о том, чтобы его полюбила благородная женщина из римской знати. Полюбила таким, каков он есть, а не просто занималась бы с ним любовью. Однако Илана по-прежнему относилась к гуннам и их образу жизни с упрямой слепотой. Она не понимала, что Люди утренней зари были лучше орд, осевших в своих каменных городах, – отважнее, сильнее и гораздо могущественнее их... За исключением того, что Скилла неуютно чувствовал себя в обществе этих нелепых, но умных римлян, словно недотягивал до них, и ненавидел себя за столь унизительное чувство.
Вот почему он рассвирепел, увидел Илану с Ионасом. И дело не только в том, что римляне могли прочесть мысли других людей, уставившись в свои книги и бумаги, не в том, что они хорошо одевались или строили каменные дома, которые простоят ещё долгие века. Насколько он мог судить, подобные премудрости не сделали их особенно сильными или счастливыми. Их легко можно было разгромить в сражениях, они постоянно жаловались на нехватку денег, обладая богатствами, не нужными никому из гуннов. Римляне не умели выживать вдали от родных городов, их волновали чины и звания, и они соблюдали правила, никогда не приходившие в голову истинно свободным людям. Римлян всегда что-нибудь беспокоило, а гунны жили, не зная тревог. Люди утренней зари не рылись в грязной земле, не выкапывали металл, не работали под палящим солнцем и не слепли, торгуя в тёмных лавках. Они получали от других всё необходимое, и все дрожали перед ними от страха. Так повелось с тех пор, как его народ двинулся на запад вслед за белым оленем, завоёвывая по пути все земли. А гуннские женщины гордились своими мужчинами и кочевали вместе с ними.
И тем не менее римляне презирали его. Они никогда не говорили об этом открыто, а не то он изрубил бы их на куски. Но Скилла замечал их насмешливые взгляды и слышал недовольный шёпот, когда отправился с ними в путешествие из восточной столицы. Да, это презрение улавливалось в их манерах. Как странно: он жил в империи, расширявшейся миля за милей, а их империя, напротив, всё уменьшалась, но они по-прежнему относились к гуннам как к низшей расе! Конечно, римляне считали их опасными – ведь бешеные собаки тоже опасны, – но ни в чём не равными им, за исключением воинского мастерства. Ему не давала покоя их упрямая самонадеянность. Скилла знал, что его друзьям-воинам она тоже доставила немало мучений, ибо ни одно поражение на поле боя так и не убедило римлян в превосходстве гуннов. Очевидно, лишь убийство могло поставить точку в их безмолвном споре.
Самой непонятной из римлян, несомненно, была Илана. Да, она потеряла отца и человека, за которого собиралась выйти замуж, и её увезли из родного города. Однако Скилла не насиловал и не бил её, как она, должно быть, ожидала. По правде говоря, он даже одолжил ей отличного коня, приучил держаться в седле, и она гордо въехала на этом жеребце в сердце гуннской империи. Кто из пленниц удостаивался подобных почестей? Скилла хорошо кормил девушку, защищал её от знаков внимания со стороны других воинов и привозил ей подарки. После свадьбы с ним она станет первой женой успешного молодого полководца, и он был готов награбить для неё любые драгоценности. У них будут прекрасные лошади, и она родит ему сильных, здоровых детей. Ей предстоит жить в обществе, где беспрекословно исполнят все её прихоти, и она сможет есть, спать, ездить верхом, охотиться, оставаться в лагере и заниматься с ним любовью, когда им захочется. Он уже начал создавать собственный полк, и его солдаты не дадут её в обиду. Он предлагал ей целый мир – как-никак, гунны скоро завоюют его и будут полновластными хозяевами! Однако она до сих пор обращалась с ним как с надоевшей мухой. А на пиру то и дело жадно посматривала на молодого римлянина, который был ничтожной пешкой и пока ровным счётом ничего не сделал. Это сводило его с ума.
Ну отчего он так привязался к Плане! Скиллу раздражала его страсть, и он не мог себя понять. Чем так плохи гуннские женщины? Да ничем. Они были проворны, трудились не покладая рук, вынашивали и рожали крепких детей в тяжёлых условиях кочевья. Ни снежные бури, ни жара в степи для них ничего не значили, и они гордились своей способностью не плакать ни при каких обстоятельствах. Они могли приготовить обед из оленины или из мышей-полёвок, короче, из всего, что попадалось им под руку, находили в грязи речного устья целебные корни, в считаные часы разбирали свои дома и грузили их в повозки, приносили на перекладинах тяжёлые кожаные мешки, до краёв полные водой. Но им, простоватым, приземистым и ширококостным, не хватало грации Планы, её причастности к иному, городскому миру. А в их взглядах нельзя было уловить острого, независимого ума, оживлявшего большие и томные глаза римлянки, когда она любопытствовала или сердилась. Наверное, женщине вовсе не нужно быть умной и элегантной, однако его особенно привлекали в Плане её тонкий, быстрый ум и изящество, а почему, он и сам не мог ответить. Ведь пользы от них не было! Она словно олицетворяла ненавистное ему римское высокомерие, но он всё равно хотел обладать этим высокомерием и чувствовал, что тогда ему удастся успокоиться.
Аттила однажды сказал, что страсть способна околдовать каждый клан и каждое братство. Когда гунны вторглись в Европу, его народ стал непобедимым, но при этом заметно изменился. Раса утратила свою чистоту из-за смешанных браков, приёмных детей и перенятых обычаев. В лесах севера и запада лошади оказались малопригодными. Мужчины, некогда находившие радость в кровавых битвах, теперь без конца обсуждали, сколько следует платить наёмникам, хвастались трофеями и полученной данью. Они говорили о товарах, привезённых для своих жён, и о том, что запросы этих женщин растут не по дням, а по часам. Раньше племена не засиживались на одном месте и кочевали в разное время года, но сейчас они прочно обосновались в людной долине Хунугури. Аттиле всё это не нравилось, он призывал своих воинов быть бдительными и помнить, что Европа может собраться с силами и победить их, как они прежде победили Европу. Вот почему он ел из простой деревянной посуды, ходил в самой скромной одежде без украшений и просил гуннов не забывать об их суровых предках, беспощадно истреблявших своих врагов.
Каждый гунн знал, что имел в виду их король. Но новый мир уже успел соблазнить воинственное племя почти вопреки его воле. Они многому научились у завоёванных народов, проезжая по их землям и грабя их города. Если Аттила довольствовался деревянной посудой, то его полководцы предпочитали золотые блюда и мечтали не о степях, а о куртизанках из Константинополя.
Скилла опасался, что чужая роскошь в конце концов погубит их. И его самого.
Он должен уничтожить Алабанду, взять Илану, увезти её и скрыться где-нибудь на востоке. И лучше всего сделать это, дождавшись возвращения Бигиласа с его сыном и пятьюдесятью фунтами золота.
Глава 12
ЗАГОВОР РАСКРЫТ
Дипломатия, объяснил мне Максимин, всегда была искусством терпения. Пока продолжаются переговоры, оружие лежит в ножнах. Одна неделя незаметно сменит другую, а тем временем политическая ситуация может измениться. Соглашения и договоры, немыслимые между чужаками, становятся нормой или второй натурой среди друзей. Так что нам совсем не мешает подождать в лагере гуннов, пока Бигилас возвратится назад со своим сыном, убеждал меня сенатор.
– Когда мы ждём, войны нет, Ионас, – самодовольно делился он своими наблюдениями. – Одним своим приездом мы уже помогли империи. И просто проводя время в Хунугури, служим Константинополю и Риму.
Мы пытались узнать о гуннах как можно больше, но это была трудная задача. Мне поручили переписать их от первого до последнего, однако воины и их семьи столь часто приезжали в лагерь и уезжали из него, что сосчитать их казалось не легче, чем птиц в стае. Охота, набеги, миссии по сбору дани, расправы с непокорными, слухи о лучших пастбищах, укрощение диких коней, рассказы о притонах для пьяниц или о борделях, только что открывшихся на берегах Дуная, – любой подобный предлог мог побудить гуннов покинуть родные края. Воинам, как правило, быстро надоедало однообразие оседлой жизни. Вдобавок пересчёт, которым я занялся, был бесполезен, поскольку большинство гуннов обосновались вдали от нашего лагеря, и эту «паутину» молодой империи связывали только гонцы, сновавшие из одного её конца в другой. Много ли у них кланов? Никто из наших информаторов не мог точно сказать. А много ли воинов? Больше, чем трав на лугах. Много ли подвластных племён? Больше, чем народностей в Риме. Каковы были их намерения? Они целиком зависели от Аттилы.
Их религия включала в себя поклонение природным духам и множество суеверий, а её подробности ревниво скрывались шаманами-прорицателями. Они утверждали, что способны предсказать будущее по крови животных и рабов. Этот примитивный анимизм[46]46
Анимизм – система представлений о якобы реально существующих особых духовных невидимых существах (чаще всего двойниках), которые управляют телесной сущностью человека и всеми явлениями и силами природы.
[Закрыть] сочетался с целым пантеоном свергнутых богов, и Аттила мог, например, с уверенностью заявить, что его огромный железный реликт был мечом Марса. Его народ сразу понял, о чём он говорил. Боги напоминали гуннам чужие королевства: их завоёвывали и использовали в своих интересах. Эти невежественные люди верили, что судьба неизбежно влияет на каждого смертного, однако она отличается капризным нравом, и от её ударов нужно защищаться с помощью чар и заклинаний. Дьяволы могли поймать неосторожного, ураганы были громами богов, а благоприятный знак сулил удачу. На нас, христиан, смотрели как на глупцов, ищущих спасения в загробном мире, а не трофеев – в земном. К чему забивать себе голову мыслями об ином существовании, когда есть лишь жизнь – между рождением и смертью, и ты сам способен её контролировать? В этом, конечно, проявлялось полное непонимание сокровенной сути моей религии, но для гуннов логичной целью было либо жить с женщиной, либо погибнуть на поле боя. Следовало только внимательнее приглядеться к дикой основе живой природы, чтобы уяснить их восприятие мира. Все испокон веков убивали друг друга – громы, молнии, животные, люди. И гунны вовсе не были исключением из правил.
Они издавна привыкли к полигамным бракам, а жестокие войны и захват пленных обеспечивали приток женщин из покорённых стран, так что гаремы становились наградой за боевую доблесть. У гуннов имелись и наложницы, жившие в некоем «сумеречном» положении – между узаконенным браком и рабством. Порой они оказывали большее влияние на своих тщеславных хозяев, чем их законные жёны. Смерть в бою, разводы, новые браки и любовные романы были столь распространены, что ватаги ребятишек, с криками носившихся по лагерю, казалось, принадлежали всем и никому в отдельности. И детей, точно стаю волчат, радовала эта воля. Гунны многое прощали малышам, считая умение обращаться с лошадьми самым важным для будущего воина. Нас, римлян, столь же основательно и серьёзно обучали риторике или истории. Однако варвары могли с грубостью сердитой медведицы отшлёпать непослушных детей или швырнуть их в реку, чтобы те хорошенько запомнили, как надо себя вести. Наказания вообще являлись частью жизни, и к ним нередко прибегали, лишая озорников пищи, воды, заставляя их долго плыть, обжигая огнём или бросая в колючий кустарник. Драки поощрялись, и каждый гунн сызмальства метко стрелял из лука. Мальчишки стойко переносили боль и гордились, когда им удавалось выдержать суровые испытания, с которыми не справились их друзья. Они приходили в восторг, застигая врасплох растерявшихся противников, и выше всего ценили готовность пролить свою кровь на поле боя. Девушкам внушали, что они должны быть ещё крепче и терпеливее мужчин: ведь у них одна, главная, цель – родить как можно больше детей, которые когда-нибудь развяжут новые войны.
Зерко стал моим проводником в этом воинственном мире. Карлик с явным удовольствием наблюдал, как дети дразнят и мучают друг друга, возможно вспоминая собственные мучения и насмешки над его крохотным ростом. «Погляди на Анагаи. Мальчик научился удерживать дыхание дольше других ребят, потому что он самый маленький и его часто бросали на дно Тисы, – пояснял он мне. – Бохас пытался его утопить, но Анагаи однажды сдавил ему яйца, и теперь Бохас его не трогает. Сандилу выбили глаз в драке на скале, а Татос не стреляет с тех пор, как ему сломали руку, и потому ловит стрелы щитом. Они хвастаются своими синяками. Чем злее и воинственнее мальчишка, тем больше у него шансов сделаться вожаком».
Я начал тренироваться. Мои мускулы сильно развились и окрепли уже во время путешествия. Здесь, в Хунугури, не было книг, и я не тратил время на чтение. Составление заметок занимало лишь часть дня, и поэтому я мог закаляться, словно гунн, и скакать галопом на моей кобылице Диане, совершенствуя мастерство наездника. По совету Зерко я распаковал тяжёлое римское оружие и стал овладевать основами воинского искусства. Должно быть, я производил на гуннов странное впечатление. Моя спата[47]47
Спата – широкий обоюдоострый меч.
[Закрыть], или кавалерийский меч, была массивнее изогнутых гуннских клинков, а кольчуга из цепей весила больше их нагрудников из кожи и тонких пластин. К тому же в сравнении с маленькими круглыми плетёными щитами всадников мой овальный щит напоминал стену дома. Иногда гунны вступали со мной в поединок. Конечно, я уступал им в скорости, но и они не могли пробить мой щит, а лишь стучали по нему, как по панцирю черепахи. Несколько раз эти состязания заканчивались вничью, и их прежние злобные шутки сменились ворчливым уважением.
–Ты, римлянин, надёжно укрылся, точно лиса в норе, и до тебя никак не доберёшься.
Сенатор был против моих упражнений.
– Мы послы, Алабанда, – упрекнул меня как-то Максимин. – Нам нужно подружиться с гуннами, а не сражаться с ними на мечах.
– Именно это и делают друзья гуннов, – ответил я ему и затаил дыхание.
– Благородный дипломат не станет драться, как простой солдат.
– Сражение – единственный вид благородства, в который они верят.
Вмешательство Скиллы лишь увеличило мой интерес к Илане. Я узнал, что он осиротел в детстве, в пору ожесточённых войн, и был воспитан дядей, Эдеко, а сам Аттила обещал отдать ему в жёны Илану, когда он докажет свою храбрость в бою. Пока что она служила у Суекки. Смирилась ли она с этой участью? Скилла утверждал, что спас ей жизнь, и она без возражений принимала его подарки и защиту. Однако щедрость молодого гунна смущала девушку, и она явно чувствовала себя пойманной в ловушку.
Мне хотелось сравняться с ним и преподнести что-нибудь Илане, но я не привёз с собой никаких подарков. Конечно, она была решительной и смелой женщиной, видевшей во мне возможного избавителя от плена. И я не знал, бескорыстно ли её внимание ко мне или она просто желает воспользоваться моей помощью как дорогой к освобождению. Я вычислил её маршруты и старался словно невзначай появляться на её пути, когда она выходила по делам из дома Суекки, да и она тоже научилась ждать меня в укромных уголках. Соблазнительная походка Иланы заставляла меня думать о её гибком теле, даже когда она была в самых скромных и бесформенных одеяниях. Она всегда ободряюще улыбалась мне, хотя порой задерживалась без особой охоты. Мы оба стремились к недостижимой цели, и Плана это понимала.
– Прошу тебя, не подчиняйся этому гунну, – сказал я однажды, увидев, что она торопится.
Илана посмотрела на меня, как на спасителя, и её глаза ярко заблестели. В такие минуты она мне особенно нравилась, однако я помнил о том, что у меня не было реальной возможности ей помочь. А вдруг я верно догадался и она лишь использует меня?
– Я просила Суекку не пускать к нам Скиллу, – сказала Илана. – Моя неблагодарность возмутила её и позабавила Эдеко. Любое сопротивление, с точки зрения гуннов, – это вызов и чуть ли не бунт. Меня это так тревожит, Ионас. Скилла теряет терпение. Мне нужно бежать из лагеря.
– Не знаю, согласится ли Эдеко тебя отпустить.
– Может быть, у меня появится шанс, когда ваше посольство закончит переговоры и обменяется пленными. Поговори с сенатором.
– Пока не стоит.
Мне было ясно, что её спасение не имеет смысла ни для кого, кроме меня. Я взял Илану за руку, и даже это лёгкое прикосновение подействовало возбуждающе.
– Скоро вернётся Бигилас, и тогда у нас появится возможность, – опрометчиво пообещал я. – Я твёрдо решил забрать тебя отсюда.
– Прошу тебя, моей жизни придёт конец, если ты меня не спасёшь.
А затем вернулся Бигилас.
* * *
Сын Бигиласа, темноволосый одиннадцатилетний мальчик с большими выразительными глазами, приехал в лагерь, открыв рот и вытянув шею так, что у него даже от напряжения «звенел» позвоночник. Да и мог ли он не засмотреться на гуннскую орду, слухи о которой римские мальчишки преувеличивали до мифических размеров? Юный Крикс гордился тем, что его отец сыграл столь важную и чуть ли не центральную роль в переговорах. И он, Крикс, стал гарантом честности в отношениях обеих сторон! Тот факт, что во время путешествия Бигилас был рассеян и озабочен, не слишком удивлял мальчика. По правде говоря, поглощённого собой Бигиласа нельзя было назвать добрым, внимательным отцом или надёжным спутником. Но Крикса взволновало величие цели и обещанное богатое вознаграждение. Многие ли сыновья могли это сказать?
Когда весть о возвращении Бигиласа дошла до Аттилы, король в тот же вечер пригласил нас, римлян, к себе во дворец. Максимин постоянно учил нас терпению, но сам с облегчением вздохнул: как-никак, мы уже несколько недель не покидали лагерь Аттилы.
Король гуннов принял нас в тронном зале. Он, как и прежде, находился в его тёмном конце, на возвышении, но теперь гостей было значительно меньше. Вместо этого мы увидели дюжину вооружённых охранников, Эдеко, Скиллу и Онегеза, то есть тех, кто сопровождал нас во время путешествия. Я сделал вид, что не заметил гуннских солдат, и сказал себе: «По всей видимости, эта небольшая группа – воодушевляющий знак. Нам предстоит участвовать в тайных, серьёзных переговорах, а не в обычном дипломатическом ритуальном спектакле». Однако меня невольно охватило беспокойство куда более сильное, чем в день приезда в лагерь гуннов. Ведь за это время я успел немало узнать об Аттиле. Харизма короля была неразрывно связана с его тиранией, а скромность одежд маскировала непомерные амбиции.
– Надеюсь, он в хорошем настроении, – шепнул я Рустицию.
– Разумеется. Он хочет завершить переговоры, как, впрочем, и мы.
– С тебя уже хватило гуннского гостеприимства?
– Эдеко никогда не простит мне того, что я заступился за нас и стал ему возражать. Я почувствовал, как его гнев передался остальным гуннам. Они называют меня человеком с Запада, словно я отличаюсь от вас тем, что родился в Италии. Они смотрят на меня, как на диковинного зверя.
– По-моему, им просто любопытны люди, побывавшие у них в плену.
Факелы отбрасывали блики колеблющегося света на исполосованные шрамами лица приближённых Аттилы. Глубоко посаженные глаза короля, казалось, совсем ушли в глазницы, и он смотрел на ту или иную фигуру, точно зверь, высунувшийся из норы. Странное, уродливое и бесстрастное лицо Аттилы не позволяло понять его чувства, и он по обыкновению не улыбался. Это меня не удивило. Я уже побывал на гуннских советах судей, куда вожди племён обращались с взаимными жалобами и где Аттила всегда выносил вердикт без каких-либо эмоций. Его суждения были резкими, необычными, скорыми, но при этом вполне соответствовали мрачному духу гуннов и его собственному стоическому облику. Во время разбирательства он всегда сидел с непокрытой головой на ярком солнце во внутреннем дворе своих владений, и перед ним по очереди появлялись враждующие или подающие прошения люди. На них могли обрушить череду каверзных вопросов или оборвать, если они слишком долго возражали, а затем отправить назад с решением, которое они больше не имели права обжаловать.
Никакого настоящего законодательства у гуннов не было: его заменял Аттила. Часто виновного оправдывали, после того как, согласно гуннскому обычаю, уличённый в преступлении выплачивал жертве или её семье коносс – погашение долга. И платил чем угодно, от коровы до собственной дочери. Гунны, как правило, не прибегали к тюремному заключению, да у них и не было своих тюрем. Они также не могли наносить увечья, способные ослабить будущих воинов и матерей. Тем не менее бывали случаи, когда выносилось и более суровое наказание. Так, например, мужу, обманутому весьма унизительным способом, было разрешено собственноручно кастрировать соблазнителя своей жены ржавым ножом, после чего он вставил отрубленный член во влагалище несчастной женщины, закрепил его цепью и продержал там полный лунный цикл.
Кража коня в степи считалась равносильной убийству, и конокрада по приказу Аттилы разрывали на части. Сначала его привязывали за руки и за ноги к лошадям. Затем хозяин украденного жеребца и его сыновья подзывали коней к себе и те вырывали у конокрада конечности. Преступник кричал от боли так, что у собравшихся чуть не лопались барабанные перепонки от его душераздирающих воплей, и примерно через час умирал в страшных мучениях. Так проявлялась власть Аттилы, но когда я увидел эту экзекуцию, то с трудом сдержал подступившую тошноту. Вокруг разлилась лужа крови, а оторванные конечности конокрада показались мне похожими на обыкновенные куски мяса.
Сбежавшего с поля боя подвешивали над остриями пик, воткнутых в яме, а каждый воин из его отряда надрезал волокна, из которых была свита верёвка, на которой висел трус. Верёвка истончалась. «Судьба решит, какова мера твоего предательства и достаточно ли её для того, чтобы ты свалился в яму», – говорил Аттила. Если кто-то из бывших соратников дезертира охотился или отправился с военной миссией, жертву оставляли висеть над пиками вплоть до их возвращения. Иногда приходилось ждать целую неделю, чтобы вернувшиеся гунны осторожно надрезали верёвку. И вот наконец верёвка не выдерживала веса осуждённого, и он падал. Мне довелось наблюдать за исполнением такого приговора, и у меня на глазах две жены опозоренного гунна нанесли себе раны на щеках и груди и только после унесли труп.
Гуннам сообщали обо всех казнях в пределах их империи и зачастую даже преувеличивали отталкивающие подробности. Каган был справедлив, но безжалостен, он вёл себя по-отечески, но жестоко, мудро, но порой доходя до бешенства. Интересно, как повлияли эти бесчисленные приговоры на рассудок кагана? Ведь он каждый день кого-то наказывал, и так – из года в год, поскольку лишь эти беспощадные расправы могли сплотить его дикий народ и удержать его от анархии. Без сомнения, они формировали и характер вождя: из-за них он постепенно утрачивал контакты с реальным миром, он уже давно обитал во вселенной, созданной его больным воображением. Аттила был скорее не императором, а умелым циркачом с хлыстом и факелом в руках, не королём, а языческим богом.
* * *
– Это твой сын? – спросил Аттила, прервав ход моих размышлений.
– Крикс прошёл весь путь из Константинополя, каган, – сказал Бигилас. – Он – наглядное доказательство данного мной слова.
Манеры переводчика показались мне ещё более фальшивыми, чем прежде, а интонации – елейными и неубедительными. Удалось ли гуннам заметить его наигранную искренность или они приняли её за римский обычай?
– Он – заложник, способный убедить вас в честности Рима. А теперь, пожалуйста, выслушайте нашего посла.
Бигилас поглядел на Эдеко, но лицо вождя гуннского племени было каменно-бесстрастным.
– Разумеется, я остаюсь вашим покорным слугой.
Аттила важно кивнул и посмотрел на сенатора Максимина.
– Могу ли я считать эту демонстрацию доверия словом Рима и Константинополя?
Сенатор поклонился.
– Бигилас предложил своего сына как доказательство нашей доброй воли, каган. И это напоминает о подвиге христианского Бога, также предложившего в жертву сына. Мир начинается с доверия, и приезд мальчика, несомненно, подкрепит вашу веру в наши благие намерения, не так ли?
Аттила не отвечал столь долго, что нам всем сделалось не по себе. Молчание нависло над нами, точно клубы пыли.
– Так оно и есть, – произнёс он наконец. – Теперь я точно знаю, каковы ваши намерения.
Аттила взглянул вниз, на Крикса.
– Ты смелый мальчик и выполнил свой долг, добравшись сюда из Константинополя по приказу твоего отца. Ты показал, как должны поступать сыновья. Доверяешь ли ты своему родителю, юный римлянин?








