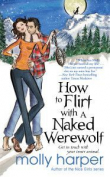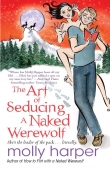Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Тереза Ревэй
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
– Здесь очень красиво. Ты часто сюда приезжаешь?
– С самого детства. Существуют такие места, где чувствуешь себя как дома, ты согласна? Такое ощущение, что они просто созданы для нас, и это необязательно места нашего детства. Я часто вспоминаю о маленькой долине в Вогезах [46]46
Горный массив на северо-востоке Франции.
[Закрыть], где мне было так хорошо, что я с удовольствием там поселился бы.
Он лег на бок, положив голову на руку, доверчиво глядя на нее. Ливия догадалась, что он ждет от нее ответа, надеясь, что она, в свою очередь, расскажет ему о своих любимых местах. Но для нее признания всегда таили в себе привкус наказания.
Она смутилась и опустила глаза.
– Я понимаю, – пробормотала она. – Маленькой я обожала проводить время в лагуне. Там можно было часами смотреть на птиц. Я даже научилась распознавать их по крику.
Она почувствовала себя глупо. Все это было так пресно. Конечно, она любила лагуну, но существовали вещи намного сильнее и важнее, однако о них она не могла с ним говорить и злилась на себя за это, потому что Франсуа был достаточно тонким человеком, чтобы с полуслова уловить щекотливость и опасность некоторых переживаний.
– Ты скучаешь по Венеции, – тихо произнес он.
Боль была настолько острой, что она вздрогнула.
– Немного.
– Я хочу, чтобы ты была счастлива, Ливия. Это очень важно для меня. Ты ведь это знаешь, правда?
Она кивнула, в горле у нее пересохло.
– Тебе понадобится немного времени, чтобы привыкнуть, но я уверен, что все будет хорошо. И потом, скоро родится наш ребенок. Когда ты станешь мамой, будешь смотреть на вещи совсем по-другому, уверяю тебя.
Он повернулся на спину, сцепил руки на затылке и закрыл глаза. Блики солнца играли на его лице. Он казался таким безмятежным, настолько гармоничным телом и душой, таким реальным, что у Ливии даже не получилось на него обидеться.
Ханна вытерла рукой пот со лба, подняла глаза к свинцовому небу, предвещавшему грозу, и августовское солнце ослепило ее. Горячий ветер обдувал ее щеки, обнаженные руки, из-за него болела голова. Поясницу нещадно ломило, и она потерла ее рукой, пытаясь изгнать эту боль. Весь день она подготавливала целину под пашню, бросая камни в тележку, которую они тянули по очереди с двумя другими женщинами, назначенными на эту работу.
Ее грудь набухла и вызывала болезненные ощущения. У нее с самого рассвета не было возможности уделить внимание младенцу. Для Ханны было загадкой, откуда ее истощенный организм черпает силы, чтобы она могла накормить своего ребенка, в то время как большинство измученных молодых матерей давно уже лишились молока. Плач новорожденных по ночам мешал спать обитателям бараков. Накануне чьи-то злые языки пустили слух, что Ханна тайком добывает себе еду. Лили принялась ее яростно защищать, но Ханна даже не удостоила их ответом: такая мелочность не заслуживала внимания.
Вдалеке послышался крик. На опушке леса стоял мужчина из их бригады и махал руками. Все три женщины облегченно вздохнули. Рабочий день закончился. Теперь они смогут вернуться в лагерь беженцев, проглотить свой вечерний рацион – тарелку супа из крапивы, который здесь в шутку называли «королевской похлебкой», – и затем рухнуть без сил на соломенные тюфяки, где им не давали покоя клопы.
В полном молчании они закрепили ремни вокруг талии и медленно направились к краю поля, волоча за собой тележку, подпрыгивавшую на ухабах.
Ханна накапала немного настойки наперстянки в стакан с водой, затем помогла матери сесть, обняв ее за плечи. Она никак не могла привыкнуть к ее худобе. На дрожащих руках, обхвативших стакан, вздулись вены, похожие на синеватые шрамы. Ее взгляд задержался на непривычно голом безымянном пальце. Обручальное кольцо было конфисковано на границе, во время последнего обыска, так же как и деньги, кухонные ножи и медальон с изображением Богородицы, который Ханна получила на свое первое причастие.
Драгоценный флакон дал ей врач, когда они находились в чешском лагере перед отправкой в Баварию. Никаких медикаментов не было, и он добился разрешения отправиться в лес, под надежной охраной, на поиски листьев наперстянки. Из-за крайней нехватки лекарств немецкие врачи были вынуждены вспомнить о лекарственных свойствах растений и использовать их для приготовления допотопных снадобий. Он предложил Ханне пойти вместе с ним. Перспектива вырваться на несколько часов из лагеря, где они теснились, как сельди в банке, показалась ей заманчивой, но, увидев охранников с ружьями наперевес и с портупеями, в фуражках, надвинутых на лоб, Ханна задрожала всем телом. Почувствовав приступ тошноты, она придумала какую-то отговорку и убежала к своей больной матери. Врач вернулся в конце дня с сумкой, наполненной листьями. Раздобыв спирт у местных крестьян, он приготовил настойку для тех, кто страдал сердечными заболеваниями.
Пожилая женщина тут же погрузилась в тяжелый сон. Большую часть времени она бредила. Было такое ощущение, что ее мозг укрылся за спасительной пеленой, мешавшей видеть, до какой нужды они опустились в этих импровизированных бараках. Так что, к своему великому облегчению, Ханне не пришлось объяснять ни свою беременность, которую мать даже не заметила, ни внезапное появление младенца. И, поскольку ей не задавали вопросов, она могла позволить себе не лгать. Слабое утешение, но это вынужденное молчание было настоящим подарком судьбы. Ни за что на свете она не хотела бы увидеть в полном сострадания взгляде матери свое жалкое отражение.
Что она могла ей ответить? «Мама, меня изнасиловали. Я беременна». Две лаконичные, резкие, красноречивые фразы. Когда Лили впервые заметила ее живот, достаточно плоский, чтобы она могла его скрывать почти до конца срока, Ханна резко сказала: «Я не хочу об этом говорить, слышишь? Никогда!» И ее кузина не посмела настаивать.
Она старалась, как могла, ухаживать за матерью и поддерживать ее в достойном виде. Она мыла ее, помогала облегчиться, следила, чтобы волосы были причесаны, одежда по возможности чистой, хотя у матери было всего одно сменное платье. Мать стала такой хрупкой, что Ханна с легкостью переворачивала ее, лежавшую на мешках из джутовой ткани, набитых соломой, которые они использовали в качестве Матрацев, но ей нечем было обработать гнойные раны, появившиеся на ее локтях и пятках.
Пронзительный крик заставил ее вздрогнуть, и она вскинула руки к голове, словно пытаясь от него защититься. Высокий звук бился в висках. Всякий раз, когда ребенок плакал, ей казалось, что она подвергается физическому насилию. Несколько секунд она сидела, словно парализованная. Разрушительная спираль криков сжала ее легкие, не давая дышать.
– Займись уже своим карапузом! – раздался раздраженный голос. – Он нас совсем оглушил!
Бараки были разделены на узкие отсеки тонкими перегородками из дырявых досок и напоминали странные пещеры, гдеразместились обрывки прежней жизни. Помятая кастрюля стояла на полке рядом с будильником; распятие соседствовало со старой кожаной сумкой, висевшей на вешалке; на веревке сушилось белье. Здесь был слышен малейший звук: легкое покашливание, храп, шум голосов… Когда женщины раздевались, лучше было выключать свет.
Ханна ненавидела эту тесноту. Она выросла в семье, которая ни в чем не нуждалась, где дети получали хорошее и строгое воспитание в духе традиций, восходящих к эпохе Возрождения, когда ее предки стеклоделы получили право построить на той земле свои мастерские, дома и церкви. Ей казалось, что за ней постоянно следят жадные взгляды, и самым худшим было то, что все слышали стоны, плач, порой даже оскорбления ее больной матери. Ханна еле сдерживалась, чтобы не крикнуть: «Моя мать совсем не такая! Она была благородной и честной женщиной, вызывавшей уважение…»
Испытывая боль в суставах, Ханна с трудом разогнулась и подошла к корзине, устеленной тряпками, которая служила колыбелью.
Она взяла на руки свою дочь, которая завопила еще сильнее, села на скамейку и расстегнула блузку. Младенец сразу же нашел грудь и начал ее покусывать, чтобы пошло молоко. Боль в потрескавшихся сосках заставила Ханну поморщиться. Невозможно было достать крем или какой-нибудь лосьон, чтобы смазать трещины. Она отвернулась. Пусть эта несчастная наестся и заткнется. Главное, чтобы она заткнулась!
– Мне кажется, что у малышки лихорадка, – забеспокоилась Лили. – Может быть, это из-за жары. Твоя мать тоже себя неважно чувствовала сегодня.
Кузина, съежившись в баке с водой, натирала себя мочалкой. Она была такой худой, что у нее даже стала плоской грудь. Ее волосы отросли на несколько сантиметров. Она поклялась никогда больше их не обрезать, чтобы навсегда забыть о пережитом кошмаре.
Первое время, когда одна из них раздевалась, вторая стыдливо отворачивалась. Ханне было сложно привыкнуть к своему постоянно растущему животу, вызывавшему в ней отвращение. Но после того как ее соседка и Лили помогли ей родить, после того как ее тело было предоставлено прикосновениям и взглядам других людей, она отбросила целомудрие, как ненужную вещь. И теперь она разглядывала девушку без всякого стеснения, завидуя ее стройности подростка, ее фигуре с выступающими ребрами, лишенной груди и бедер.
Лили вытерлась и надела ночную рубашку, всю в заплатках. Она села рядом с кузиной и принялась вытирать волосы полотенцем.
– Пора уже дать ребенку имя, – сказала она, глядя на младенца, который начинал засыпать, держа во рту сосок матери. – Ты не можешь продолжать его игнорировать. К тому же фрау Хубер искала тебя утром, чтобы заполнить документы. Она говорит, что до сих пор делала для тебя исключение, но больше не собирается ждать.
– Опять эта бумажная волокита! Мы только и делаем, что заполняем какие-то формуляры.
– Послушай, но это нормально. Нужно пытаться вести учет. Каждый день прибывает около тысячи беженцев. Утром я была на вокзале. Поезда битком набиты. Некоторые пассажиры даже едут на крышах.
– Надо же, какие странные пассажиры! Людей выставляют из домов, не спрашивая их согласия. И их ты называешь беженцами? Мы не беженцы, Лили, мы изгнанники, не забывай об этом. Нас прогнали из наших деревень и городов, как бешеных собак. У нас отобрали наши дома, земли, фабрики… У нас украли нашу родину и могилы наших родителей. И что нам предложили взамен? Ничего. Разрушенную страну.
Жителей района Габлонца привезли в Кауфбойрен, что в шестидесяти километрах от Мюнхена, в вагонах для перевозки скота. Три дня и три ночи они провели взаперти, не имея возможности выйти. Как только поезд пересек границу, Ханна сорвала с руки белую повязку и выбросила ее на рельсы. Тысячи таких повязок валялись на насыпи, словно потерянные носовые платки.
По прибытии санитарки в белых халатах и косынках опрыскали их дезинфицирующим раствором. В течение двух недель карантина от этого химического запаха щипало в глазах и першило в горле. Их одежда отвратительно воняла несколько дней, но зато им выдали медицинские карты, необходимые для получения разрешения на поселение. К тому же без них они не смогли бы получить драгоценные продуктовые карточки.
В течение первых недель баварцы поселяли беженцев в школах, гимназиях, в цехах заброшенных заводов, часто прямо на земле. Каждому выдавали дневной паек. Когда фрау Эспермюллер, директриса столовой, в первый день ласково улыбнулась Лили, та разразилась рыданиями, растроганная доброжелательностью этой незнакомой женщины. Чуть позже, в мае, комитет беженцев Кауфбойрена принял решение расформировать лагерь Ридерло возле бывшего военного завода. В первую ночь, лежа в темноте, Ханна никак не могла уснуть. До каких пор их будут перебрасывать с места на место?
– Самое грустное зрелище – это сироты, – тихо продолжила Лили. – У каждого на шее висела табличка. Они все такие маленькие, некоторым около четырех или пяти лет, но никто из них не плакал. Они послушно выстроились в колонну по двое, держа друг друга за руку. И взгляды у них были совсем не детские… Фрау Хубер права, – добавила она, подняв колени к подбородку. – Малышка ни в чем не виновата. Ты не должна ее наказывать.
Ханна поджала губы, в очередной раз ощущая подавленность в этом тесном закутке размером три на четыре метра, где она была заперта вместе с умирающей матерью, лихорадочно возбужденным младенцем и кузиной, говорившей правду, которую ей совсем не хотелось слышать.
– Фрейлейн Вольф? – позвал чей-то голос.
Перед кузинами возникла маленькая женщина с волосами, собранными на затылке, в серой одежде и ботинках на шнурках. Фрау Хубер с ее совиными глазами, которые увеличивали очки, водруженные на кончик носа, отличалась невероятной активностью.
– Вот вы где, дорогуша! – сказала она, размахивая пачкой бумаг. – Отлично. Вы уже два раза от меня ускользнули, вот я и подумала, что лучше самой прийти к вам. Мне нужно знать имя вашей девочки. Прямо сейчас. Я и так вам дала отсрочку, но мне необходимо обновлять списки, вы же понимаете.
– Да, мадам, – вежливо ответила Ханна, хотя ее интересовал один-единственный список, содержащий имена солдат, погибших на фронте или числившихся пропавшими без вести, но он давно уже не обновлялся.
В который раз ее пронзила мысль о том, что Андреаса нет с ними.
Она посмотрела на младенца, который уснул у нее на руках, на его ресницы, оттенявшие щечки, пушок темных волос, и почувствовала себя растерянной. Как назвать эту незнакомку?
– Итак, фрейлейн Вольф, я вас слушаю. – В ее голосе слышалось нетерпение.
– Как ваше имя, фрау Хубер?
– Инге. Почему вы спрашиваете?
– Записывайте: Вольф Инге, родилась 10 февраля 1946 года в транзитном лагере. Мать, Вольф Ханна, родилась в 1921 году в Варштайне, в австро-венгерской Богемии, простите, в Германии, или уже в Чехословакии? – усмехнувшись, уточнила она. – Этого никто не знает наверняка. Отец…
Она выдержала паузу, в углу рта появилась горькая складка.
– Отец неизвестен, как вы уже догадались, фрау Хубер. Теперь у вас есть вся необходимая информация, не так ли? Бесполезно расспрашивать меня о ее отце, – добавила она с горькой иронией. – Я о нем ничего не знаю. Видите ли, их было трое, им стал один из них, но вот кто именно? Затрудняюсь вам ответить, мне очень жаль, что ничем не могу вам помочь. Искренне жаль…
В ее голосе появились неприятные истеричные нотки, он сорвался на последнем слове. Она заметила, что вся дрожит от гнева и бессилия. Лили положила ладонь на ее руку.
– Тихо, успокойся, – испуганно прошептала она. – Соседи услышат.
– Конечно услышат! – отозвалась Ханна, стиснув зубы. – Здесь слышно все.
– Я понимаю ваше состояние, милая моя, – сказала фрау Хубер, старательно записывая данные. – Но теперь все это нужно оставить в прошлом и набраться мужества. Вы живы. Разве не это главное? И вам повезло, что вы попали к нам, в американскую зону оккупации, а не в советскую. – Она содрогнулась всем телом, словно увидела перед собой что-то ужасное. – Начиная с мая, эшелоны, прибывшие из Габлонца, возвращаются туда. Через некоторое время, когда все наладится, вы вернетесь домой.
Она была так уверена в себе! Понимающе улыбнувшись Лили, бросив озабоченный взгляд на умирающую пожилую женщину, прикрытую до подбородка простыней, она выскользнула за дверь, ничего больше не добавив.
«Да и что тут добавишь?» – устало подумала Ханна. Разве у нее одной были проблемы? Сотни тысяч человек были свезены сюда, на юг Германии. Говорили, что скоро на каждые пять баварцев будет приходиться по одному беженцу. А ведь уже сейчас не хватало самого необходимого – жилья, пищи, – и местное население не могло радоваться такому наплыву людей, говоривших на странном диалекте, с узлами и сундуками, на которых черно-красными буквами были выведены названия: «Габлонц, Кауфбойрен, Ридерло, Бавария». Так что в этом бесконечном людском потоке судьба отдельно взятого человека никого не волновала.
Лили с ловкостью обезьянки вскарабкалась на верхнее спальное место.
– Как ты думаешь, мы скоро поедем домой? – спросила она тихонько, наклонив голову к своей кузине.
Ханна закрыла глаза, на нее навалилась усталость.
– Откуда мне знать, Лили? – вздохнула она. – Лучше спи. Завтра утром тебя ждут в мастерской по изготовлению пуговиц. Ты же знаешь, нужно работать, чтобы иметь право здесь оставаться. Я не хочу, чтобы нас и отсюда прогнали.
– Ужаснее всего было, когда я работала прислугой у противной чешки, которая меня ненавидела! Здесь мы не дома, но хотя бы на немецкой земле.
Она немного поворочалась, затем глубоко вздохнула.
– Мне жарко. Нечем дышать.
– Я знаю, Лили, но тебе нужно спать.
Младенец пискнул, и Ханна дала ему другую грудь. На мгновение темный взгляд малышки остановился на ней. Ее поразили эти огромные глаза, смотревшие на нее с безграничным доверием, тогда как сама она была совершенно растеряна. Как смог бы выжить этот ребенок, если бы не доверял рукам, которые его держали, если бы терзался сомнениями, как и его мать?
«Инге», – произнесла она одними губами, и внезапно ее дочь стала для нее существовать. Ее охватил страх, но в то же время и любопытство. Она нерешительно провела пальцем по щечке младенца, робея от этого первого проявления нежности.
В памяти всплыл зимний день из ее детства, когда она сидела у замерзшего пруда возле деревни и смотрела на рыбок, неспешно плавающих под ледяным панцирем. Тогда она удивилась, как они могут жить, оставаясь пленницами льда. Сейчас она понимала, что они, скорее всего, чувствовали себя защищенными.
Она всегда просыпалась в четыре часа утра, независимо от степени усталости, из-за острого чувства тревоги, которое вырывало ее из беспокойного сна, отзываясь настойчивой болью в желудке.
Она никому не говорила об этой боли, потому что не хотела, чтобы это списали на голод. Конечно, она испытывала чувство голода, но не так, как другие, для которых пища превратилась в навязчивую идею; она изголодалась по своей жизни, которой ее лишили, по своему городку, по своему дому с привычными запахами, по доскам паркета, скрипящим на верху лестницы, по старым чемоданам с воспоминаниями, сложенным на чердаке, по успокаивающему тиканью часов в кухне. Она изголодалась по будущему, которое было обещано ей, маленькой девочке, и теперь превратилось в пыль.
В полумраке Ханна различала силуэты стола и табурета, которые один столяр соорудил из досок, взятых у американских военных. Каждый гвоздь, каждая дощечка были на вес золота. Висевшая на вешалке одежда напоминала привидение. Жаркая и липкая темнота окутывала женщину со всех сторон. По ночам ей казалось, что она находится в утробе какого-то чудовища, издающего непонятные звуки, обладающего странными запахами. Она представляла себе все эти спящие тела вокруг нее, детей, прижавшихся друг к другу, стариков, вытянувшихся на раскладных походных кроватях американцев, стоических женщин, пытающихся восстановить силы в течение ночи, чтобы встретить очередной тяжелый день. Работоспособных мужчин было мало. Одни погибли, другие пропали без вести, многие были депортированы в Советский Союз в течение нескольких недель после окончания войны, и семьи не получали от них никаких известий. Изредка кто-то из них возвращался из союзнических лагерей для военнопленных.
Она обнаружила, что отчаяние обладает стойким вкусом, иссушающим горло. Тем не менее ей нужно было держаться. Ее жизнь теперь была лишь чередой выполняемых обязанностей, ежедневным преодолением препятствий. Необходимо было ухаживать за матерью, ободрять Лили, которая цеплялась за нее как ребенок, не дать умереть младенцу, следить за тем, чтобы у них была пища и одежда. Она боялась, что заболеет и не сможет выполнить свой долг, а ведь вокруг бродила смерть, преданная и внимательная спутница. Не было дня, чтобы с территории лагеря не выносили на носилках труп. Умирали от истощения, от старости, от усталости, от болезни. Какая разница? Покойников хоронили на все разраставшемся кладбище, предавали чужой земле, и их близкие с бледными, искаженными гримасой лицами громко рыдали, но излияние чувств длилось не дольше грозы, так как жизнь продолжалась, и ни у кого не было ни времени, ни сил на бесполезные слезы.
Внезапно она встала с кровати и выдвинула из-под нее чемодан, стараясь производить как можно меньше шума. По прибытии их попросили сдать свои вещи на хранение. Возмущенная Ханна устроила истерику: ведь это было все, что у них осталось! Ей с трудом удалось вырвать свои жалкие пожитки из лап чешских полицейских, и теперь ее хотели лишить последнего… Стоявшие вокруг нее измученные беженцы разрыдались. Уполномоченные лица попытались их успокоить. Чемоданы, тюки и ящики будут скоро возвращены людям, по мере расселения по баракам. А пока добровольцы могут охранять склад хоть круглые сутки. Вольфам повезло: их семья была заселена в тот же день, они получили свои вещи. Ханна знала, что многие ждали этого до сих пор.
Она открыла чемодан маленьким ключиком, который висел у нее на шее, и достала аккуратно завернутую в свитер чашу, которую Андреас выгравировал накануне своего отъезда на фронт. Она села на кровать и положила ее на колени.
Ханна сильно рисковала, вывозя ее из страны. Чешские власти запретили брать с собой все, что имело хоть какое-то отношение к производству Габлонца. Химические формулы для получения тонких стеклянных цилиндров, чертежи станков для изготовления пуговиц или бисера из прессованного стекла, образцы украшений из шлифованного стекла, таких как сережки или кулоны, списки иностранных клиентов, бухгалтерские документы… Пришлось оставить все. Хотя было несколько обысков, ей удалось каким-то чудом сохранить чашу, и она считала это настоящей победой.
В темноте детали не были видны, но она на ощупь коснулась кончиками пальцев изящной гравюры, которую хорошо помнила.
Ханна некоторое время раздумывала, какую из поделок Андреаса взять с собой на память. Самые ценные – кубок, выгравированный для выпускного экзамена, и ваза «Девушка в лунном свете», получившая высшую награду на выставке в Париже, – были спрятаны между досками двойного пола в столовой. Возможно, Андреас хотел бы, чтобы она спасла вазу, наиболее символическую из его работ, но она руководствовалась душевным порывом. Чтобы выдержать это страшное путешествие, ей необходимо было взять с собой жизненную силу, исходившую от силуэта молодой женщины, такой непримиримой и свободной, родившейся в воображении ее брата тревожным вечером.
Андреас сидел у открытых дверей грузового вагона, свесив ноги в пустоту. Он курил сигарету, глядя на проплывающий мимо баварский пейзаж, подернутый дымкой. Удушающую жару лишь слегка ослабил проливной дождь, хлеставший по земле и по крыше вагона. Запах плодородной земли и влажной травы щекотал ноздри.
– Не очень-то пощадили их союзники, – произнес Вилфред, беря сигарету, которую протягивал ему Андреас.
Они придерживались этого ритуала уже несколько недель, так как запасы табака не всегда можно было пополнить. Андреас выкуривал половину сигареты, затем передавал оставшуюся своему юному спутнику, который затягивался, пока не обжигал себе губы.
«Какой скорбный пейзаж! – подумал Андреас. – Сгоревшие дома, разбитые дороги, заброшенная земля…» Бесформенный каркас джипа с белой звездой на капоте лежал в канаве. А города, которые они проезжали! Бог мой, города…
Опустошенные зажигательными бомбами, которые американская и английская авиации сбрасывали миллионами, выжженные фосфором, с десятками тысяч обугленных тел, они превратились в кладбища под открытым небом. Вверх торчали, словно погребальные стелы, балки домов, а между ними потерянно бродили женщины, дети, старики и освобожденные военнопленные. Земля была изрезана шрамами, как и душа.
Андреас вспомнил украинские и русские деревни, от которых остались лишь дымящиеся руины, так как войска SS получили приказ расчистить путь вермахту. Он подумал о солдатах с огнеметами, изрыгавшими огонь с ужасающим выдохом, о невинных жертвах, рывших себе могилы перед расстрелом. Другие народы, другие несчастные люди, с глазами, полными страха и отчаяния.
Он снова услышал спокойный голос Венсана Нажеля. Они тогда лежали на сеновале какого-то колхоза. «Избиение младенцев, когда Ирод приказал убить всех новорожденных в родительских домах, все эти жертвы, от Тридцатилетней войны до кампаний Наполеона, от окопов Вердена [47]47
Битва при Вердене – одно из крупнейших сражений Первой мировой войны на Западном фронте.
[Закрыть]до шакалов Гитлера… Скажи, Андреас, это действительно неизбежно?» Ему не хотелось отвечать, он был слишком измучен для философского объяснения того, что представляло собой всего лишь непреодолимую жажду власти. «Кто посеет ненависть…» – добавил его друг, оставив фразу незаконченной.
Поезд замедлил ход. На насыпи стояли трое мальчишек и смотрели на них. Их криво застегнутые рубашки без воротника намокли под дождем, а короткие брюки, натянутые до подмышек, словно у стариков, открывали худые коленки. Ноги их были босыми, руки со сжатыми кулаками прижаты к телу. На гладко выбритых головах топорщились уши.
– Вольно! – шутливо крикнул Вилфред. – Такое ощущение, что из немцев никогда не удастся вышибить военный дух. Взгляните на них, мой лейтенант, они стоят по стойке «смирно», хотя команды не было.
Внезапно самый высокий из троих достал рогатку.
– Черт! Они целятся нам прямо в лицо! – возмущенно воскликнул Вилфред, поднося руку к щеке.
Между его пальцами сочилась струйка крови.
– Ну, я сейчас задам взбучку этим соплякам…
Андреас опустил голову, чтобы спрятать лицо от летящих камней. Он видел, как ребята бросились по полю врассыпную, словно стайка воробьев.
– Знаешь, как нас называют в Баварии? Судетские канальи. Тебе придется с этим смириться. А еще с тем, что нас здесь никто не ждет. У них и без нас полно проблем. Достаточно посмотреть вокруг. Придется работать вдвое больше и вдвое лучше других, чтобы чего-то добиться. Подарков здесь дарить не будут.
– Какое свинство… – проворчал Вилфред, вытирая щеку грязным носовым платком. – Это их не оправдывает. Меня учили быть вежливым со взрослыми.
Андреас подумал, что его отец подписался бы под каждым словом парня, но что теперь осталось от правил и обычаев исчезнувшего общества? Лишь воспоминания о том времени, когда соблюдались приличия и молодые уважали старших. Отныне в побежденной Германии не осталось ничего достойного, присущего поколению родителей, нужно было создавать все заново.
Он смотрел на развалины фермы, по всей видимости, когда-то процветавшей. Необъятность предстоящей работы его угнетала. Тем не менее ему придется строить новую жизнь, поскольку он каким-то чудом выжил. Он посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях. Это было все, чем он владел, и еще одежда: военные брюки, белая разорванная рубаха, короткое пальто, на котором не хватало пуговиц, и рюкзак с котелком и сменной рубашкой.
«У меня ничего нет за душой, – подумал он и внезапно рассмеялся. – Теперь и про меня можно сказать эту банальность: у кого нет ничего, тому и терять нечего». В течение нескольких лет он жил в тревожном ожидании, постоянно опасаясь за свой дом, свое имущество, свою родину. За все, на чем основывалась его жизнь. Он давно понял, что эта война должна быть выиграна, или, по крайней мере, проиграна с честью, чтобы богемские немцы могли попасть под защиту международного соглашения и получить право остаться у себя дома. Но теперь, когда худшее произошло, он испытывал странное чувство облегчения. В течение пяти лет войны он постоянно страшился смерти. И вот теперь, под грозовым небом встревоженной Баварии, этот страх исчезал.
– Вы думаете, нам здесь будет хорошо? – неожиданно спросил Вилфред, в энный раз перечитывая бумагу, с которой не расставался.
Неоднократно сворачиваемый и разворачиваемый лист бумаги стал похож на тряпку. Его им вручили на одной из бесчисленных станций, обдуваемых всеми ветрами, множество которых они проехали за последние недели. Эта бумага призывала всех людей, владевших специальностью, востребованной на производстве Габлонца, прибыть в баварский район Аллгау, а именно в коммуны Кауфбойрен, Маркт-Обердорф и Фюссен. «Ваше производство, которое кормило вас до недавнего времени, возрождается в Баварии… Его структура будет похожа на ту, с которой вы были знакомы на бывшей родине и которая сохранялась из поколения в поколение… Тот, кто был независим, станет им снова. Объедините свои усилия для процветания региона, который станет вашей новой родиной…»
В Мюнхене, на Вагмюллерштрассе, 18, им подтвердили, что Габлонц возрождался из пепла в нескольких километрах от небольшого городка Кауфбойрена. Андреас не поверил своим ушам. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Он тут же потянул за собой Вилфреда, уверенный, что его мать, Ханна и Лили должны быть где-то недалеко от этого места.
– А вдруг меня не возьмут? – причитал Вилфред. – Ведь у меня нет квалификации, а нам сказали, что берут только специалистов.
– Я тебе уже говорил, ты будешь моим подмастерьем, – проворчал Андреас. – Ты останешься со мной. Это приказ.
Держась рукой за дверь вагона, он резко наклонился вперед, словно собираясь спрыгнуть на ходу, и поднял лицо к небу, подставляя его под струи дождя. Он ловил губами прохладные капли и вспоминал о времени, когда умирал от жажды в русской степи. Ему хотелось впитать саму суть этой чудотворной воды с ее многогранной надеждой на будущее, постичь ее неуловимость и прозрачность, чтобы воздать ей должное. В его голове начали вырисовываться контуры гравюры, и эта жажда творчества, возникшая так неожиданно, когда он опасался потерять ее навсегда, заставила его содрогнуться, наполнив почти детским восторгом.
Таким образом, робко и с благоговением, трясясь в грузовом поезде, Андреас Вольф, мастер-стеклодел из Богемии, прислушивался к тому, как внутри него зарождалась самая истинная и светлая молитва, чистый и древний перезвон хрусталя.
Ближе к вечеру тени начали удлиняться. Ханна возвращалась в лагерь, опустив взгляд на пыльную землю. Весь день она помогала расчищать развалины дома. Выстроившись в цепочку, повязав на голову косынки, женщины передавали друг другу кирпичи, обломки балок и куски застывшего раствора с размеренностью метронома, концентрируясь только на работе. Теперь ее ободранные ладони нещадно горели.
На обратном пути она прошла мимо маленького торговца с тщательно зачесанными назад волосами, выставившего свой товар под фронтоном здания, от которого остался только фасад. Он разложил несколько разрозненных товаров на деревянной доске: кастрюля, щетки для волос, котелки и подтяжки. Рядом стояли метлы. Левый рукав его куртки был подобран и пристегнут булавкой на уровне локтя. Ханна не знала, смеяться ей или плакать, когда услышала, как он по-старомодному учтиво здоровается с потенциальным клиентом. Когда они смогут разобрать все эти развалины? Сколько времени понадобится, чтобы построить все заново? Задача была неохватной. Немыслимой.