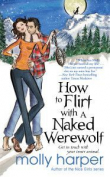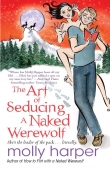Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Тереза Ревэй
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Ханна прошла вдоль окружавшей лагерь решетки с протянутой по верху колючей проволокой. На входе она усталым движением предъявила свой пропуск. С тяжелым сердцем она думала о том, что ее ждет. Обретет ли она когда-нибудь то ощущение легкости, с каким возвращалась раньше домой? Лишь теперь, лишившись этого навсегда, она понимала, какое чувство безмятежности и покоя испытывала, возвращаясь вечером в свой дом в Варштайне. Все, что она принимала как должное, исчезло без следа, и ей стало казаться, что ее обокрали дважды, потому что тогда у нее еще не было мудрости наслаждаться простым очевидным счастьем.
– Ханна! – раздался голос кузины.
Она испуганно подняла голову. К ней бежала Лили.
– Что случилось?
– Скорее, прошу тебя!
– Боже мой, мама…
Лили схватила ее за руку. У нее было странное выражение лица, рот искривился, глаза лихорадочно блестели. Ханна бросилась бежать. Кровь стучала у нее в висках. Лили что-то говорила, ее голос срывался, но она ее не слушала. Ей было необходимо увидеть мать, не теряя ни секунды.
Задыхаясь, она столкнулась с какой-то женщиной, выходившей из барака. На них опрокинулся таз с водой.
– Простите! – извинилась она, не останавливаясь.
Наконец она вбежала в их комнату. У кровати матери сидел какой-то мужчина. Как обычно, от вида незнакомца кровь застыла у нее в жилах.
– Кто вы такой? – воскликнула она. – Что вам здесь нужно? Оставьте мою мать в покое!
Мужчина медленно поднялся и повернулся к ней. Исхудавший, с иссеченным морщинами лицом, он пристально и жадно смотрел на нее.
Ханна нервным жестом вытерла об платье ладони. Она внимательно осмотрела его, словно хотела убедиться, что все это ей не снится.
– Андреас? – выдохнула она.
Он не смог ей ничего ответить. Словно окаменев, он пожирал ее глазами, такую прямую и суровую в своем платье, забрызганном водой, с ободранными ладонями и несколькими прядями, выбившимися из пучка. Раньше, в другой жизни, его маленькая сестренка бросилась бы ему на шею. Он пытался увидеть в ней робкую девушку, еще по-детски пухленькую, которую он оставил стоять на платформе вокзала несколько лет назад, но взгляд его наткнулся на строгое лицо недоверчивой женщины.
Ханна сделала один шаг, затем другой, протянула руку и коснулась его. Она хотела удостовериться, что под рубашкой не призрак, а живое тело из плоти и крови.
От нахлынувшей волны облегчения у нее закружилась голова. Ей вдруг почудилось, что ее брат может разлететься на кусочки, как разбитое зеркало. Она осторожно положила голову на его плечо и обняла его одной рукой. Закрыв глаза, она вдохнула его запах, почувствовала тепло его кожи сквозь рубашку.
– Ханна, мне очень жаль, – прошептал он. – Мама только что оставила нас. Я был с ней. Она не страдала.
Ханна вздрогнула и повернулась к матери. Лицо пожилой женщины стало серым. Кто-то сложил ей руки на груди. «Господи, какая она маленькая! – подумала она. – Словно кукла».
Она растерянно села у кровати, натянула шершавое одеяло, чтобы расправить складки. Когда она уходила утром, все было в порядке. Ей даже удалось уговорить маму проглотить немного бульона. И вот, всего за несколько часов, она потеряла мать и обрела брата, которого считала погибшим!
Ханна машинально потерла лоб, сначала легонько, затем все сильнее и сильнее. Ей хотелось протестовать, кричать, но она не могла издать ни звука. В голове спорили гневные голоса.
Она ухаживала за больной матерью столько лет, привезла ее сюда, из кожи вон лезла, чтобы обеспечить ей хоть какой-то комфорт и уход, а мать умерла, даже не дождавшись ее! Складывалось впечатление, что пожилая дама цеплялась за жизнь в надежде в последний раз увидеть Андреаса, и делала это только ради него. Но ведь так было всегда! Ханна родилась на десять лет позже своего брата, когда родители считали, что больше не смогут иметь детей. Ее холили и лелеяли, но, подрастая, она стала подозревать, что в семье она лишняя, что скорее обременяет мать своим существованием. С проницательностью, свойственной детям, она понимала, что брат всегда будет занимать в сердцах их родителей первое место.
За ее спиной Андреас разговаривал с Лили, которая плакала и смеялась одновременно. Возбуждение их кузины часто переходило в нервный срыв. Он спокойным голосом объяснил ей, что сейчас пойдет в дирекцию лагеря, чтобы уладить формальности, связанные с похоронами. Он говорил тихо, уверенно, и глубокий тембр его голоса, который Ханна так часто слышала в своих снах, разливался по ее жилам.
«Наконец-то все кончено, – подумала она обессиленно, но со странным облегчением, положив лоб на холодные руки матери. – Теперь и я могу спокойно умереть».
Ливия стояла у окна. Капли воды оставляли на стекле дорожки, последние желтые листья устилали траву сада, расположенного с тыльной стороны дома. Время от времени ее веки закрывались. Она положила обе руки на живот, растопырив пальцы. У нее было ощущение, что кожа на нем натянута, как на барабане. Со страхом она ожидала нового приступа боли.
– Попробуйте немного пройтись, – сказала Элиза.
Ливия вынырнула из своего оцепенения, покачала головой. Пройтись… С удовольствием! Если бы она только могла, тотчас взяла бы ноги в руки и умчалась на край света, подальше от этого слишком серого города и чересчур дождливой осени. Она нервно растерла руки – ей было холодно. За исключением тех летних дней, когда жара словно накрыла город крышкой, с тех пор как она ступила на лотарингскую землю, у нее было чувство, что она все время мерзнет.
Ливия вскрикнула. Всякий раз боль подступала неожиданно. Вот и сейчас у нее возникло ощущение, будто из глубин живота к горлу поднимается острый нож.
– Дышите! – приказала Элиза, наклоняясь к ней.
Чувствуя себя униженной, но не имея другого средства хоть немного облегчить страдание, Ливия принялась прерывисто дышать. Во время первых схваток она кусала губы, чтобы не кричать, стараясь во что бы то ни стало выглядеть достойно в глазах своей золовки, но когда спазмы участились, она сдалась. Сосредоточившись на своей боли, она не могла избавиться от абсурдной, пугающей мысли о том, что этот ребенок так и не сможет родиться, и она будет вынуждена носить его в себе до конца своих дней, ни мертвым, ни живым.
– Я делаю… все… что… могу, – простонала она сквозь стиснутые зубы.
Ее челюсти были плотно сжаты, на лбу блестел пот. За всю свою жизнь она не испытывала такого страха.
Липкая жидкость потекла по ногам, пропитывая длинную белую ночную сорочку из хлопка. Она растерянно подумала, что Элиза не обрадуется, если на ковре появятся пятна.
– Боже… – прошептала она.
– Теперь вам следует лечь, – сказала Элиза. – Акушерка вот-вот подойдет. Не волнуйтесь. Все будет хорошо.
– Франсуа… – выдохнула Ливия, передвигаясь маленькими шажками.
– Естественно, я пошлю его известить, – успокоила ее Элиза.
– Он сам попросил об этом…
– Конечно.
Элиза усадила ее на кровать.
– Я помогу вам переодеться, – сказала она, протягивая ей чистую ночную рубашку, – когда вам станет лучше.
– Спасибо, я справлюсь сама.
Ей не хотелось раздеваться перед своей золовкой. После смерти родителей она жила вместе с дедушкой и братом. В ее личную жизнь никогда не вторгались. Даже тетушки, окружившие ее любовью и заботой, никогда не жили вместе с ними, и Ливия была непривычна к женским взглядам.
Пока она переодевалась, Элиза отвернулась и заодно убедилась, что чистое белье аккуратно разложено на комоде. Комната была вычищена до блеска юной служанкой этим утром. В воздухе витал аромат пчелиного воска.
Ливия с гримасой боли легла на кровать и оперлась на подушки. Ожидание создавало в комнате почти осязаемую напряженную атмосферу. В этих четырех белых стенах, украшенных гравюрами с изображениями легендарных святых города Клемента и Арнуля, один из которых удерживал на поводке побежденного дракона, а второй сжимал в руке епископский перстень, она подарит жизнь своему ребенку, и никто из ее семьи об этом не узнает: ни тетки, ни кузины, ни Флавио.
Она мельком подумала о Марко. Он не скрывал, что хотел на ней жениться. Если бы она дала согласие, то стала бы одной из Дзанье и жила бы под Сан-Донато, в тени пальмовых деревьев, в огромном желтом доме с высокой решетчатой оградой и белыми арочными окнами, и носила бы ребенка Марко. В назначенный день вокруг нее собрались бы его родные – болтливые женщины с проворными руками, вопящие от возбуждения. Все подчинялись бы приказам тети Франчески, которая никогда не расставалась с золотым лорнетом, прикрепленным к цепочке на шее, чье кукольное лицо выражало решимость армейского генерала. Хлопали бы двери, повсюду раздавались бы голоса. Через открытое окно в комнату врывался бы свежий воздух лагуны, в октябре уже влажный; она смотрела бы на серое облачное небо с желтой каймой, когда ветер хлещет по щекам и продувает тело насквозь, возвещая о приближении зимы.
Дом Нажелей, словно свернувшийся вокруг своей кованой лестницы, был молчалив и внимателен, как послушный ребенок. Она повернула голову к окну. В Венеции осенний дождь тоже навевал грусть, но он все же отличался от здешнего, и ей его не хватало просто потому, что то был дождь ее детства.
Она перевела взгляд на свою золовку, которая со скрупулезностью педантичного человека проверяла, все ли подготовлено к родам. Элиза была затянута в одно из своих черных платьев, которые она носила как униформу, но все они были сшиты из качественного материала. Лишь воротнички ежедневно менялись: от гофрированного кружевного до плиссе различных геометрических форм. Постепенно Ливия придумала себе игру, пытаясь каждое утро угадать выбор этой детали туалета, которая, как ей казалось, отражала настроение Элизы. Ее золовка была худой, сухопарой, прямой, как палка, с неизменным жемчугом в ушах и мужскими часами на потрескавшемся кожаном ремешке, слишком тяжелыми для ее запястья. Холодный бесцветный взгляд, порой тревожно неподвижный, напоминал о ее принадлежности к роду лотарингцев, которые оказывали непримиримое сопротивление немцам в течение трех войн. Она была из тех женщин, которые слушают разрывы бомб и глазом не моргнув, и не выражают ни гнева, ни радости, из тех жестких и стойких женщин, суровость которых в кризисное время обладает, пожалуй, успокаивающим эффектом. Глядя на нее, Ливия чувствовала себя переполненной жизненным соком, почти непристойной со своей налитой грудью с вытянутыми сосками и разбухшим телом, с обручальным кольцом, впившимся в палец.
– Я оставлю вас на минуту, – сказала Элиза. – Посмотрю, не пришла ли акушерка, и вернусь. Вы пока отдохните.
Элиза не захотела, чтобы Ливия рожала в родильном доме на холме Сент-Круа. «Вам будет спокойнее дома», – заявила она, но Ливия была уверена, что таким образом она пыталась сохранить приличия. Не подпустив к роженице чересчур любопытных монашек, Нажелям не придется давать затруднительные объяснения по поводу слишком ранних родов.
Как только золовка закрыла за собой дверь, молодая женщина с трудом поднялась с кровати. Она подошла к шкафу, открыла его и просунула руку между своими кофтами и чулками. Накануне она рискнула взобраться на стул, чтобы вытащить красную тетрадь из тайника, который она обнаружила над шкафом, потому что хотела иметь ее под рукой. Это была ее единственная связь с Мурано, с ней самой.
Ливия развернула бурую оберточную бумагу, погладила потемневшую от времени обложку, вдохнула едва уловимый запах страниц. Тотчас перед ее мысленным взором возникла мастерская Гранди с жаркими печами, треском плавящегося cristallo,щелканьем пинцетов, гулом стеклодувных трубок, снопами искр и светом, который позволял себя приручить достойному мастеру. Она почувствовала боль в сердце, которая не имела ничего общего со спазмами, периодически сотрясающими ее тело. Как они там, без нее? Думают ли о ней? Тино, должно быть, все так же возглавляет мастерскую, но удается ли ему ладить с Флавио? Чтобы выносить гомерические приступы гнева этого волка, нужно не терять хладнокровия, а это качество как раз отсутствовало у ее брата.
Спустя несколько недель после своего приезда в Мец, на случай, если Флавио захочет что-либо узнать о ней, Ливия написала своей подруге Марелле, что решила пожить во Франции. Она была сердита на своего брата, но не настолько, чтобы оставить его в полном неведении, словно она растворилась в воздухе. Написать ему письмо с объяснениями, что она считала своим долгом, у нее пока не хватало духу.
Она превратилась в изгнанницу, лишенную своего доброжелательного города с потрескавшимися фасадами и причудливыми улочками, которые окутывали ее, словно коконом, пока стремление к простору внезапно не выводило ее к набережной Дзаттере или Фондаменте. Ливия чувствовала себя обобранной, раздетой, уязвимой. С тоской глядя на небо, она тщетно пыталась увидеть такое же сияние, как на родине, но у неба Лотарингии не было лагуны, и ему было далеко до этой волшебной алхимии воды и света.
Ребенок напомнил о себе нетерпеливо и активно. Скорчившись от боли, она поднесла руку к животу и выронила тетрадь, изо всех сил сжимая губы, чтобы не закричать.
Когда дыхание вновь вернулось к ней, она подумала, что нужно убрать тетрадь, пока не вернулась Элиза. У стеклоделов не принято легкомысленно относиться к тайнам. Любое нечаянное или намеренное раскрытие какого-либо приема изготовления стекла влекло за собой проклятие или смерть. В эпоху своего расцвета Светлейшая посылала убийц, чтобы заставить навсегда замолчать вероломных стеклодувов, и в сказках, которые рассказывали детям, самыми страшными персонажами были не колдуны и не привидения, а эти проклятые души, ходившие по кругам ада.
Когда Ливия согласилась у изголовья умирающего дедушки принять в наследство красную тетрадь семьи Гранди, она четко осознавала, какую берет на себя ответственность. Никто и никогда не должен прикасаться к этим страницам, где хранились рисунки, химические формулы, уникальные составы, из-за которых один из ее предков отдал свою жизнь.
Она неловко наклонилась, и ее онемевшие пальцы с трудом ухватили тетрадь, и в это время в коридоре отчетливо послышался голос Элизы. С бьющимся сердцем она наконец подняла тетрадь и быстро сунула в шкаф.
– Ливия, что вы делаете? – удивилась золовка, открывая дверь.
С ней вошла акушерка в белом фартуке, повязанном вокруг талии, рукава ее блузы были засучены.
– Ничего. Просто хотела немного пройтись.
– Я осмотрю вас, мадам Нажель, – сказала акушерка. – Прилягте, пожалуйста.
Ливия подчинилась.
– А Франсуа? – спросила она Элизу.
– Не беспокойтесь, его уже известили. Он наверняка скоро будет здесь. Я подожду в гостиной. Мадам Беттинг, сообщите мне, когда закончите осмотр.
Она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. На лестнице ей встретилась юная Колетта, поднимавшаяся с бельем наверх.
– Желаете, чтобы я предупредила месье Франсуа, мадемуазель? – озабоченно спросила служанка.
– Пока в этом нет необходимости. Это первый ребенок. Ему понадобится время, чтобы появиться на свет, а я не хочу беспокоить месье Франсуа из-за тех незначительных проблем, которые могут возникнуть в ближайшие часы.
– Хорошо, мадемуазель.
Элиза вошла в гостиную. Огонь камина прогонял сырость и оживлял тусклый свет, проникавший через окна. Она пригладила волосы рукой, затем подошла к круглому столику, на котором стояло несколько графинов, и налила себе немного мирабелевой настойки. Было рановато для ликера, но ее ждал длинный вечер.
Она полюбовалась прозрачной жидкостью, переливавшейся в свете пламени, потом повернулась к двум фотографиям, стоявшим в рамочках на столе. Уперев руки в бока, с расстегнутым воротом рубашки, Франсуа от души хохотал, прищурившись и слегка откинув голову назад. Этот снимок был сделан в Вогезах, где они провели неделю летом перед началом войны. Он выглядел несокрушимым, источающим торжествующую силу, уверенным в себе подростком, которому жизнь пророчит лишь победы.
Нежным движением она коснулась второй серебряной рамки. Венсан не улыбался в объектив. Он смотрел искоса, с подозрительным видом, задрав подбородок и напрягшись всем телом. Чувствовалось, что он сердится на фотографа, поскольку тот застал его врасплох. Он никогда не любил выставлять себя напоказ. Маленьким мальчиком он отказывался участвовать в школьных театральных постановках или читать стихи перед родителями и родственниками в конце учебного года. Не такой ладный, как его младший брат, более гибкий и хрупкий со светлыми мягкими волосами, открывающими высокий лоб, тонкими губами и заостренным носом, Венсан был скорее нелюдимым. Он с опаской относился к жизни, которая казалась ему полной подвохов, и его сестра постоянно старалась его от них уберечь. У нее это, впрочем, неплохо получалось, пока Рейх Адольфа Гитлера не мобилизовал его в вермахт и не отправил на русский фронт.
Элиза залпом осушила свой бокал. Венсан был жив, она в этом нисколько не сомневалась. Она столько боролась за его жизнь, пока он был ребенком, что он не мог просто так умереть на чужой земле во имя утоления жажды завоеваний народа, доведенного до фанатизма самим дьяволом.
В восемь лет ее маленький братик подхватил скарлатину, затем у него появилась аллергическая реакция на медикаменты. Из-за распухшего горла было невозможно глотать, тело, терзаемое лихорадкой, покрылось красными бляшками. На третий день врач, исчерпав все свои возможности, с сожалением покачал головой. Вне себя, с безумным лицом, Элиза схватила его за руку: «Мой брат будет жить, вы слышите, доктор? Я не позволю ему умереть». Она ухаживала за Венсаном день и ночь, делала ему холодные компрессы, позволявшие ослабить судороги, оставляя себе на отдых и питание лишь необходимый минимум времени, чтобы не свалиться с ног от усталости.
Их отец помчался в церковь с рубашкой Венсана, чтобы одежду больного приложили к мощам святого Блэза, которые, как считалось, помогают страдающим от болезней горла. Все было напрасно. Когда, в полном смятении, он пригласил приходского священника для соборования умирающего, Элиза не пустила того на порог. Несколько лет назад умерла ее мать, и она не могла потерять брата. Элиза приняла это как личный вызов и решила состязаться с самим Богом. Семью, уже понесшую потери, он должен был пощадить. И она одержала победу. Венсан выжил, однако не вышел невредимым из этого испытания. Смерть прошла так близко, что обожгла его душу, оставив в ней невидимый, но глубокий шрам.
Он вернется из этой варварской страны, она была в этом уверена. Если бы Венсан был убит, она бы почувствовала это нутром. Да, Элиза не вынашивала и не рожала своих братьев, но она вырастила их до взрослого возраста, служа им защитой от чудовищ из детских кошмаров. Она следила за их учебой в коллеже Сен-Жермен с той же бдительностью, что и их иезуитские наставники. Она была их опорой и убежищем, и она формировала этих двоих мужчин, которые были для нее самым большим счастьем и единственной гордостью. Однажды, когда Венсан медленно поправлялся после болезни, лежа с осунувшимся лицом на белых подушках, а маленький Франсуа прижимался к ней, сидя у нее на руках, она поклялась им: никто и никогда не сможет их разлучить.
Машинальным жестом она поправила часы Венсана, которые перевернулись на ее запястье. Он оставил их ей, перед тем как уйти на войну, решив не брать с собой, чтобы не потерять. Кожа ремешка хранила следы его кожи, пота, запаха.
Элиза подошла к секретеру и нажала на механизм, открывавший потайной ящик. Она достала из него письмо. На конверте стоял адрес: синьорине Ливии Гранди, мастерские Гранди, Мурано. С задумчивым видом она покрутила его в руках, затем приблизилась к камину и бросила письмо в огонь.
– Мадемуазель?
– Да, Колетта, – отозвалась она, не оборачиваясь.
– Мадам Беттинг просила вам передать, что она закончила осматривать мадам. Она считает, что ребенок родится не раньше вечера.
– Я так и думала. Благодарю тебя, Колетта.
Элиза наблюдала, как медленно воспламеняется письмо. Когда от него остался лишь пепел, она развернулась и направилась на второй этаж, в комнату, где должна была родить супруга ее брата.
Несколько часов спустя Франсуа вихрем ворвался в прихожую. Порыв ветра вырвал из его рук дверь, и та с силой захлопнулась за ним. Он бросил в угол свою вымокшую шляпу, попытался быстро снять плащ, но запутался в нем. Он понимал, что выглядит как безумец, но ему было все равно: он должен был увидеть Ливию, убедиться, что с ней все в порядке, что она не очень страдает. Хотя она должна была страдать, раз этот ребенок никак не мог родиться, и она боролась уже столько времени. Господи, а вдруг она не выживет?
Он поднял голову и увидел сестру, стоявшую на верхней площадке лестницы.
– Как она? – воскликнул он, прыгая вверх по лестнице через две ступеньки.
Когда он поднялся на площадку, Элиза протянула руку и схватила его за рукав. Они были почти одного роста, он посмотрел ей в глаза.
– Успокойся, Франсуа. Врач и акушерка рядом с ней. Все идет нормально.
Он бросил взгляд на закрытую дверь.
– Ты уверена? Возможно, я ей нужен.
– Чем ты можешь помочь? Ты рискуешь ее напугать, если ворвешься к ней в таком состоянии. Ты же не хочешь, чтобы она волновалась?
– Я хочу ее увидеть. Она подумает, что я ее бросил. Почему ты не позвала меня раньше? Я же просил предупредить меня, когда все начнется.
– Именно это я и сделала. Ребенок уже скоро родится. Пойдем, мы подождем в гостиной. Неужели ты думаешь, что молодая женщина хотела бы, чтобы муж видел ее, когда она плохо выглядит? Надо быть деликатнее. Мужчинам не место в комнате, где рожают женщины. Пора бы понимать такие вещи.
Франсуа колебался, но сестра не отпускала его руку. Он почувствовал какое-то странное оцепенение и опустил глаза на руку Элизы, державшую его. Разве можно было ей сопротивляться? Нехотя он спустился по лестнице и проследовал за ней в гостиную.
Как обычно, она села в кресло слева от камина. Он заметил, что «Лотарингский республиканец» не был прочитан. Явное доказательство того, что день был необычным.
Элиза была человеком строгих правил. Каждое утро, и летом, и зимой, она поднималась без четверти шесть, читала молитву, затем спускалась в столовую, где пила кофе с молоком и съедала два кусочка белого хлеба с медом, после чего занималась домашними делами. Ежедневно ровно в половине двенадцатого, за исключением воскресенья, когда она посещала церковь, независимо от погоды, она выходила из дома на прогулку, переходила по мосту через реку Мозель и взбиралась на холм до площади д'Арм. С раскрасневшимися от быстрой ходьбы щеками, она покупала свою любимую газету, которую прочитывала после завтрака от первой до последней строчки.
К своему великому изумлению, Франсуа однажды случайно узнал, что его сестра отдавала предпочтение рубрике происшествий. Она ему в этом призналась, когда он застал ее выходящей из Дворца правосудия, где она присутствовала на судебном процессе по делу булочника, зарезавшего свою жену. Элиза казалась немного смущенной тем, что он узнал о ее маленькой слабости, и с тех пор оба брата подшучивали над ней при малейшей возможности. Она защищалась, утверждая, что ее привлекает только сложность человеческой души, а больше всего интересуют убийства из ревности.
Однако во время войны несколько сбежавших заключенных и дезертиров, уклонявшихся от воинской службы, выжили именно благодаря странному пристрастию мадемуазель Элизы, которое руководители движения Сопротивления [48]48
Национально-освободительное, патриотическое движение против фашистских оккупантов и режимов во время Второй мировой войны. Развивалось на территориях, оккупированных агрессорами, и в странах фашистского блока.
[Закрыть]умело использовали для притупления бдительности немцев. Таким образом, причуды старой девы, мастерски раздутые в период присоединения к Рейху, приобрели в их квартале символический смысл.
Франсуа принялся ходить взад-вперед по комнате. Может быть, не нужно было слушать Элизу и все же пойти к Ливии? Вдруг она нуждается в нем? Но сестра могла быть права. В конце концов, она как женщина лучше понимала эту деликатную ситуацию. Меньше всего на свете он хотел бы смутить Ливию, внезапно ворвавшись в комнату. Он вдруг осознал, что ничего не знает о желаниях своей супруги.
И неудивительно, ведь Ливия так мало разговаривала. В течение тех нескольких месяцев, что она провела под крышей их дома, ее практически не было слышно. Она беспрекословно следовала советам Элизы, всегда оставаясь в ровном расположении духа, принимая все с какой-то покорной усталостью, никогда не повышая голоса. Иногда его это беспокоило, так как ему стало казаться, что его жена превратилась в тень той страстной юной венецианки, которую он впервые увидел в мастерской Мурано и которую держал в своих объятиях лунной ночью.
Смущенный такой сдержанностью, он, в свою очередь, замкнулся в себе. По всей видимости, ей все же нравились прогулки в окрестностях города и воскресные пикники в лесу на холме Сен-Кантен. Ему так хотелось видеть ее счастливой, что порой он чувствовал себя нелепым. Он не мог ее ни в чем упрекнуть. Она была всегда любезна, чрезвычайно вежлива, старалась оправдывать ожидания других. Но эта покорность отдавала самоотречением, что вызывало в нем раздражение. Ее улыбки казались ему мимолетными, слишком сдержанными, а ее взгляд скользил по нему, она его словно не видела. Ночью, желая обнять свою жену, он чувствовал ее молчаливое сопротивление и не решался идти дальше нескольких ласк. Ему казалось, что он карабкается по каменистому склону, на котором абсолютно не за что зацепиться. Доброжелательность Ливии превратилась в почти оскорбительное равнодушие.
– Я молюсь за нее Святой Деве, – заявила Элиза.
Франсуа отвернулся, чтобы скрыть свое раздражение. Он ничего не имел против Святой Девы, но хороший доктор казался ему более необходимым в данном случае. Тем не менее спокойствие Элизы распространялось и на него. Он доверял ей. Если сестра уверяет, что все идет хорошо, значит, у нее есть на то основания.
Покорно вздохнув, он ослабил галстук.
– Как ты думаешь, еще долго?
– Нет. Думаю, совсем скоро ты станешь отцом семейства.
– Не могу в это поверить, – прошептал он, опускаясь в кресло.
– Я тоже, – сухо произнесла Элиза.
Он бросил на нее подозрительный взгляд.
– Мне казалось, что ты ладишь с Ливией. Ты взяла ее под свое крыло с момента ее приезда, за что я тебе очень благодарен. Мне кажется, я еще не выражал тебе свою признательность.
– Это так, но разве я могла поступить иначе, если ты просто поставил меня перед фактом? По крайней мере, твоя супруга умная женщина, которая никогда не пыталась выдавать черное за белое. Что сделано, то сделано, Франсуа. Ливия Гранди стала твоей женой. Отныне она одна из нас. И совсем скоро станет матерью твоего ребенка.
Стоя прямо, сцепив пальцы, Элиза была, как всегда, невозмутима. О чем она думала? Франсуа никогда не видел, чтобы она выказывала недовольство Ливией, но он умел распознавать настроение своей сестры и знал, что сейчас она сдерживала себя. Он почувствовал, как в голове возникает легкая боль, и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Ему не хотелось об этом думать. Тайны Элизы подождут, пока у него появятся силы на их разгадку. Сейчас его тревожило лишь здоровье Ливии.
Опустились сумерки, и дневной шум начал утихать, вызывая томление, которое часто переходило в тревогу. Он снова вспомнил тот день, когда Ливия появилась у него дома, дрожащая и взволнованная, чтобы сообщить о своей беременности. Она сжимала руки, ее подбородок дрожал, но она не опускала взгляда. Он был тронут этой храбростью, но мысль о том, что он станет отцом, приводила его в замешательство. Потом он понял, что провидение улыбнулось ему. Едва появившись, она уже сожалела о своей минутной слабости и попыталась ускользнуть. Возможно, лишь связывавшая их плоть и кровь могла удержать ее возле него. Этот не рожденный еще ребенок показался ему непредвиденной удачей. Он с радостью взял ее в жены, но сегодня предпочел бы отказаться от счастья жить с ней, чем сознавать, что ей угрожает опасность. У него возникла мысль, что все это послано ему в наказание за то, что он хотел использовать невинного ребенка в качестве магнита.
В дверь постучали. Он вскочил с кресла.
– Войдите, – сказала Элиза.
– Мадемуазель, месье Франсуа, – пробормотала Колетта с пунцовыми от возбуждения щеками. – Это мальчик. Месье доктор сказал, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Франсуа повернулся к сестре. Его лицо расплылось в счастливой улыбке. С самого раннего возраста она завидовала его умению полностью отдаваться ощущению счастья, его обезоруживающей манере радоваться безо всякого стеснения, тогда как у многих счастье вызывало нечто вроде стыда, словно демонстрировать избыток чувств было чем-то бестактным. В отличие от сестры и старшего брата, Франсуа принимал счастье, не опасаясь последствий, не боясь его потерять.
– Я иду туда! – воскликнул он, устремляясь из комнаты.
Элиза перекрестилась, ее жест тут же повторила Колетта.
– Я попросила мадам Беттинг посидеть с ней, пока вы не придете, – прошептала девушка. – Нельзя, чтобы мадам заснула одна с малышом. Может прийти нечистая сила и навредить им.
– Ты правильно, сделала, Колетта. Всегда следует опасаться духов, как плохих, так и хороших.
Несколько недель спустя, сидя с сыном на руках, Ливия слегка покачивалась в кресле-качалке и смотрела, как за окном падает снег. Он уже укрыл тонким слоем лужайку, ограду и ветви деревьев. Птичьи лапки нарисовали эфемерные звездочки на сиденье качелей. Начиная со вчерашнего дня хлопья безостановочно падали из плотных облаков, которые нависли над городом ватным покрывалом. Свет был холодным и белым.
Ливия слышала, как потрескивают дрова в печке в углу комнаты. Она чувствовала себя пленницей и понимала, что не права. Легкий, как перышко, Карло тем не менее ощутимо надавливал на ее плечо. С момента его рождения на нее время от времени наваливалась безумная усталость, так что перехватывало дыхание. Иногда она ложилась на кровать, расстегивала блузку и сажала сына к себе на живот, плоть к плоти, чтобы почувствовать тепло его тела, ощутить его вес и забыть о тех воображаемых оковах, которые ей было так тяжело носить.
У него был русый пушок вместо волос и светлые глаза отца, такие же как и у лотарингцев, которых она встречала на улице, когда гуляла с коляской по набережной Мозеля. Карло был спокойным ребенком. Правда, вначале он очень напугал ее, когда отказался брать грудь. После нескольких безуспешных попыток он отвернулся и завопил от злости. Она почувствовала себя отвергнутой, недостойной; показалась себе грязной.
Ливия поцеловала мягкие волосы сына, ощутив под губами еще нежный череп, и вдохнула детский аромат миндаля, молока и крепкого сна. Когда акушерка вложила в ее руки Карло, закутанного в белое одеяльце, она робко вгляделась в его лицо, пытаясь найти хоть что-то знакомое в крыльях носа, в рисунке губ или ушей. Ее ребенок показался ей совершенно чужим, и вместе с тем у нее возникло ощущение, что она знала его всю жизнь. В это мгновение тревога, мучившая ее с момента появления в этом чужом городе, улетучилась. Отныне ее поступок наконец приобрел смысл.