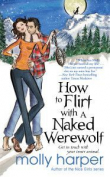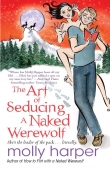Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Тереза Ревэй
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Однако в последние несколько дней она стала осознавать, что, подарив Карло отца, лишила себя саму чего-то очень важного, а чего, ей не удавалось понять, как и того, что будило ее среди ночи. Она открывала глаза в темноте и искала тень колыбели в углу комнаты. Ее жизнь сводилась к этим стенам, к дыханию Франсуа и Карло, к почти ощутимому биению их сердец, которое напоминало ей безжалостную дробь барабана.
Охваченная внезапной тревогой, она еле сдерживала себя, так ей хотелось встать, взобраться на стул, достать красную тетрадь Гранди из тайника над шкафом и убежать отсюда, но в то же время она испытывала почти физическую потребность насытиться безмятежностью этой комнаты, впитать ее всеми порами кожи и таким образом заполнить эту странную, мучившую ее пустоту любовью мужчины и еще невыраженными надеждами, которые несет в себе новорожденный.
Раздираемая противоречивыми чувствами, она поворачивалась спиной к мужу и сворачивалась калачиком, положив обе кисти под щеку. Ее сердце начинало учащенно биться. Она крепко сжимала веки и обращалась с мучительной молитвой к Святой Деве своего детства, изображение которой украшало апсиду [49]49
Полукруглая ниша с куполом или полусводом. В христианских храмах и базиликах прикрывает алтарный выступ, где находится престол.
[Закрыть]базилики деи-Санти-Мария-э-Донато, к этой матери с раскрытыми ладонями, сверкающей в обрамления золота и синевы, к которой она прибегала, когда ей требовалось увидеть волшебный блеск мозаики, чтобы успокоить слишком сильную печаль. Испуганно и стыдливо молодая женщина просила у нее прощения, потому что считала себя недостойной, смутно понимая, что никогда не полюбит своего мужа, и опасаясь, что того жизненного порыва, который внушал ей ее сын, будет недостаточно для выживания.
В дверь постучали. Она вздрогнула, и ее руки инстинктивно обвились вокруг ребенка, который тут же проснулся. Она почувствовала, как краска заливает ее лицо. Удастся ли ей скрыть преследующие ее предательские мысли?
– Ливия, пришла кормилица. Я думаю, малышу пора кушать.
Элиза вошла в комнату и наклонилась к ней с озабоченным видом.
– Вы не очень хорошо выглядите. Позвольте, я сама отнесу Карло. Вам не стоит переутомляться.
Когда золовка взяла ребенка на руки, Ливия не протестовала. Зато младенец открыл ротик и издал крик.
– Да, мой маленький, ты проголодался, – пропела Элиза. – Пора кушать…
Когда Элиза отвернулась, Ливия вдохнула знакомый запах мыла и фиалок. Золовка всегда была опрятной и свежей. Она вышла из комнаты, что-то нежно приговаривая, чтобы успокоить малыша.
Руки внезапно показались Ливии легкими, словно крылья. Грудь, напротив, распирало, вызывая неприятные ощущения. «Не расстраивайтесь, дорогая, – сказала ей Элиза. – Не все женщины могут кормить своим молоком». Но золовка не умела врать. Это было неестественно, когда мать не могла покормить собственного ребенка, потому что ее молоко его отравляло, и Ливия чувствовала себя униженной, когда вынуждена была освобождать грудь от бесполезной пищи.
У нее на глазах выступили слезы, и она резким движением поднялась с кресла, которое продолжило качаться, поскрипывая на паркете. Мир за окном был белым, гладким, каким-то приглушенным. Она прислонила горящие ладони к стеклу. Ей было трудно дышать. Она должна была покинуть этот дом без промедления.
Из шкафа она достала свое пальто и шарф, поискала перчатки. Куда они запропастились? Она перерыла все ящики, разбросав вещи.
Когда Ливия вышла в коридор, ее взгляд наткнулся на приоткрытую дверь, откуда струился теплый свет. Она услышала голоса Элизы и кормилицы. Эта молодая женщина с круглыми щеками и приветливой улыбкой выглядела привлекательно; она только что родила пятого ребенка. Ливия не хотела ее видеть, предпочитая думать, что ее не существует. Она узнала ее грудной смех, чувственный и безмятежный. Смех женщины, которая всегда сама кормила своих детей. Смех матери, достойной так называться.
Ливия сбежала вниз по лестнице. В коридоре она никак не могла открыть дверь, но в конце концов очутилась на свежем воздухе. Холод обжег ее лицо и руки. Она закрыла глаза и подняла лицо к небу. Хлопья снега нежно касались ее ресниц, щек, губ.
Она пошла наугад быстрым шагом, глядя прямо перед собой. В голове была пустота, сердцебиение отдавалось толчками во всем теле. Она бежала по улицам, иногда натыкалась на прохожих и не извинялась. На сгоревшей крыше бывшего гарнизонного протестантского храма снег уже укрыл остов и почерневшие балки нефа.
На повороте улицы она остановилась, наткнувшись на толпу детей, которые кричали и размахивали руками. На тележке, украшенной красными и золотыми гирляндами, силуэт с белой бородой, облаченный в длинное пальто, с треугольной митрой [50]50
Позолоченный головной убор, надеваемый высшим христианским духовенством во время богослужения.
[Закрыть]на голове и с жезлом в руке приветствовал толпу, собравшуюся на тротуаре. Улыбающиеся девушки раздавали сладости, орехи, чернослив. Незаметно для Ливии у нее оказалась целая горсть орехов.
Позади святого Николая, которого сопровождали двое молодых людей на лошадях, одетых, словно лакеи, в рубашки с жабо и вышитые сюртуки, возник персонаж в темной рясе и заостренной шляпе, нахлобученной на всклокоченные волосы. Он принялся корчить гримасы и вопить, размахивая хлыстом из веток, в шутку стегая им детей по ногам. Те с радостным визгом разбегались в разные стороны, не забывая подразнить его и дернуть за плащ.
Мужчина прошел мимо Ливии, и взгляд его черных глаз на секунду остановился на ней. Она различила в них веселый блеск, но отшатнулась, понимая, что это глупо, ведь она прекрасно знала, что такое карнавалы и переодевания. Сколько раз они с Мареллой бегали по улочкам Венеции, взявшись за руки, обе одетые в длинные платья из тафты и напудренные парики, смакуя свои новые ощущения!
Она нервно провела рукой по лицу, словно пыталась снять с себя невидимую маску, прилипшую к ее коже с тех пор, как она приехала в Лотарингию.
Внезапно кто-то схватил ее за плечо.
– Ливия, что ты здесь делаешь?
Она тут же высвободилась резким движением и обернулась с бьющимся сердцем. Ее муж удивленно смотрел на нее. На нем было зимнее пальто и мягкая шляпа, защищающая от снега. Он выглядел серьезным и солидным. Она заметила, что забыла переобуться, и теперь ее домашние туфли намокли.
– Я возвращался домой и увидел тебя в толпе. Что-то случилось? Ты такая бледная.
– Мне просто захотелось подышать свежим воздухом, вот и все. Я надеюсь, это не преступление?
Она дрожала от гнева, не только потому, что он застал ее врасплох и напугал, но и потому, что у нее возникло ощущение, будто он ее выслеживает.
– Вовсе нет. Нет ничего плохого в том, что ты захотела посмотреть на процессию святого Николая. У нас это традиция.
Ливия подняла руку, как бы умоляя его замолчать. Она догадалась, что сейчас он примется в очередной раз объяснять ей лотарингские обычаи, чтобы она лучше их поняла и быстрее адаптировалась к жизни в чужой стране, но ей не хотелось ничего знать. Она устала от него, от его семейства, от традиций его страны. Ей хотелось крикнуть: «А как же я?» У нее возникло ощущение, что, если бы ее сейчас спросили, кто она и откуда приехала, она не смогла бы ответить.
– Я должна немного побыть одна, понимаешь?
Ей вдруг стала неприятна забота, читавшаяся на его лице. Он наклонился к ней, словно хотел защитить, но она чувствовала лишь смутную угрозу.
– Ты не хочешь вернуться со мной?
– Нет, я ничего не хочу… Совсем ничего. Оставь меня в покое, это все, о чем я прошу.
Она шагнула назад, раскрыла ладони, и орехи рассыпались по земле. Затем она развернулась и продолжила свою отчаянную гонку по городу. «Только бы он не пошел за мной!» – подумала она. Впрочем, самым ужасным было то, что Франсуа и не нужно было это делать. Оба прекрасно понимали бессмысленность происходящего, потому что она была привязана к дому Нажелей невидимым, но мощным тросом.
Мец, апрель 1947 года
Прислонившись к стене какого-то здания, подняв воротник куртки, Андреас Вольф курил сигарету. Он стоял так уже полчаса. Жемчужно-серые облака, подгоняемые ветром, еще по-зимнему студеным, постепенно заволокли синее небо. Мелкий моросящий дождь, намочивший его шляпу, блестел на мостовой. Рабочие ремонтировали шоссе, и крепкий запах гудрона витал в воздухе.
Увидев двоих мужчин в военной форме, он инстинктивно отвернулся, словно был в чем-то виноват, и тут же на себя разозлился. У него возникла такая реакция на любую униформу, когда он встречал солдат оккупационных войск в Баварии.
Сойдя с поезда, Андреас сел за столик в кафе напротив вокзала. Он заказал пиво и узнал у хозяина дорогу, набросав план на бумаге. Затем он быстро встал и ушел, желая поскорее с этим покончить. У него не было намерения задерживаться в этом городе, где он бывал до войны, когда работал гравером на заводе по производству хрусталя неподалеку от Нанси. Он хорошо помнил эти форты, казармы и укрытия. Мец, знаменосец линии Мажино [51]51
Система французских укреплений на границе с Германией от Бель-фора до Лонгюйона. Была построена в 1929–1934 гг., затем совершенствовалась вплоть до 1940 г.
[Закрыть], призванной защитить Францию от немецкого нашествия. Цитадель торжественных построений и парадов, расцвеченная фуражками, вышитыми золотой нитью, и знаменами, хлопающими на ветру, со встречающимися на каждом шагу монашками в заостренных капорах. Город со своими строгими порядками, открытый и спокойный, с чистыми архитектурными линиями и военной суровостью, смягченной неожиданной плавностью вод Мозеля и светлых фасадов домов из жомонского камня, этого ракушечника, морозоустойчивого и придающего городу вид юной девушки.
Он вспомнил жаркие дискуссии со своими мозельскими друзьями той поры, между теми, кто опасался ожесточенных боев в регионе в случае конфликта, и теми, кто был уверен, что их страна останется нетронутой, поскольку Адольф никогда не осмелится на них напасть. В качестве ответа вермахт обогнул восточную часть Франции с неким презрением, а вот 3-я американская армия потерпела неудачу на подступах к укрепленному городу, два с половиной месяца барахтаясь в грязи.
Он шел по улице Серпенуаз, опустив глаза, сгорбившись, словно пытался стать ближе к земле, тяжелой, но размеренной походкой, которую он усовершенствовал с начала своего злоключения на русских равнинах.
Когда он наконец нашел в Баварии Ханну и Вилфред поведал историю их возвращения двум молодым женщинам, ошеломленным и жадно ловящим каждое слово, он даже почувствовал некую гордость. Но, увидев перед собой дверь дома Нажелей, которую, видимо, совсем недавно покрасили, с медальоном и ручками из сияющей меди, он поднял глаза к окну и внезапно ощутил замешательство.
Андреас сунул руку в карман, коснулся пальцами письма, с которым не расставался более трех лет, с того самого июньского вечера. Навсегда запечатленное в памяти, перед глазами снова возникло серьезное лицо Венсана Нажеля и его мрачный взгляд. У обоих были грязные волосы, черные ногти, в кожу въелась зернистая пыль, эта желтая пыль, которая прилипала к деснам и скрипела на зубах, оставляя вкус земли, пепла и гнева.
Во время их первой встречи в учебном лагере молодой молчаливый француз показался ему отстраненным, но Андреас и не ожидал большего от этих призывников из Эльзаса и Лотарингии, которыми штаб разбавлял подразделения вермахта, следя за тем, чтобы их количество не превышало пятнадцати процентов личного состава.
Их недолюбливали, этих «Halbsoldaten» [52]52
Halb – половинчатый (нем.).
[Закрыть], и не доверяли им. Над ними насмехались, их оскорбляли. Ведь сам гауляйтер [53]53
Должностное лицо в нацистской Германии, имевшее всю полноту власти на вверенной ему административно-территориальной единице – гау.
[Закрыть]Бюркель [54]54
Йозеф Бюркель – один из виднейших деятелей нацистского режима.
[Закрыть]в 1941 году бросил следующую фразу, говоря о мобилизации лотарингцев: «В тот день, когда вы нам понадобитесь, мы проиграем войну».
«Как в воду глядел, правда?» – Венсан усмехнулся, выплевывая косточки арбуза, который они нашли в огороде. «Напрасно они нас сюда загнали», – добавил он злорадно, вспомнив необдуманные слова марионетки Гитлера.
Перед лицом смерти даже самые закоренелые одиночки ищут сближения со своими товарищами по несчастью. Вот судет и лотарингец и потянулись друг к другу. Как только они узнали, что принадлежат к одной среде, сразу перешли на «ты», к большому удивлению других офицеров, и в те редкие минуты, когда оставались вдвоем, в нарушение устава обменивались фразами на французском, который Андреас изучал в школе, что было рискованно.
«Наш принцип – следовать архитектуре, – объяснял Венсан, рассказывая о мастерской, основанной в 1840 году его прадедом. – Ты можешь увидеть наши витражи во многих церквях от Нанси до Буржа, от Лилля до Перигё, а еще мы экспортируем их в Канаду и в Южную Америку. Ты знаешь, что во Франции самое большое количество витражей в мире?» В результате бесед Андреас понял, что Венсан искал у него поддержку, как у старшего товарища, уже повоевавшего на русском фронте. К тому же, благодаря своим воспоминаниям о поездках в Лотарингию и Париж, Андреас вызывал у него доверие. Со своей стороны, он был удивлен, обретя в общении с этим двадцатичетырехлетним парнем нечто вроде успокоения. Сдержанный, но стойкий Нажель имел острый ум, а его трезвый, лишенный иллюзий взгляд на жизнь напоминал Андреасу свой собственный.
«Ну вот, я на месте, дружище», – мысленно произнес он, сделав последнюю затяжку и раздавив сигарету каблуком.
Когда он сказал Ханне, что собирается отвезти письмо Венсана в Мозель, сестра воспротивилась, на время вынырнув из апатии, в которую погрузилась после смерти матери. Зачем так утруждаться, когда у них были дела намного важнее? «Что может быть важнее, чем сдержать обещание?» – усмехнулся он. Она всплеснула руками, что было признаком сильного раздражения, несвойственного ей раньше. «Мы боремся каждый день, пытаясь выжить, а ты отправляешься в путешествие! Ты выбрал не лучший момент, Андреас. Это абсолютно бессмысленно». Однако для него как раз эта «бессмыслица» стала жизненно необходимой.
С тех пор как он вернулся, его постоянно поражало непонимание, разделявшее мужчин, пришедших с войны, и женщин, которые перенесли лишения и бесчинства. Немцы пережили полный и окончательный разгром, так что впору было сойти с ума. Их страну делили на части, отдавали целые территории другим народам. Изгнанные из своих родных мест, пятнадцать миллионов из них остались ни с чем. Они были самыми побежденными из побежденных, поскольку разоблачение злодеяний, совершенных в лагерях смерти, напрочь лишало их человеческого достоинства. Трибуналу в Нюрнберге потребовалось десять лет для судебных разбирательств и вынесения приговоров. Задача почти невыполнимая, и виновные, на установление личности которых не было ни времени, ни средств, исчезали в результате коллективных приговоров, словно становясь зловещим эхом миллионов безымянных жертв.
Доставив письмо Венсана его семье, он, возможно, хотел отдать последнюю дань этой дружбе, зародившейся между двумя мужчинами в серо-зеленой униформе, один из которых никогда не расставался со своим французским паспортом, обрывком трехцветной ткани, лотарингским крестом и смятой купюрой банка Франции, а другой хранил в своем бумажнике измятое изображение императора Франца Иосифа, потому что предпочел бы быть немцем в эпоху правления Габсбургов, чем под сапогом австрийского капрала Адольфа Гитлера.
Порыв ветра ворвался на улицу, сметая мусор, валявшийся на шоссе. Разорванные облака бежали по небу, снова открывая кусочки синевы. Иногда проблескивали лучи солнца, отражаясь в стеклах домов и на кромках водостоков.
Андреаса охватило оцепенение, граничащее с глубокой усталостью. Машинальными движениями он сжимал и разжимал кулаки, чтобы разогнать кровь в руках. Ему не хотелось встречаться с этими чужими людьми, которые потребуют объяснений, с жадностью цепляясь за малейшую надежду. «В любом случае, тот, кто не побывал в этом аду, вряд ли сможет что-либо понять», – помрачнев, подумал он. Между страстным желанием семей узнать, что стало с их близкими, и невозможностью выживших подобрать нужные слова, пролегла глубокая пропасть.
Он решил бросить письмо Венсана в почтовый ящик. Его товарищ не обиделся бы на него за это. По крайней мере, он добрался сюда, хотя устроить эту поездку во Францию было очень сложно, ему пришлось собрать множество документов. Он даже написал на Монфоконский хрустальный завод, чтобы получить от директора письмо, в котором ему назначалась встреча. Его удивила быстрота ответа и тот энтузиазм, с каким Анри Симоне приглашал его к себе, хотя Симоне очень ценил талант Андреаса.
Перед войной, чтобы отметить полученную на международной выставке награду, мужчина с седеющими усами пригласил его вместе с другими мастерами-стеклоделами на ужин в один из лучших ресторанов столицы. Они выпили за успех выставки, целью которой было объединить Красоту и Практичность, добиться безупречности хрусталя, отраженной в простых формах. Эта тенденция стала заметна начиная с 1925 года. Сидя на бархатном диванчике под гранеными зеркалами и хрустальными люстрами, опьяненный молодым шабли [55]55
Название белого сухого вина, вырабатываемого в одноименном регионе.
[Закрыть], пощипывающим язык, Андреас ощутил теплую волну благодарности к своим новым друзьям и всему Парижу, который короновал его, невзирая на юность.
В тот вечер он не мог уснуть. У него было ощущение, что мир принадлежит ему, что его будущее зависит только от него, и будущее это блестяще. Его переполняли чувства, по силе сопоставимые лишь с тем, что он испытывал, занимаясь любовью, но не вначале, когда был еще подростком, охваченным лихорадочным возбуждением, а когда однажды познал в уютной комнате гостиницы Габлонца необыкновенное счастье дарить удовольствие любимой женщине.
Симоне радовался их встрече. Послевоенный период был непрост для предприятия, нуждающегося в рабочей силе и несущего убытки из-за замораживания цен. Необходимо было заново набрать команду, обновить рабочий инструмент, завоевать доверие покупателей. Директор предложил ему поработать у него несколько месяцев. «Мы до сих пор вспоминаем ваш приезд к нам, когда вы поразили всех необыкновенными творческими способностями. Мрачный и трагический период отделяет нас от того времени, что вы провели с нами. Теперь нужно просто перевернуть страницу».
Но Андреас не чувствовал себя так же спокойно. Директор был исключением. А как другие воспримут бывшего солдата опозоренной армии, которая оккупировала регион Нанси, да и остальную территорию Франции? Сколько рабочих, подмастерьев, учеников, резчиков, граверов стали жертвами военного конфликта? Ни одна семья не осталась нетронутой. Смогут ли они понять, что Андреас Вольф не похож на фанатичного немца в каске и сапогах, что он тоже пострадал от того, что не мог управлять своей судьбой в годы войны? Шрамы в душе были еще совсем свежими. Он опасался враждебности, непреходящей ненависти, которую ему придется молча переживать. Вместе с тем пребывание в Монфоконе могло бы оказаться для него полезным.
В Баварии он пока не смог открыть свою граверную мастерскую. Поскольку ему нужно было немного подождать, чтобы получить хрусталь хорошего качества, он работал с другими рабочими на производстве первых пуговиц для одежды. Теперь их, уроженцев Габлонца и его окрестностей, в регионе Аллгау собралось несколько тысяч. Многие добирались своим ходом, кто-то даже пришел пешком из лагерей для военнопленных, решив не упускать такую возможность.
У их надежды было имя – Эрих Хушка, инженер родом из Нойдорфа, что в Северной Богемии, который стал инициатором проекта возрождения Габлонца, получившего реальное воплощение на трехстах гектарах территории бывшей фабрики по производству пороха и взрывчатых веществ, расположенной посреди леса, в четырех километрах от Кауфбойрена.
В начале ноября 1945 года, выполняя решения Потсдамской конференции, требовавшие уничтожения военных заводов и демонтажа некоторых немецких промышленных предприятий и их транспортировки заграницу, американцы взорвали около восьмидесяти зданий. Пригодными остались только дороги и система трубопроводов. Амбициозной идеей Хушки было воскресить на этих руинах производство стекла и бижутерии Габлонца и восстановить его довоенную мировую известность.
Ни баварцы, ни американцы не приветствовали эту инициативу. Баварцы не доверяли чужакам, а союзники, обосновавшиеся в Берлине, старались избежать большого скопления беженцев в одном месте, опасаясь возникновения новых национальных меньшинств. Бавария даже начала отказывать беженцам во въезде, но Хушка и его соратники проявляли непоколебимое упорство, и наперекор запретам бывшие жители Габлонца продолжали прибывать в Кауфбойрен. Им в любом случае терять было нечего.
Однажды инженер повез Андреаса на своей машине с едким запахом плохого бензина, на которой он колесил по Баварии с осени 1945 года, на поиски стекольных мастерских, где можно было найти сырье, необходимое для их производства. Им нужны были так называемые стеклянные трубки – длинные тонкие цилиндры метр двадцать длиной и двадцать сантиметров в диаметре, которые не выдувались, а вытягивались двумя стеклоделами способом, известным только в Габлонце. Размягченные в печи, эти стеклянные трубки затем разрезались, после чего прессовались машинами, изобретенными в прошлом веке. Полученные кусочки стекла надрезались, полировались, раскрашивались, покрывались глазурью – в зависимости от заказа. Эта техника, хорошо освоенная в регионе Изерских гор, позволила тамошним стеклоделам преуспеть в производстве бижутерии и завоевать мировую известность.
Хушке сразу же пришлось признать очевидное: большинство баварских стекольных мастерских находилось в жалком состоянии, а их владельцы относились к беженцам с подозрением. Лишь фрау фон Штребер-Штайгервальд позволила им приспособить одну из двух своих разрушенных печей для такого необычного производства. Поскольку чехословацкие власти запретили беженцам вывозить планы фабрик, мужчины при их восстановлении могли полагаться лишь на свою память. Им потребовалось несколько месяцев прежде, чем они получили цилиндры нужного качества.
Андреас обладал упорством, прагматизмом и старанием, свойственными его соотечественникам, но его терзало смутное беспокойство. Симоне видел в нем талантливого мастера-стеклодела, с которым был знаком до войны, но Андреас сам не знал, сможет ли он теперь заниматься своим любимым делом. Обретут ли вновь его руки необходимую способность взаимодействовать с хрусталем, способны ли они на осторожные, но уверенные прикосновения, плавный изгиб кисти, точность движений при использовании инструментов?
Иногда он просыпался среди ночи от кошмара, в котором по оплошности разбивал стеклянное изделие, потому что больше не чувствовал его, перестал слышать музыку хрусталя. За одно мгновение, словно неумелый ученик, он превращал в ничто творение мастера, родившееся в печи мастерской, и в этом тревожном сне осколки стекла рассекали его пальцы до крови.
У него на лбу выступил пот, руки заныли. «Я здесь скоро корни пущу», – раздраженно подумал он и обернулся как раз в тот момент, когда дверь дома Нажелей открылась, и из нее выплыла коляска темно-синего цвета, за которой вышла молодая женщина и вопросительно посмотрела на небо. По-видимому, вид ясного неба ее успокоил, и, кое-как справившись с коляской, она закрыла дверь.
На ней была длинная зеленая куртка из вельвета с воротником из серого меха, узкая юбка, закрывавшая колени, и круглая шапочка в виде тюрбана, которая непонятным образом держалась на вьющихся волосах. Поправив перчатки, она пошла по дорожке, толкая перед собой коляску.
Не раздумывая, Андреас отправился за ней, тем более что она шла в нужном ему направлении. Он с удивлением поймал себя на мысли, что разглядывает ее фигуру, узкие плечи, плавные изгибы бедер. Ветер поднимал ее светлые кудри с рыжим отливом. Было что-то утонченное, почти воздушное в ее походке, что-то бесконечно милое в очертаниях ее ног. У него возникло странное ощущение, что город вокруг него растворился в белом свете. Он видел только этот женский силуэт, невероятно грациозный, и у него вдруг появилось безотчетное и сильное желание его нарисовать.
Нервным движением руки он принялся искать в кармане свой блокнот для набросков, но его пальцы наткнулись лишь на письмо Венсана в белом конверте. Он схватил его, отыскал карандаш и набросал несколько штрихов, чтобы сохранить в памяти этот образ. Однако он очень быстро осознал всю тщетность своих усилий. Невозможно было рисовать на ходу. Откуда это лихорадочное нетерпение? «Наверное, ты просто отвык смотреть на женщин», – усмехнулся он.
Она замешкалась перед тем, как перейти улицу, и он тоже остановился, инстинктивно отойдя к воротам, как частенько делал, когда был солдатом и передвигался по улицам городов, прижимаясь к домам.
Андреас заметил, что дошел за молодой женщиной до самой площади. Она вышла из тени платанов и остановилась возле небольшой эстрады. Он подумал, что она сядет на один из маленьких металлических стульев, но она осталась стоять.
Когда музыканты закончили играть, несколько женщин зааплодировали, и приглушенный звук хлопков руками в перчатках поплыл над бульваром с ухоженными цветочными клумбами, откуда открывался вид на реку Мозель и лесистые холмы.
Что же заставило его последовать за молодой незнакомкой? Это неожиданно возникшее влечение привело его в замешательство. Его могли принять за сумасшедшего, и даже хуже – за извращенца.
Сильный порыв ветра встряхнул ветви каштана, и деревья отозвались неистовым гулом. Она тотчас изящным движением подняла руку, чтобы удержать свою шапочку.
Партитуры взмыли в воздух, и дети с криками бросились за ними вдогонку. Молодая женщина вздрогнула и повернула назад, толкая перед собой коляску. Ее лицо отпечаталось у него в памяти: высокий лоб, выделяющиеся скулы и нос, четко очерченные губы. У нее была бледная, почти прозрачная кожа, но он не смог разглядеть цвета ее глаз и ощутил почему-то обиду, словно от него что-то утаили.
Позже он не раз спрашивал себя, как узнал ее. Откуда появляется эта уверенность, что судьба поместила на вашем пути человека, который, так или иначе, повлияет на вашу жизнь? Откуда возникает это внезапное обострение чувств? И тело реагирует с непосредственностью, неведомой мозгу, который сразу же стремится все анализировать, разбирать, раскладывать по полочкам? Тем, кто доверяет своим инстинктам, часто притупленным воспитанием и обычаями, многое кажется более понятным. А Андреас как раз привык прислушиваться к интуиции. Это она помогла ему вернуться живым из России, а также была одним из орудий в его профессии и ключом к успеху. Эта женщина очень красива. И он хотел быть с ней.
Андреас подождал, пока она пройдет мимо него, но все ее внимание было приковано к ребенку, лежащему в коляске, и она даже не взглянула на незнакомого мужчину. Она ушла вперед, и ее походка была такой же воздушной. Он проводил ее взглядом, затем развернулся и торопливо сбежал по ступенькам к Мозелю. Если он поторопится, то будет у дома Нажелей раньше ее.
Стоя в бельевой, где витал свежий запах накрахмаленного белья, Элиза повернулась к Колетте, нахмурив брови.
– Что ты сказала? – спросила она, выпуская из рук стопку белых полотенец, которые только что пересчитала.
Ей пришлось опереться ладонями о стол, чтобы девушка не увидела, как они дрожат.
– У дверей стоит мужчина с конвертом, который он хочет передать кому-нибудь из родных месье Венсана. Он спросил вас, мадемуазель, или месье Франсуа. Он что, вас знает?
– Боже мой… – прошептала Элиза.
Она закрыла глаза и постаралась взять себя в руки. Неужели ей это не снится? Наконец-то новости от Венсана… В первые недели после окончания войны она ежедневно отправлялась в коллеж Сен-Венсана, где занимались вопросами приема репатриантов, а теперь раз в месяц ездила на поезде в Шалон-сюр-Сон, в Национальный центр приема жителей Эльзаса и Лотарингии. И все было напрасно. Она знала только, что Венсан попал в плен к русским, был заключен в тамбовский лагерь № 188, расположенный в четырехстах восьмидесяти километрах на юго-восток от Москвы, и что с пленными там обращались хуже, чем со скотиной.
– Проводите его в гостиную, – произнесла она слабым голосом. – Я сейчас подойду.
– Да, мадемуазель, но…
– Что тебя так смущает, дорогуша? – бросила она раздраженно.
– Это фриц, мадемуазель, а вы сказали, что никто из них никогда не переступит порог вашего дома.
– Немец?
В тот же миг, словно от удара кнутом, ее тело напряглось. Она снова укрылась своим щитом недоверия и суровости, который защищал ее на протяжении нескольких лет, пока Лотарингия была аннексирована Германией. В некотором смысле так даже было лучше. Если бы речь шла о полковом товарище Венсана, молодом человеке, насильно вовлеченном в адскую машину, какой была эта беспощадная война, ей было бы сложно контролировать свои эмоции. Но фриц… Один из этих немцев, которые привели Гитлера к власти, по-хозяйски расхаживали по всем городам Франции с фотоаппаратами через плечо, важно восседали на террасах кафе под ярким весенним солнцем, гордясь своей принадлежностью к высшей и победоносной расе, и которые испытали искреннее недоумение при первых неудачах своих войск… Они внушали ей лишь ненависть и презрение. Перед тем, кто был одним из них, она сумеет быть твердой и непоколебимой.
В отличие от таких людей, как Роберт Шуман, который выступал за примирение, когда трупы еще не остыли в своих могилах и не были названы имена всех солдат, пропавших без вести, Элиза Нажель была против любого сближения с врагами. Она хотела видеть их на коленях, со склоненной головой. Она хотела, чтобы их приговорили к смерти и расстреляли.
Франсуа насмешливым тоном заметил, что жаждать мести – это не по-христиански. «Всем известно, что месье Шуман истинный католик, – ответила она. – Возможно, даже лучший, чем я, но не зря говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад».
– Пусть ждет в гостиной, – сказала она девушке, и Колетта убежала.
Элиза принялась пересчитывать полотенца, ошиблась и начала сначала. В висках стучала кровь, перед глазами вспыхивали искры. Пусть ждет! Она выйдет к нему, когда сочтет нужным.
Удовлетворенно вздохнув, она убрала стопку полотенец в шкаф. Затем коснулась рукой подарка своего руководителя подпольной организации движения Сопротивления – броши в форме лотарингского креста, которую носила на плече, и проверила, чтобы из пучка волос не выбивалась ни единая прядь. Когда она шла к двери, часы Венсана на запястье показались ей особенно тяжелыми.
Войдя в гостиную, Элиза увидела, что мужчина стоит у камина, разглядывая фотографию Венсана, которую держит в руке. Эти проклятые фрицы хоть и проиграли войну, но по-прежнему чувствовали себя везде как дома.
– Немедленно поставьте снимок на место, – приказала она. – Что вы себе позволяете?
Она подошла, вырвала фотографию из его рук, затем вытерла рамку рукавом, чтобы на ней не осталось следов его пальцев.