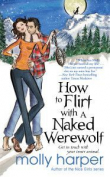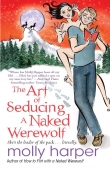Текст книги "Дыхание судьбы"
Автор книги: Тереза Ревэй
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Малышка пыталась это скрыть, но Тино хорошо видел, что она страдает. Он почувствовал, как в нем нарастает возмущение. Один Бог знал, что ей пришлось пережить в этой варварской стране, вдали от близких, где никто не мог ее защитить. Когда она внезапно исчезла, он был так удручен, что испытал одну из своих знаменитых вспышек гнева. Он рычал от страха за девушку, чувствуя себя униженным оттого, что у нее не хватило смелости объяснить ему причины этого дезертирства. Он испугался, что навсегда потерял ее, что она оторвалась от своих корней, от Мурано, видевшего ее рождение, текущего в ее венах.
Он вспомнил, что маленькая безмолвная девочка часто бывала в мастерской после смерти своих родителей, вспомнил о ее страдании, таком хрустально-прозрачном, что никто не осмеливался взять ее на руки, словно опасаясь разбить, о ее молчании, которое всех пугало и с которым смог справиться лишь ее дед Алвизе, потому что боль опасна так же, как заразная болезнь.
Теперь у нее был сын, которого ей пришлось оставить там, и это было нехорошо; он видел смятение в ее глазах, когда она, как неприкаянная, отправлялась побродить в конце дня, когда сумерки окрашивали остроконечные башенки в золотистый цвет, а старые камни отдавали свое тепло, вызывая желание пройтись по набережной. Но что тут поделаешь?
Некоторые компоненты оказалось очень трудно найти в это скудное послевоенное время. Они обзвонили различных поставщиков, наскребли немного денег, чтобы приобрести их. Теперь необходимо было повторить подвиг Гранди, совершенный в давние времена. Это был единственный шанс для Дома Феникса возродиться из пепла.
По его спине пробежала дрожь. Тяжелая ответственность легла на плечи Ливии Гранди, которая тщательно отмеривала стекольные осколки. Засученные рукава мужской рубашки открывали ее тонкие руки, холщовые брюки наползали на грубые ботинки. Если благодаря открытому лицу и неумело заплетенным косичкам она напоминала хрупкого подростка, решительный взгляд и внутренняя сила принадлежали уже сформировавшейся женщине.
Флавио оказался не на высоте. Ему не хватало опыта, знания ремесла, но больше всего ему не хватало огня. Их было всего двое, и они должны были сделать невозможное. Ливия – вдохновительница и прирожденный художник, талант в чистом виде, сокровище; она обязательно стала бы самым известным мастером своего времени, если бы родилась мужчиной и имела право на все действия со стеклом. Она, и только она одна могла придумать изделие, которое он, мастер Тино Волк Томазини, будет выдувать. Только она могла найти совершенное равновесие, благодаря которому сотворится чудо чиароскуро.Вдвоем они образовывали мифический союз фантазии и таланта, мастерства и техники, который делал людей, работающих с хрусталем, наследниками самого древнего и благородного искусства, независимо от того, были они из Мурано, Богемии, Лотарингии или откуда-либо еще.
Ливия повернулась к великану с крепкой сильной шеей, мощь которой подчеркивал щегольски повязанный красный платок. Из-под густых бровей на нее был устремлен взволнованный взгляд, заставший ее врасплох. Она никогда еще не видела Тино таким открытым.
Ливия смущенно коснулась рукой его плеча.
– У нас все получится, Волк.
Он кивнул, от волнения в горле стал ком, не давая дышать.
Молодая женщина вышла из комнаты и вернулась в мастерскую, где их ждали рабочие, молча выстроившиеся в ряд, словно по стойке «смирно». Им предстояло провести две плавки, затем перейти к отжигу, и лишь после этого Тино сможет начать ваять стекло.
Но Ливия не торопилась. Стеклодув не властен над временем. Слушая хрусталь, который потрескивает и свистит, рождаясь в течение нескольких часов в печах, он обязан быть терпеливым и решительным, а также смиренным, чтобы иметь право претендовать на величие.
Она вышла из мастерской, подставив лицо и обнаженные руки жаркому, беспощадному летнему солнцу. Насекомые гудели в траве, олеандр распространял вокруг себя благоухание. Для cristalloу нее был безграничный запас терпения, если бы только так же было с ее жизнью…
Его отсутствие было кровоточащей раной. Иногда она резко оборачивалась с его именем на губах, уверенная, что он стоит здесь, на пороге комнаты, что ей достаточно лишь открыть объятия, чтобы прижать маленькое тельце к своей груди, уткнуться лицом ему в шею и испытать восхитительное чувство покоя оттого, что они снова стали единым целым, как тогда, когда она носила его в своей утробе. Но, увидев пустой проем двери, частички пыли, танцующие на солнце, понимая, что все это было лишь наваждением, она испытывала такую сокрушительную тоску, что, задыхаясь, еле удерживала равновесие. Она ощущала себя отрезанной от своего ребенка.
Ливия вспоминала о каждом сантиметре его кожи, о родинке на спине, о прозрачных полумесяцах в основании ногтей, о шелковистых волосах, о родимом пятне в форме рога изобилия на верхней части бедра, увидев которое она, смеясь, сказала, что Карло рожден для счастья. Она помнила особый запах, принадлежавший только ему, эту лучезарную улыбку, которую он унаследовал от своего отца, его решительную походку, удивительную для такого маленького человечка.
Она просила небеса, чтобы он не переживал из-за ее отъезда. Даже будучи уверенной, что с Элизой и Франсуа он ни в чем не нуждается, она все равно испытывала тревогу. Иногда Ливия думала, что его не следовало оставлять во Франции, но она не предполагала, что задержится в Мурано так надолго. Поскольку Флавио принял решение не продавать мастерские, но оказался неспособным управлять предприятием, принимать верные решения, на ее плечи ложилась обязанность возобновить работу. Лишь после этого она сможет со спокойной душой вернуться к своему ребенку.
Франсуа звонил ей раз в неделю, каждую субботу в конце дня и передавал трубку Карло, с которым она худо-бедно поддерживала бессвязный разговор, то и дело путая слова. Маленькому мальчику было сложно общаться; ему не хватало запаса слов, чтобы рассказать, как он проводит свое время, и понять ее. С комом в горле она слушала, как он повторяет «алло, алло», подражая своему отцу, и представляла его сидящим на коленях Франсуа и держащим в своей маленькой ручке громоздкую телефонную трубку из черного бакелита, словно этот странный и зловредный предмет заменял присутствие матери.
Муж был недоволен, когда она сообщила, что ей придется задержаться. Он оставался учтивым и не стал осыпать ее упреками, но его молчание было красноречивым. Она рассердилась на себя, допустив в своем голосе жалобные нотки, когда объясняла, что они ждут поставки непрозрачного красителя, чудом обнаруженного в Алтаре. Нехотя он обещал привезти к ней Карло, как только у него будет возможность отлучиться на несколько дней, но Ливия поняла, что Франсуа нашел хитрый способ наказать ее, постоянно откладывая дату своего приезда.
Она также разговаривала с Элизой, которая сообщала новости о Карло холодно, почти как военные команды. Когда Ливия после этих разговоров в кабинете клала трубку, она вставала, открывала шкаф, доставала оттуда небольшую граненую рюмку и старую пыльную бутылку без этикетки и наливала немного граппы,чтобы согреть свое ледяное тело.
Она пыталась найти хоть немного успокоения в доверчивых взглядах Тино и рабочих, которые рассчитывали на нее. В этот сложный период мастерские острова не нанимали на работу новых людей. Как и во все века, объединение муранских стеклодувов помогало по мере сил своим безработным членам, однако ничто не могло заменить зарплату, какой бы скудной она ни была. Ливия знала, что эти люди зависят от нее, и не могла их подвести.
Порой Ливия злилась на Флавио, который вернулся к своим привычкам и пропадал целыми днями в лагуне, бесконечно скользя на своей лодке по лабиринту островков с пышной растительностью, которая благодаря астрам и морской лаванде окрашивалась в конце лета в розовый и темно-лиловый цвет. Он передал ей бразды правления, тогда как она хотела разделить с ним тяжесть забот. Несмотря на то что теперь они общались друг с другом безупречно вежливо, между ними оставалась некоторая напряженность из-за неспособности сблизиться по-настоящему. Сначала ей показалось, что он злится, но он, похоже, вздохнул с облегчением, получив возможность снова погрузиться в состояние апатии, причину которой она не могла понять. Раньше это выводило ее из себя, теперь же она просто огорчалась.
Ливия глубоко вздохнула. Под лопаткой все так же болело. Еще совсем немного… Ей нужно было совсем немного времени, чтобы поставить на ноги Дом Феникса. После этого она обещала себе снова стать матерью, достойной этого имени, и образцовой супругой, стараясь не слушать тихий коварный голос, который, зарождаясь в глубинах сознания, нашептывал ей, что, возможно, она просто не была на это способна.
Карло не был капризным и непослушным ребенком. В нем ощущалась некая серьезность, поразительная для мальчика его лет. Прядь светлых волос, старательно зачесанная набок, и пухлые щечки дополняли идеальный образ примерного ребенка, но во взгляде его светлых глаз, обрамленных длинными черными ресницами, таилось некое ожидание. Он мог оставаться спокойным в течение долгого времени, так что даже возникало сомнение, был ли он еще в комнате. Когда Элиза или Колетта оборачивались, чтобы убедиться в его присутствии, то видели его сидящим на том же месте и играющим со своим электропоездом или что-то малюющим карандашами на листках бумаги, которых он изводил слишком много, по мнению его тети.
Однажды Франсуа принес большую коробку водорастворимых красок. Элиза всплеснула руками. Малыш перепачкает все вокруг! Франсуа лишь рассмеялся. Он любил смотреть, как его сын рисует. Даже если в этих каракулях не было никакого смысла, нельзя было отрицать, что ребенок умел правильно сочетать цвета.
Ясным осенним утром Элиза сидела в саду за домом, вышивая крестиком наволочку на диванную подушку. Солнце еще грело, ей даже не понадобилось накидывать на плечи пальто. Она слышала смех Карло, который забросил куда-то свой мяч и собирал в кучи желтые и красные листья, устилавшие землю. Ему нравилось поддавать их ногой или хватать в охапку и подбрасывать, чтобы они кружились вокруг него.
Ливия уехала четыре месяца назад, и Элиза порой спрашивала себя, вспоминает ли малыш о своей матери. Поскольку Франсуа часто возвращался домой слишком поздно, чтобы молиться вместе с ним, он попросил Элизу не забывать упоминать Ливию при обращении к Святой Деве. Она приняла это за скрытый упрек и почувствовала себя немного задетой. К тому же Франсуа считал необходимым, чтобы ребенок раз в неделю слышал голос матери по телефону.
Элиза положила вышивку на колени и посмотрела в ту сторону, где играл малыш. Он скрылся за стволом дуба, и его присутствие выдавал лишь бешеный полет листьев. По ее лицу скользнула улыбка. Она не могла поверить, что Господь оказал ей такую милость, о которой она даже не осмеливалась его просить. Итальянка вернулась домой, и каждый день, проведенный ею вдали от Меца, делал ее возвращение все менее вероятным.
С тех пор как Элиза начала заниматься Карло, ей казалось, что она вновь переживает детство Венсана и Франсуа. Она совершала те же самые действия, и мирный ритм дней определялся потребностями ребенка. Когда она ложилась вечером спать, то испытывала чувство удовлетворения от того, что должным образом выполнила свои обязательства.
«Ты могла бы стать образцовой матерью», – сказал ей однажды Франсуа с удрученным видом человека, не понимающего, почему она так и не вышла замуж. «Я была образцовой матерью», – возразила она.
Элиза никогда не хотела иметь мужа. Если бы ее попросили дать определение любви, она ответила бы, что любят, прежде всего, из боязни ощутить пустоту. Она не настолько боялась смерти, чтобы испытывать потребность любить мужчину.
И потом, было что-то беспорядочное в смятении любовных чувств, и это не подходило ее строгому характеру. Полюбить мужчину означало согласиться на потерю контроля над своими эмоциями и телом, признать и понять существование радости, удовольствия, капризов, прихотей, тревог и сомнений кого-то, о ком, казалось, было известно все, но который, тем не менее, чаще всего оставался совершенно чужим человеком. Элиза не любила неожиданностей. Было кое-что, чего опасалась эта женщина, проявившая недюжинную смелость, борясь с нацистами.
Этот дом, окруженный большим садом, стал ее миром, ее вселенной. Ничего иного она не желала. Она установила здесь свои границы, и этого пространства ей вполне хватало для существования.
Когда у Франсуа было мрачное лицо, блуждающий взгляд и поджатые губы, Элиза понимала, что он думает о своей жене. Он страдал, но не знал, как разрешить сложившуюся ситуацию. Он не мог позволить себе оставить мастерскую. Вот уже несколько недель его рабочие трудились на новом объекте в Шартре, и ему часто приходилось выезжать на место. Элиза прекрасно понимала, что не может заменить ему супругу, но старалась все делать так, чтобы Франсуа не ощущал себя лишенным нежности и заботы. Он рассчитывал на нее, она содержала дом и присматривала за малышом, и они проводили вместе приятные и душевные вечера.
Она часто спрашивала себя, что будет, если Ливия решит не возвращаться. Она, конечно же, захочет забрать своего ребенка, что создаст массу проблем. Элиза понимала, что Франсуа не сможет разлучиться со своим сыном. Что касается развода, Элиза этот вариант даже не рассматривала. Тем не менее она не могла не испытывать скрытую радость при мысли о том, что для Ливии мастерские Гранди оказались важнее мужа и сына. Она не забывала намеками регулярно напоминать об этом брату. Она не ошиблась в своем мнении об этой женщине, считая ее недостойной Франсуа.
– Мадемуазель! – внезапно крикнула Колетта встревоженным голосом.
Элиза резко вскочила, вышивка выпала из ее рук на землю. Она поднесла руку к груди, сердце билось как бешеное.
– Маленькая дурочка, ты так меня напугала… Что случилось?
Юная прислуга ломала себе руки.
– Звонит какой-то месье. Говорит, что это касается месье Венсана. Похоже, он вернулся. Скорее, мадемуазель!
Впервые в жизни Элиза почувствовала, как из-под ее ног уходит земля. Перед глазами замелькали черные точки, и ей показалось, что она падает в пропасть. Испытывая тошноту, она ухватилась за спинку стула, пытаясь успокоиться, заклиная себя не упасть в обморок на глазах у Колетты.
Венсан… Почему никто не известил ее о его приезде? Большинство военнопленных и депортированных граждан, которых долго не выпускали из Германии, а также насильно мобилизованных в немецкую армию, а затем взятых в плен американскими и английскими войсками, вернулись домой еще три года назад.
Когда в феврале 1946 года ликвидировали Национальный центр приема в Шалоне-сюр-Сон, Элиза была одной из последних, кто приехал туда еще раз просмотреть списки фамилий и узнать новости. Она ожидала перед дверями кабинетов, застыв на стуле, а чиновники ходили мимо нее, укладывая папки в коробки и беседуя между собой, словно речь шла об обычном переезде. Судя по тому, как они отводили глаза, было видно, что их стесняли эти несколько человек, упорно сидевшие в коридоре, напоминая надоевших родственников, которых пока не решаются выставить за дверь, но уже не могут скрыть своего недовольства их присутствием.
Она жадно набрасывалась на любую газетную статью, в которой говорилось о судьбах военнопленных, и подписалась на различные специализированные бюллетени. Ее участие в движении Сопротивления иногда позволяло получать доступ к конфиденциальной информации. Она в ярости сжимала кулаки, слыша рьяное одобрение коммунистами позиции советских властей, которые нагло лгали и даже заявили генералу Келлеру через два месяца после окончания войны, что тамбовский лагерь давно распущен. Что касается Министерства по делам военнопленных, депортированных и беженцев, Элиза считала его деятельность неэффективной, и не она одна. Сталкиваясь с равнодушием чиновников, многие, подобно ей, испытывали чувства горечи и гнева.
«Жизнь продолжается, и нужно решать более важные вопросы», – читала она между строк. Однако она не была с этим согласна. У нее складывалось неприятное ощущение, что о тех, кто еще оставался в плену в Советском Союзе, предпочли забыть, и французское и русское правительство обходили эту проблему молчанием, потому что жизнь отдельного человека ничего не стоила в вихре политических страстей.
– Мадемуазель! – позвала ее Колетта.
Элиза заметила, что девушка трясет ее за руку, и вынырнула из своего оцепенения, как из плохого сна.
Кровь стучала у нее в висках. Она устремилась вглубь дома, туда, где находился телефон.
Карло решительным шагом подошел к дому, стоявшему в глубине сада. Ему надоело играть с сухими листьями, и он никак не мог отыскать свой мяч. Он не помнил, чтобы когда-либо заходил так далеко, но в этом доме было для него что-то невероятно притягательное. Солнце освещало каменные стены, листья раскрасили крышу в яркие цвета. Дом казался ему светлым и красивым, и ему захотелось разглядеть его получше.
Он ухватился за подоконник одного из окон и стал на цыпочки, но из-за маленького роста не увидел ничего интересного. Тогда он упрямо пошел вдоль стены, пока не обнаружил дверь. Ручка легко повернулась. Он сделал шаг вперед.
Как только он вошел в просторную комнату, ему сразу стало хорошо. В огромные окна, занимавшие всю стену, светило яркое солнце. Широкая улыбка озарила его лицо. Это было волшебное место, наполненное светящимися пятнами, танцующими на стенах: красными, фиолетовыми, темно-зелеными, желтыми, оранжевыми, голубыми. Они напоминали ему подарок мамы – цилиндр, который он подносил к одному глазу, медленно вращая, и в нем перемешивались бесконечные пестрые картинки.
Зачарованный, он пошел вперед, наткнувшись на табурет, опрокинул его, но даже не вздрогнул от шума. Он поднял одну руку, затем другую, пытаясь схватить дразнящие огоньки, которые проходили сквозь кусочки стекла, установленные на станке.
Он обошел комнату. Два белых халата висели возле двери. Он коснулся их рукой, но быстро потерял к ним интерес. Затем он увидел шкаф, стоявший в углу. Дверца несколько секунд не поддавалась, затем открылась с неприятным скрипом. Там висели пальто и длинный бежевый свитер. Он зарылся лицом в шерстяную ткань. Легкий аромат оживил его чувства и память, аромат, который он так хорошо знал, но который не вдыхал уже давно.
Он закрыл глаза. В его памяти не было четкого образа, черты расплывались, и это его раздражало, но он помнил силу ее рук, нежность щек, волос, щекотавших его, когда она наклонялась к нему, ее звучные поцелуи, которые так смешили его.
Он помнил ее певучий приглушенный голос, который рассказывал ему истории о далеком городе, где вместо улиц были каналы, наполненные водой, где люди передвигались не на машинах, а на лодках, об этом волшебном городе, где взрослые и дети гуляли в масках, раскрашенные, в сверкающей одежде, где праздник никогда не кончался.
Маленький мальчик резко дернул за шерстяной свитер, и он упал с вешалки. Почему-то он больше не чувствовал того счастья, какое испытал, войдя в этот дом. Теперь его мучило нетерпение, и ему хотелось плакать.
Сжимая свитер в одной руке, он продолжил свой обход, на этот раз его внимание привлек шкаф, в котором было множество ящиков. В них он обнаружил тряпки, гвозди и разнообразные ножницы. Он просунул пальцы в щель, но ему не удалось схватить твердые листы стекла, и это его разозлило.
Он придвинул табурет, взобрался на него и попытался снова дотянуться рукой до одного из ящиков.
– Карло! Где ты?
Голос был нетерпеливым, в нем слышалось явное раздражение.
Уверенный, что его будут ругать, маленький мальчик резко повернулся по направлению к двери и потерял равновесие. Падая навзничь, всем телом и головой он со всего размаха грохнулся на станок, где были собраны светящиеся рисунки, которые его так очаровали.
Когда стекло брызнуло во все стороны, он инстинктивно закрыл глаза и прикрыл руками лицо, в то время как осколки света осыпались вокруг него сверкающим дождем.
Поскольку плащ был слишком большим для нее, Ханна затянула пояс вокруг талии на два узла, затем подвернула рукава. Вот уже несколько недель небо было безнадежно серым, и сейчас, когда стали появляться разрывы в облаках, она решила воспользоваться этим, чтобы сходить за покупками. Она аккуратно положила в карман продуктовые купоны.
Когда Ханна похлопала по плечу дочь, игравшую на полу с тряпичной куклой, ребенок поднял к ней свое нежное личико с бледной кожей, обрамленное темными кудрями. Как бывало чаще всего, под пристальным взглядом этих темных блестящих глаз Ханне стало не по себе. Она знала, что ее дочери приходилось с особым вниманием прислушиваться к речи, потому что она плохо понимала слова, но этот молчаливый вопрос в глазах напоминал ей жадный взгляд незнакомцев на улице, которые ждут от вас того, что вы не хотите им давать.
– Собирайся, Инге, мы идем на улицу, – громко сказала она.
Ханна вынуждена была говорить громко, чтобы дочь различала все звуки, и порой ей казалось, что она разговаривает слишком резко. Это ее расстраивало, потому что она пыталась быть сильной, но не авторитарной.
Девочка послушно встала, и Ханна присела на корточки, чтобы помочь ей надеть пальто, затем повязала вокруг ее шеи красный шерстяной шкаф. Когда ребенок на мгновение коснулся нежной ручкой ее щеки, сердце у Ханны сжалось. Неожиданно на глаза навернулись слезы.
Чем старше становилась Инге, тем более растерянной чувствовала себя Ханна, общаясь с ней. Ей больше не удавалось абстрагироваться от ребенка, словно это был надоевший сверток, который она была обречена носить день за днем. Девочка становилась личностью со своим характером, со странными приступами радости, почти неистовыми, которые охватывали ее целиком, заставляли куда-то бежать, метаться. Чаще всего такие моменты возбуждения были связаны с Андреасом, который любил повозиться с племянницей. Но иногда ее охватывала безутешная тоска, и горе терзало ее так же сильно, как до этого переполняло счастье.
Ханна спрашивала себя, откуда у ее дочери эта жизненная сила, этот буйный темперамент, ведь сама она всегда была спокойным ребенком, послушным и молчаливым. И мысли ее неминуемо возвращались к мрачному образу неизвестного отца, воспоминание о котором вызывало головокружение, и отвращение снова охватывало ее, как в тот день, рот наполнялся горькой желчью, и она резко отшатывалась от Инге, разъяренная и униженная этим страхом, который ей никак не удавалось преодолеть.
– Поторопись, Инге, – сказала она, поднявшись так резко, что перед глазами запрыгали черные точки. – Там наверняка будет очередь, а у меня не так много времени.
На улице они пошли быстрым шагом. Инге семенила рядом с матерью, иногда прыгая козленком и дергая ее за руку, чтобы обойти лужу. В свежем прозрачном воздухе повсюду сверкали капли: на желтых и красных листьях, на подоконниках, на изгороди, за которой виднелись огороды.
Возле маленького деревянного барака на Судетенштрассе действительно толпились люди. Здесь не так давно обосновалась одна из легендарных личностей Габлонца. Возвращение Анны Хоффман, этой приземистой женщины с хитрыми глазками и хорошо подвешенным языком, стало для изгнанников как бальзам на душу. Невзгоды, перенесенные торговкой, никак не повлияли на ее характер. Рассказывали, что в лагере, где ее содержали, она разговаривала с охранниками с апломбом, от чего все приходили в изумление. Уперев руки в бока, она перешучивалась с покупательницей. Ее редкие седые волосы топорщились на голове. Заметив Инге, вцепившуюся в руку матери, она наклонилась к ней.
– Привет, малышка! Ты еще больше подросла. Скоро станешь такой же большой, как я!
Она говорила на наречии Габлонца, и девочка смотрела на нее круглыми глазами, как будто это дама с широким плоским лицом прилетела с другой планеты.
– Ну-ка, а что у меня для тебя есть? – продолжила она, роясь в кармане своего фартука, из которого триумфальным жестом вытащила конфету.
– Что нужно сказать? – произнесла Ханна, слегка дернув руку девочки, чтобы привлечь ее внимание.
– Спасибо, мадам, – тихо проговорила Инге и быстро сунула конфету в рот.
– Ну а ты, красавица, что сегодня будешь брать? – спросила торговка, возвращаясь за деревянную доску, служившую ей прилавком.
Ханна без особого энтузиазма оглядела консервные банки, выстроившиеся на полках, и несколько батонов колбасы, подвешенных на крюках. Она вспомнила, как покупала с мамой свежую рыбу на рынке Габлонца, в основном у «Фишл-Анны», которая славилась своим свежим товаром и острым язычком.
– Дайте, пожалуйста, маринованные корнишоны и батон колбасы, – сказала она, отпустив руку Инге, чтобы посчитать деньги.
Вокруг нее толпились люди, обсуждая последние новости. Пока хозяйка отсчитывала ей сдачу, она уже была в курсе всех пикантных подробностей из жизни семьи, о которой раньше никогда не слышала. Собираясь уходить, она повернулась и увидела, что Инге нигде нет.
Ханна обошла покупательниц, заглядывая им за спину. «Нашла время играть в прятки», – раздраженно подумала она. Помещение было небольшим, Инге не могла уйти далеко.
– Простите, вы не видели мою дочь? Она только что была здесь.
Женщины разводили руками, толкали друг друга, выражали готовность помочь.
– Она должна быть неподалеку, – сказала хозяйка с озабоченным видом. – Иди скорее на улицу. В этом возрасте за ними нужен глаз да глаз. И зайди ко мне, когда ее найдешь, – крикнула она вдогонку, когда Ханна уже выходила за дверь.
Она посмотрела направо, затем налево, но малышки нигде не было видно. Мимо проехал пыхтящий автобус.
– Инге! – позвала она, зная, что это бесполезно: дочь вряд ли могла ее услышать. – Простите, месье, – обратилась она к мужчине, который вез тележку, полную дров. – Вы не видели здесь маленькую девочку с темными волосами, в красном шарфе?
– К сожалению, нет, – ответил он, пожав плечами. – Может, она пошла поиграть с той стороны трактира?
Недалеко отсюда трактирщики расчистили площадку, где дети любили играть летом, но из-за проливных дождей, частых в последние недели, земля там превратилась в грязь. С бьющимся сердцем Ханна кинулась к деревьям, за которыми начинался лес. Обочина дороги была в плохом состоянии. Там было много опасных ловушек для детей: груды кирпичей и шатких штабелей досок, предназначенных для строительства домов, зияющие ямы, разнообразный мусор, проволока, столбы, из которых торчали ржавые гвозди.
Просветление на небе исчезло так же быстро, как и появилось. Принялся моросить мелкий дождик. Ханна бросилась бежать, заглядывая во все закоулки, громко выкрикивая имя дочери. Она наклонилась, чтобы заглянуть под тележку. Куда мог ребенок исчезнуть так быстро? Девочка словно растворилась в воздухе.
Холодный пот покрыл ее спину. Господи, только бы с ней ничего не случилось! Она представила, что ее дочь не может откуда-то выбраться, плачет, зовет на помощь, быть может, она даже поранилась. Корзина билась о бедро Ханны. В боку сильно закололо, и она слегка замедлила ход, постояла, затем, прихрамывая, пошла дальше. «Лучше развернуться и пойти домой, – шептала она с пересохшим горлом. – Возможно, малышка сама нашла дорогу. Кто-нибудь мог ее узнать и проводить до дома».
Несколько минут спустя, задыхаясь, она повернула на дорогу, ведущую к их бараку. Красный шарф Инге лежал на земле в луже. Она нагнулась, чтобы поднять его. Ей показалось, что какой-то дикий зверь раздирает ей сердце и живот.
– Инге! – изо всех сил закричала она.
Вокруг не было ни души. Она быстрым шагом шла мимо бараков с зашторенными окнами. С одиноко стоящего дерева упало несколько листьев. На одном из окон от ветра хлопали ставни. Куда все подевались? Обычно лагерь всегда кишел людьми, сейчас же у нее было ощущение, что она одна в целом мире. Дождь намочил волосы, стекал по лицу, пробираясь за воротник. Она пробежала последние метры, отделявшие ее от дома, толкнула дверь.
Когда Ханна увидела голову Инге, прислоненную к плечу мужчины в военной форме, который стоял к ней спиной, она почувствовала огромное облегчение.
– Отпустите мою дочь немедленно! – воскликнула она.
Какое он имел право брать ее на руки? Как он вообще посмел до нее дотронуться? Вне себя от гнева, она готова была выцарапать ему глаза, драться с ним насмерть, чтобы отобрать у него Инге. Пусть только это чудовище попробует причинить ей боль!
Когда военный обернулся, ей показалось, что она стоит перед великаном. Широкие плечи, светлые волосы, подстриженные бобриком, волевой подбородок.
– Дайте ее сюда! – потребовала она, протягивая руки.
Он тут же подчинился. Несколько слезинок высыхали на щеках Инге, которая потянулась к матери.
– She fell [78]78
Она упала ( англ.).
[Закрыть] , —объяснил он, показывая на ободранные коленки девочки.
Ханна шептала нежные слова, чтобы успокоить Инге. Убедившись, что с ней не случилось ничего страшного, она посадила ее на кровать и дала в руки куклу. Затем она перевела дух и повернулась к незнакомцу, который стоял, расправив плечи.
Он держал под мышкой свою фуражку с позолоченным гербом. Стрелка на его бежевых брюках была острой, словно лезвие. Инге оставила на его безукоризненном кителе на уровне плеча мокрый след от слез, но это, казалось, его не заботило. В спокойном взгляде голубых глаз сквозило любопытство. Ханна была поражена сверкающей чистотой этого американского военного.
– Джим Хаммерштейн, – представился он. – Do you speak English? [79]79
Вы говорите по-английски? (англ.).
[Закрыть]
Ханна плохо говорила по-английски. Она знала несколько слов, но была неспособна поддержать разговор. По разноцветным орденским планкам, украшавшим его грудь, она догадалась, что у мужчины высокое звание. Занервничав, она жестом попросила его подождать и подошла к двери, чтобы позвать Герта Хандлера, который работал в соседней комнате, заклиная небеса, чтобы он куда-нибудь не испарился.
Герт быстро прибежал на зов и, запинаясь, представился американскому офицеру, вытянувшись по стойке «смирно». Пока Ханна снимала плащ и пыталась привести в порядок намокшие волосы, мужчина объяснил, что один из его унтер-офицеров показал ему брошь в форме стрекозы, которую он купил здесь несколько недель назад. Она его поразила.
– I want them. I want them all! [80]80
Я хочу купить их. Я хочу купить их все! (англ.).
[Закрыть]– воскликнул он, раскинув руки, словно хотел охватить весь мир.
Ханна смотрела по очереди то на Герта, то на офицера, понимая их с полуслова, но прислушиваясь к переводу своего друга, удивляясь тому, что он покачивается с пятки на носок, словно ребенок, который не может устоять на месте. Она несколько секунд колебалась, но, понукаемая настойчивыми гримасами Герта, достала десять брошей, уложенных в жестяную банку. Офицер внимательно осмотрел каждое изделие, затем удовлетворенно кивнул и улыбнулся, обнажив ровные зубы. Она согласилась продать ему все, что у нее оставалось, по той простой причине, что ей нужны были его доллары, чтобы накормить дочь.