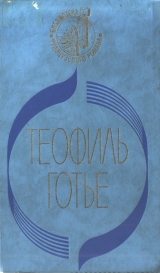
Текст книги "Мадемуазель де Мопен"
Автор книги: Теофиль Готье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Ее нежное тельце было настоящим чудом. Руки, немножко чересчур худые, как у всех девочек, были восхитительно изящны, а едва обозначившаяся грудь была так хороша и сулила так много в будущем, что сравнения с ней не выдержали бы и куда более пышные формы. Детская прелесть уживалась в Нинон с женским очарованием; в ней совершался пленительный переход от девочки к девушке – быстрый, неуловимый переход, прелестная пора, когда красота исполнена надежды и всякий день не только ничего не отнимает у вашей возлюбленной, но приносит ей все новые совершенства.
Костюм пажа оказался ей необыкновенно к лицу. Он придавал ей этакий задорный вид, очень забавный и уморительный: она сама прыснула со смеху, когда я поднесла ей зеркало, чтобы она оценила результаты переодевания. Затем я велела ей поесть бисквитов, макая их в испанское вино: ей надо было набраться мужества и сил, чтобы лучше перенести тяготы путешествия.
Лошади, уже оседланные, ждали нас во дворе; она весьма непринужденно вскочила на своего скакуна, а я – на своего, и мы пустились в путь. Уже совершенно стемнело, и по редким огням, которые гасли один за другим, можно было понять, что город С*** предается мирным вечерним занятиям, каковые и положены провинциальному городку на исходе девятого часа.
Мы не могли ехать очень быстро, ибо Нинон была не бог весть какой наездницей, и когда ее конек переходил на рысь, со всех сил вцеплялась ему в гриву. Однако же к утру мы отъехали достаточно далеко, чтобы не опасаться погони, разве что преследователи очень уж поспешат, но за нами никто не гнался, а может быть, погоня пустилась в другую сторону.
Я на удивление привязалась к маленькой красотке. Ты была далеко, милая Грациоза, а я испытывала неодолимую потребность любить кого-нибудь или что-нибудь; мне нужен был хоть пес, хоть ребенок, которого я могла бы приласкать запросто. Таким существом стала для меня Нинон; она спала в моей постели и, засыпая, обнимала меня своими ручонками; девочка всерьез воображала, будто она – моя любовница, и не подозревала, что я не мужчина; крайняя ее молодость и величайшая неискушенность укрепляли малышку в этом заблуждении, которое я и не думала рассеять. Иллюзию довершали поцелуи, на которые я для нее не скупилась, а дальше этого ее представления не простирались; чувства в ней еще дремали, так что о большем она и не догадывалась. В сущности, не так уж она и заблуждалась.
И в самом деле, разница между нею и мною была не меньше, чем между мною и мужчинами. Она была такая прозрачная, тоненькая, легкая, такого хрупкого, изящного телосложения, что поражала своей женственностью даже в сравнении со мной, хотя я и сама женщина: рядом с ней я казалась Геркулесом. Я высокая, черноволосая, а она маленькая и белокурая; черты лица у нее такие нежные, что мои рядом с ними выглядят почти резкими и суровыми, а голос ее звучит столь мелодичным щебетом, что мой по сравнению с ним кажется грубым. Если бы ею овладел мужчина, она бы разбилась вдребезги, и мне все боязно, как бы ее не унес утренний ветерок. Мне хотелось бы упрятать ее в ладанку, выстланную ватой, и носить на шее. Ты себе не представляешь, милая подруга, какая она обаятельная, остроумная, восхитительно ласковая, сколько у ней в запасе ребяческого кокетства, ужимок и дружелюбия. Это и впрямь самое прелестное существо на свете, и, право, было бы жаль, если бы она осталась при своей недостойной матери. Я испытывала насмешливую радость при мысли о том, что похитила эту жемчужину у людской алчности. Я чувствовала себя драконом, никого не подпускающим к своему сокровищу, и пускай я не наслаждалась им сама, зато и никто другой к нему не прикасался: мысль бесконечно утешительная, что бы там ни говорили глупые хулители эгоизма.
Я намеревалась как можно дольше щадить ее неведение и держать ее при себе, пока она не захочет со мной расстаться или пока не найду способ ее пристроить.
Одетую мальчиком, я брала ее с собой во все путешествия, то туда, то сюда; такой образ жизни необыкновенно ей нравился, и удовольствие, которое она получала, помогало ей сносить все тяготы. Везде я слышала похвалы необычайной красоте моего пажа и не сомневаюсь, что у многих зародились явно превратные представления о нас с ним. Некоторые даже попытались добиться ясности, но я не разрешала малышке ни с кем разговаривать, и любопытных постигло разочарование.
Что ни день я открывала в милой девочке все новые достоинства, заставляющие меня еще больше дорожить ею и радоваться своему решению. Мужчины, бесспорно, не заслуживали, чтобы она им досталась, и обидно было бы, если бы такие душевные и телесные совершенства оказались во власти их скотской алчности и циничного распутства.
Только женщина могла любить ее так нежно и бережно. В моем характере есть черта, которой до сих пор не удавалось развиться, а теперь она получила полную волю: это потребность и желание покровительствовать; обычно такое свойство встречается у мужчин. Если бы у меня был любовник, меня бы крайне покоробило, приди ему в голову подчеркнуто меня оберегать: дело в том, что я сама люблю заботиться о людях, которые мне приятны, и в гордыне своей куда больше наслаждаюсь ролью защитницы, чем подопечной, хотя вторая роль на поверхностный взгляд приятней. И мне было радостно оказывать моей дорогой малышке все те заботы, которые мне полагалось бы охотнее принимать самой: помогать ей на крутой дороге, держать повод и стремя, прислуживать за столом, раздевать ее и укладывать в постель, заступаться, если кто-нибудь ее обижал, делать для нее все, что самый страстный и внимательный любовник делает для обожаемой возлюбленной.
Незаметно у меня исчезает представление о том, какого я пола; я насилу вспоминаю время от времени о том, что я женщина; поначалу у меня еще частенько срывались с языка необдуманные речи, мало подходившие к платью, которое я ношу. Теперь такого со мной не бывает, и даже когда я пишу тебе, поверенной моих тайн, у меня в окончаниях слов подчас проскальзывает ненужная мужественность. Если когда-нибудь мне и взбредет в голову прихоть вернуться и достать мои юбки из шкафа, в который я их упрятала – в чем я весьма сомневаюсь, разве что влюблюсь в какого-нибудь юного красавца, – мне нелегко будет отделаться от этой привычки, и я из женщины, переодетой мужчиной, превращусь в мужчину, переодетого женщиной. На самом деле я не принадлежу ни к тому, ни к этому полу; нет во мне ни дурацкой покорности, ни боязливости, ни мелочности, свойственной женщине, как нет и мужских пороков, омерзительного мужского распутства и скотских наклонностей; я отношу себя к иному, третьему полу, у которого пока нет названия, высшему или низшему, более ущербному или более совершенному: телом и душой я женщина, умом и силой – мужчина, и во мне слишком много и от того, и от другого, чтобы с кем-то из них соединиться.
Грациоза моя! Никогда я не смогу никого полюбить безраздельно, ни мужчину, ни женщину; во мне вечно рокочет некая ненасытная стихия, и любовник или подруга могут удовлетворить лишь одну грань моей натуры. Появись у меня возлюбленный, женское начало, быть может, на какое-то время возобладало бы во мне над мужским, но это продлилось бы недолго, и я чувствую, что удовольствовалась бы этим лишь наполовину; когда у меня заводится подруга, мысль о телесной неге мешает мне полностью насладиться чистыми негами души; и вот я не знаю, на чем остановиться, и беспрестанно мечусь туда и сюда.
Я питаю несбыточную мечту быть двуполой, чтобы насытить свою двойственную натуру: сегодня мужчина, завтра женщина, я бы приберегла для любовников томную нежность, знаки покорности и преданности, самые кроткие ласки, меланхолическую череду тихих вздохов, все то кошачье, женское, что присуще моему характеру; потом, с любовницами, я становилась бы дерзкой, предприимчивой, страстной, неотразимой – шляпа набекрень, повадки задиры и авантюриста. Тогда проявилась бы вся моя натура, и я стала бы совершенно счастлива, ибо полное счастье состоит в том, чтобы свободно развиваться во всех отношениях и быть всем, чем можешь быть.
Но это невозможно, об этом и мечтать нечего.
Я похитила малышку в надежде придать иное направление своим склонностям и излить на кого-нибудь тот поток нежности, что бушует у меня в душе и переполняет ее до краев; я хотела обрести в Нинон нечто вроде выхода для моей жажды любить; но несмотря на всю привязанность, которую я к ней питаю, вскоре я почувствовала, какая необъятная пустота, какая бездонная пропасть осталась у меня в сердце, как мало насыщают меня самые нежные ее ласки!.. Я решила попытать счастья с любовником, но прошло много времени, а я все не встречала никого, кто бы мне приглянулся. Забыла тебе сказать: Розетта разузнала, где я, и написала мне умоляющее письмо, прося, чтобы я ее навестила; не в силах ей отказать, я приехала к ней в деревенское уединение. С тех пор я много раз туда наведывалась, вот и теперь я там. В отчаянии от того, что я так и не стала ее любовником, Розетта ринулась в светский водоворот и в рассеянный образ жизни, как все нежные души, лишенные набожности и оскорбленные в своей первой любви; в недолгое время у ней было множество приключений, и список ее побед достиг изрядной длины, ибо ни у кого не было таких причин, как у меня, чтобы устоять перед ней.
При ней теперь очередной любовник, молодой человек по имени д’Альбер. Похоже, что я произвела на него поразительное впечатление, и он сразу воспылал ко мне горячей дружбой. С Розеттой он обходится весьма предупредительно и в обращении с нею отменно ласков, но в глубине души он ее не любит, – не от пресыщенности и не потому, что она ему противна; дело скорее в том, что она не соответствует неким ложным или истинным представлениям о любви и красоте, которые он себе усвоил. Между ним и Розеттой облаком стоит идеал, мешающий ему быть счастливым. Мечта его явно не сбылась, и он вздыхает по чему-то другому. Однако доныне он ничего другого не искал и оставался верен узам, которые были ему в тягость; ибо в душе у него несколько больше порядочности и чести, чем у большинства мужчин, и сердце его далеко не так сильно развращено, как ум. Не зная, что Розетта любила одну меня и среди всех своих романов и сумасбродств сберегла эту любовь, он боялся, что она огорчится, если поймет, что он ее не любит. Эта забота его удерживала, и он самым великодушным образом приносил себя в жертву.
Черты моего лица ему необыкновенно понравились, а он придает огромное значение внешней форме, вот он и влюбился в меня, несмотря на мой мужской наряд и на то, что на боку у меня болтается грозная шпага. Признаться, я была ему благодарна за тонкость интуиции и прониклась к нему известным уважением за то, что он сумел распознать меня вопреки обманчивой внешности. Поначалу он вообразил, что вкус у него куда более извращенный, чем то было на самом деле, и я посмеивалась про себя, глядя на его терзания. Подчас он взглядывал на меня с таким испуганным видом, что я веселилась от души, и вполне естественная склонность, которая влекла его ко мне, казалась ему дьявольским наваждением, коему он не очень-то мог противиться.
Тогда он яростно набрасывался на Розетту и пытался вернуться к более общепринятому любовному обиходу; затем возвращался ко мне, как и следовало ожидать, еще более распаленный. Наконец его осенила блистательная мысль, что я могу оказаться женщиной. Ища подтверждения, он пустился изучать и наблюдать меня с самым пристальным вниманием; должно быть, он знает по отдельности каждый мой волосок и помнит, сколько ресниц у меня на веках; мои ноги, руки, шею, щеки, пушок над уголками губ – все он осмотрел, все сравнил, все разобрал и после этого исследования, в котором художник помогал влюбленному, ему стало ясно как день (если день ясный), что я самая настоящая женщина, да к тому же еще его идеал, его тип красоты, его мечта наяву – изумительное открытие!
Оставалось смягчить меня и добиться, чтобы я пожаловала ему дар любовного милосердия, – тогда уж мой пол станет ему достоверно известен. Мы вместе играли в одной комедии, где я исполняла женскую роль, и это окончательно подвигло его на решение. Несколько раз я бросала ему двусмысленные взгляды и воспользовалась некоторыми местами в своей роли, напоминавшие наше с ним положение, чтобы поощрить его и подтолкнуть к объяснению. Потому что, хоть я и не питала к нему страстной любви, но все же он мне нравился настолько, что я не желала ему иссохнуть на корню от любви; и раз уж он первый с тех пор, как я преобразилась, заподозрил во мне женщину, справедливости ради мне следует просветить его в этом важном вопросе, и я решилась не оставить ему ни тени сомнения.
Много раз он приходил ко мне в комнату с признанием на устах, но не осмеливался начать – и впрямь, трудно толковать о любви особе, одетой в мужское платье и примеряющей сапоги для верховой езды. Наконец, так и не заговорив, он написал мне длинное письмо, совершенно в духе Пиндара, где весьма пространно объяснял мне то, что я знала лучше его.
Ума не приложу, как мне теперь быть. Принять его ходатайство или отвергнуть – но второе было бы непомерно добродетельно, и к тому же отказ чересчур его опечалит: если мы станем делать несчастными тех, кто нас любит, как прикажете поступать с теми, кто нас ненавидит? Быть может, немного благопристойнее было бы некоторое время оставаться жестокой и выждать хотя бы месяц, прежде чем расстегнуть шкуру тигрицы и сменить ее на обычную человеческую сорочку. Но раз уж я решила сдаться, то не все ли равно, теперь или позже: не вижу особого смысла в том математически рассчитанном сопротивлении, которое велит нынче уступить руку, завтра другую, потом ступню, потом ногу до колена, но не выше подвязки, и в той неприступной добродетели, что норовит ухватиться за колокольчик, едва будет пересечена граница территории, которую на сей раз она намеревалась отдать захватчику; мне смешно смотреть на медлительных Лукреций, которые пятятся, напуская на себя самый что ни на есть целомудренный испуг, и время от времени боязливо оглядываются через плечо, чтобы удостовериться, что кушетка, на которую они собираются упасть, находится как раз у них за спиной. Подобная предусмотрительность мне чужда.
Я не люблю д’Альбера, по крайней мере не люблю в том смысле, который вкладываю в это слово, но я, несомненно, неравнодушна к нему, он в моем вкусе; мне нравится его остроумие, и весь его облик мне не противен; не о многих людях могла бы я сказать то же самое. Кое-чего ему недостает, но что-то в нем есть; мне нравится, что он не стремится насытить свою алчность, как скот, подобно другим мужчинам; в нем есть неиссякаемая тяга и постоянный порыв к красоте – правда, лишь к телесной красоте, но все-таки это благородное влечение, оно позволяет ему сохранять неиспорченность. Поведение с Розеттой изобличает в нем душевную порядочность, еще более редкую, если это возможно, чем прочие виды порядочности.
И потом, если уж об этом зашел разговор, я обуреваема жесточайшим желанием; я томлюсь и умираю от сладострастия, потому что платье, в которое я одета, вовлекает меня во всевозможные приключения с женщинами, но слишком надежно оберегает от любых посягательств со стороны мужчин; в голове моей смутно витает, но никогда не воплощается мысль о наслаждении, и эта плоская, бесцветная мечта ввергает меня в тоску и уныние. Сколько женщин в самом благопристойном обществе ведут жизнь потаскушек! А я, являя им самую нелепую противоположность, остаюсь целомудренной и благопристойной, словно холодная Диана, в вихре самого безудержного разгула, в среде величайших вертопрахов столетия. Такая невинность тела, не сопровождаемая невинностью разума, – жалчайшая участь. Чтобы плоть моя не чванилась перед душой, я хочу осквернить и ее тоже, хотя сдается мне, что скверны тут не больше, чем в еде или питье. Короче говоря, я хочу узнать, что такое мужчина, и какие радости он дарит. Раз уж д’Альбер распознал меня, невзирая на мой маскарад, по справедливости следует вознаградить его за проницательность; он первый угадал во мне женщину, и я докажу ему, не щадя сил, что подозрения его справедливы. Немилосердно было бы оставить его в убеждении, что у него просто-напросто противоестественный вкус.
Итак, д’Альберу предстоит разрешить мои сомнения и преподать мне первый урок в любви: теперь остается только обставить затею как можно более поэтично. Мне хочется не отвечать на его письмо и несколько дней обходиться с ним попрохладнее. Когда увижу, что он вконец приуныл и отчаялся, клянет богов, грозит кулаком мирозданию и заглядывает в колодцы с мыслью, достаточно ли они мелки, чтобы в них утопиться, тогда я, подобно Ослиной шкуре, убегу в темный уголок и надену платье цвета времени, то есть костюм Розалинды, ибо мой женский гардероб весьма скуден. Потом я пойду к нему, сияя, как павлин, распустивший хвост, хвастливо выставляя напоказ, что обычно с превеликим тщанием прячу, и прикрываясь лишь узенькой полоской кружев, повязанной очень низко и очень свободно, и скажу ему самым патетическим тоном, какой только сумею изобразить:
«О романтичнейший и проницательнейший юноша! Я в самом деле целомудренная красавица, которая вдобавок ко всему вас обожает и мечтает лишь о том, как бы угодить вам, да и себе самой заодно. Подумайте, насколько это вас устраивает, и если вас все еще одолевают сомнения, потрогайте вот это, а затем ступайте с миром и грешите как можно больше».
Я произнесу эту прекрасную речь, а потом, наполовину изнемогающая, паду в его объятия и, испуская меланхолические вздохи, ловко расстегну пряжку на платье, чтобы оказаться в подобающем случаю одеянии, то есть полуголой. Остальное довершит д’Альбер, и надеюсь на другое утро иметь полное представление обо всех утехах, которые так давно смущают мой разум. Утолю свое любопытство, а заодно буду рада случаю осчастливить ближнего.
Кроме того, я намерена в том же платье нанести визит Розетте и убедить ее, что не холодность и не отвращение мешали мне ответить на ее любовь. Не хочу, чтобы она сохранила обо мне столь дурное мнение; и потом, она не меньше д’Альбера заслужила, чтобы я нарушила ради нее инкогнито. Как-то отзовется она на мою откровенность? Гордость ее будет утешена, но любовь возопит.
Прощай, прекрасная и добрая подруга; моли Бога, чтобы наслаждение не показалось мне столь же ничтожным, как те, кто им наделяет. Все мое письмо наполнено шуточками, а между тем опыт, который мне предстоит, весьма серьезен и может сказаться на всей оставшейся мне жизни.
Глава шестнадцатая
Прошло уже более двух недель с тех пор, как д’Альбер положил свое любовное послание на стол Теодору, – однако тот, казалось, ничуть не переменил своего поведения. Д’Альбер не знал, чему приписать его молчание; можно было подумать, что Теодор не заглянул в письмо; впавший в уныние д’Альбер думал, что оно было похищено или потерялось; но это было бы едва ли объяснимо, ибо Теодор сразу же вошел к себе в комнату, и чрезвычайно странно было, если бы он не заметил большого листа бумаги, одиноко лежащего на самой середине стола и бросавшегося в глаза даже самому рассеянному человеку.
Не то Теодор на самом деле мужчина, а вовсе не женщина, как вообразил д’Альбер, не то, если это все-таки женщина, она питает к нему такое явное отвращение, такое презрение, что не снисходит даже до того, чтобы взять на себя труд ему ответить? Бедный молодой человек, в отличие от нас лишенный привилегии рыться в бумагах Грациозы, наперсницы прекрасной де Мопен, не в состоянии был ответить положительно или отрицательно на какой бы то ни было из этих вопросов и безутешно утопал в самой плачевной нерешительности.
Однажды вечером он сидел у себя в комнате, уныло прижавшись лбом к оконному стеклу, и невидящим взором смотрел на каштаны в парке, листва которых уже окрасилась в красный цвет и почти облетела. Даль утопала в густом тумане, с небес спускалась темнота, скорее серая, чем черная, и своими бархатными ногами осторожно ступала по верхушкам деревьев; большой лебедь то и дело окунал шею и грудь в воду реки, от которой подымался пар, и белел в сумраке, похожий на огромную снежинку. Он был единственным живым существом, немного оживлявшим мрачный ландшафт.
Д’Альбер задумался, да так печально, как может задуматься туманным вечером, часов в пять, разочарованный человек, внимая такой музыке, как пронзительный свист ветра, и любуясь таким видом из окна, как остов лысеющего леса.
Он думал, не броситься ли в реку – но вода казалась ему очень уж черной и холодной, а пример лебедя вдохновлял его лишь отчасти; не пустить ли себе пулю в лоб – но у него не было под рукой ни пистолета, ни пороха, а если бы и были, он бы нисколько не обрадовался; не приискать ли новую любовницу или даже двух – убийственное решение! – но на примете у него не было никого подходящего. В отчаянии своем он дошел до того, что хотел возобновить отношения с женщинами, которых совершенно не выносил и сам в свое время приказал лакею выгнать их из дому ударами хлыста. В конце концов он остановился на куда более чудовищной мысли… написать второе письмо.
Беспредельная глупость.
Вот до чего он додумался, как вдруг почувствовал, что на плечо ему легла… ладонь… подобная голубке, опустившейся на пальму… Сравнение слегка хромает, ибо плечо д’Альбера весьма отдаленно напоминало пальму, но все равно сохраним его из чистой любви к восточному колориту.
Ладонь являла собой часть руки, соединенной с плечом, которое принадлежало телу, оказавшемуся не кем иным, как Теодором-Розалиндой, иначе говоря, то была маленькая мадмуазель д’Обиньи, или, если называть ее настоящим именем, Мадлена де Мопен.
Кого это удивило? Не вас и не меня, благо мы с вами уже давно были подготовлены к этому посещению; это удивило д’Альбера, который ожидал его меньше всего на свете. Он тихонько вскрикнул от изумления, издав нечто среднее между «О!» и «А!». Впрочем, у меня есть все основания предполагать, что то было ближе все-таки к «А!», чем к «О!».
Перед ним стояла Розалинда, такая ослепительно прекрасная, что вся комната озарилась; нити жемчуга в волосах, радужное платье, пышные кружевные воланы, туфельки с красными каблучками, прекрасный веер из павлиньих перьев – все точь-в-точь как в день представления. Правда, с одним существенным и решающим различием: на ней не было ни шейной косынки, ни шемизетки, ни брыжжей, словом, ничего, что скрывало бы от постороннего взгляда тех двух очаровательных сестер-соперниц, которые – увы! – слишком часто все-таки приходят к согласию.
Совершенно обнаженная грудь, белая, прозрачная, как античный мрамор, самой чистой, самой безупречной формы, отважно выбивающаяся из очень открытого корсажа и словно бросающая вызов поцелуям. Это было весьма обнадеживающее зрелище, и д’Альбер мгновенно проникся надеждой и, отринув сомнения, дал волю самым неистовым чувствам.
– Ну, Орландо, узнаете свою Розалинду? – с чарующей улыбкой произнесла красавица. – Или вы оставили вашу любовь висеть вместе с одним из сонетов на каком-нибудь кустике в Арденнском лесу? Уж не исцелились ли вы и впрямь от хвори, против которой так настойчиво просили у меня лекарства? Я очень этого боюсь.
– О нет, Розалинда! Я болен пуще прежнего. Я в агонии, я умер или стою на краю могилы!
– Для мертвеца вы совсем недурно выглядите, и многие живые могли бы вам позавидовать.
– Какую неделю я провел! Вы не можете себе представить, Розалинда. Надеюсь, что на том свете она зачтется мне за тысячу лет чистилища. Но смею ли спросить, почему вы не отозвались раньше?
– Почему? Сама не знаю, по-видимому, просто так. Но если эта причина не кажется вам достойной внимания, вот вам три другие, куда менее истинные; выберете сами: прежде всего потому, что в пылу страсти вы забывали писать разборчиво, и более недели ушло у меня на то, чтобы разгадать, о чем говорится в вашем письме; затем потому, что целомудрие мое не могло за меньший срок освоиться с несуразной идеей взять в любовники поэта, брызжущего дифирамбами; а еще потому, что я не прочь была посмотреть, не пустите ли вы себе пулю в лоб, не отравитесь ли опиумом и не повеситесь ли на собственной подвязке. Вот и все.
– Злая насмешница! Уверяю вас, хорошо, что вы пришли сегодня, завтра, может быть, вы бы меня уже не нашли.
– В самом деле? Бедный вы, бедный! Не напускайте на себя столь жалобный вид, а не то я тоже растрогаюсь до слез, и тогда не миновать великого потопа. Уж если я дам волю своей чувствительности, вы захлебнетесь в ее водовороте, уверяю вас. Только что я привела вам три ложные причины, а теперь предлагаю вам три искренних поцелуя. Вы согласны забыть о причинах ценой поцелуев? Я задолжала вам эти поцелуи и не только их.
С этими словами прекрасная инфанта приблизилась к печальному влюбленному и обвила его шею своими прекрасными руками. Д’Альбер порывисто поцеловал ее в обе щеки и в губы. Последний поцелуй длился дольше других, и его можно было зачесть за четыре. Розалинда поняла, что до сих пор все было сущим ребячеством. Расплатившись с долгом, она, еще во власти волнения, уселась на колени к д’Альберу и, запустив пальцы ему в волосы, сказала:
– Вся моя жестокость исчерпана, милый друг; я выжидала эти две недели, чтобы утолить свою врожденную свирепость; признаюсь вам, они показались мне долгими. Не давайте воли тщеславию, услыхав от меня столь откровенное признание, но я говорю правду. Отдаюсь вам в руки, можете мстить мне за мою былую суровость. Если бы вы были глупцом, я не сказала бы вам того, потому что не люблю глупцов. Мне было бы совсем не трудно уверить вас, что я была чрезвычайно потрясена вашей дерзостью и что всеми вашими платоническими вздохами, всею вашей утонченной галиматьей вам не удастся заслужить прощение за то, что было мне весьма приятно; я могла бы не хуже других женщин долго торговаться с вами и понемногу уступать вам то, что предлагаю по доброй воле и сразу; но не думаю, что тогда вы полюбили бы меня хоть на волос больше. Не прошу у вас ни клятвы в вечной любви, ни преувеличенных уверений. Любите меня, пока Господу Богу будет угодно. Я и сама так поступлю. Когда вы меня разлюбите, не стану называть вас ни негодяем, ни изменником. Вы также будьте добры избавить меня от соответствующих титулов, если случится так, что я вас покину. Я останусь просто женщиной, которая перестала вас любить, и не более того. На том основании, что люди провели вместе всю ночь, им нет никакой необходимости ненавидеть друг друга всю жизнь. Что бы ни произошло, и куда бы меня не бросила судьба, клянусь вам – и эта клятва из тех, которые можно сдержать, – навсегда сохранить о вас чарующие воспоминания и, коль скоро перестану быть вашей возлюбленной, остаться для вас другом, как раньше была вам добрым приятелем. Для вас я на эту ночь отказалась от мужского платья; завтра утром я вернусь к нему для всех. Помните, что я только ночью Розалинда, а днем я всегда Теодор де Серанн и никем иным быть не могу…
Продолжение ее тирады захлестнул поцелуй, за которым последовало множество других, но никто их уже не считал, не станем и мы вносить их в точный реестр, поскольку дело это чересчур долгое и, возможно, весьма безнравственное с точки зрения некоторых людей, хотя мы-то с вами понимаем, что нет в мире ничего более нравственного и более священного, чем ласку мужчины и женщины, когда оба молоды и хороши собой.
Настояния д’Альбера делались все нежнее и неотступнее, но прекрасное лицо Теодора, вместо того чтобы расцвести и засиять, омрачилось выражением гордой меланхолии, что несколько обеспокоило влюбленного молодого человека.
– Моя дорогая госпожа, почему вы напускаете на себя целомудренную строгость античной Дианы, меж тем как сейчас уместнее были бы улыбающиеся уста Венеры, выходящей из моря?
– Видите ли д’Альбер, дело в том, что на Диану-охотницу я похожа больше, чем на кого другого. По причинам, о которых долго, да и незачем рассказывать, я совсем юной надела мужское платье. Вы один угадали мой пол – до сих пор я хоть и покоряла сердца, но сердца только женские; то были напрасные победы, не раз ввергавшие меня в затруднения. Одним словом, это может показаться забавно и невероятно, однако я девственна – девственна, как гималайские снега, как луна, прежде чем разделила ложе с Эндимионом, как Мария до знакомства с божественным голубем, и потому я серьезна – как любой, кто намерен совершить поступок, который невозможно будет повторить. Мне предстоит совершить метаморфозу, преображение. Сменить девичье звание на женское, назавтра лишиться возможности отдать то, что было у меня вчера, узнать то, чего не знала прежде, перевернуть важную страницу в книге жизни. Вот почему я кажусь печальной, мой друг; и вы в этом нисколько не виноваты. – С этими словами она отняла обе свои прекрасные руки от длинных волос молодого человека и чуть округленными губами приложилась к его бледному лбу.
Д’Альбер, странно взволнованный такой торжественностью тона, которым она произнесла эту тираду, взял ее руки в свои и перецеловал на них все пальцы, один за другим; затем очень осторожно оборвал шнурок, стягивающий вырез ее платья, так что распахнулся корсаж и во всем великолепии явились два белоснежных сокровища; на этой мерцающей и светлой, как серебро, груди, расцветали две прекрасные райские розы. Он легонько сжал губами их алые вершины, а потом его губы обежали обе округлости. Розалинда позволила ему это с неисчерпаемым великодушием, стараясь, как могла справедливее, возвращать ему его ласки.
– Вы, наверно, сочтете меня страшно неловкой и холодной, мой бедный д’Альбер, но я совсем не знаю, что нужно делать; вам нужно будет изрядно потрудиться, чтобы меня просветить, и, право, я взваливаю на вас нелегкий груз.
Д’Альбер ответил очень просто, он вообще не ответил – и с новой страстью стиснув ее в объятиях, покрыл поцелуями ее обнаженные плечи и грудь. Волосы близкой к умопомрачению инфанты распустились, и платье, словно по волшебству, упало к ее ногам. Она стояла, словно белое привидение, в простой своей сорочке из прозрачнейшего полотна. Блаженный возлюбленный опустился на колени и вскоре отшвырнул в противоположный конец комнаты две хорошенькие туфельки с красными каблучками; за ними последовали чулки с вышитыми стрелками.
Сорочка, весьма кстати одаренная страстью к подражанию, не пожелала отставать от платья; сначала она соскользнула с плеч, и никто не позаботился о том, чтобы ее удержать; потом, улучив миг, когда руки оказались под прямым углом к телу, она покинула их с отменной ловкостью и скатилась до самых бедер, чья волнистая округлость немного ее задержала. Тут Розалинда заметила, как коварно ведет себя ее последняя одежда, и подняла ногу, согнув ее в колене, чтобы воспрепятствовать бегству. В этой позе она была удивительно похожа на мраморные статуи богинь, чьи рассудительные драпировки, досадуя, что им приходится скрывать такие красоты, нехотя окутывают очаровательные бедра и с весьма удачным вероломством останавливаются ровнехонько чуть выше того самого места, которое им полагается скрывать. Но поскольку сорочка была не из мрамора и складки, в которые она собралась, ее не удерживали, она продолжила свой победоносный спуск, окончательно осела поверх платья и улеглась калачиком вокруг ног хозяйки, как белая борзая.








