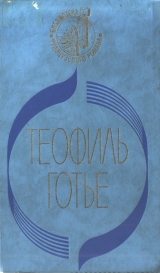
Текст книги "Мадемуазель де Мопен"
Автор книги: Теофиль Готье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 24 страниц)
Теофиль Готье
Мадемуазель де Мопен

Предисловие
Одна из самых забавных примет славной эпохи, в которую нам посчастливилось жить, – это, бесспорно, оправдание добродетели, предпринятое ныне всеми газетами, какого бы ни были они цвета, – красные, зеленые или трехцветные.
Разумеется, добродетель – почтенное свойство, и нам отнюдь не хочется – Боже сохрани! – ею пренебрегать. Это порядочная, достойная женщина. И мы полагаем, что глаза ее с изрядным задором поблескивают из-под очков, что чулки у нее не так уж и перекручены, что табак из золотой табакерки она берет со всем мыслимым изяществом, а ее собачка приседает и кланяется не хуже учителя танцев. Так мы полагаем. Мы даже согласимся, что для своего возраста она еще хоть куда и прекрасно сохранилась. Очень приятная бабушка, но все-таки бабушка… По-моему, естественно будет предпочесть ей – особенно если вам двадцать лет – этакую премилую безнравственность, дерзкую, кокетливую, разбитную, слегка растрепанную, в юбчонке скорее короткой, чем длинной, с вызывающей ножкой и вызывающим взглядом, с румянцем во всю щеку, с улыбкой на устах и сердцем на ладони. Самые чудовищно добродетельные журналисты не посмеют утверждать обратное, а если кто и посмеет, то на самом деле он скорее всего так не думает. Думать одно, а писать другое – это случается на каждом шагу, особенно с добродетельными людьми.
Помню, какие колкости до революции (я имею в виду Июльскую) сыпались на горемычного и целомудренного виконта Состена де Ларошфуко, удлинившего туники танцовщиц в Опере и своей патрицианской рукой наложившего стыдливые нашлепки на середку всех статуй. Ныне г-на виконта Состена де Ларошфуко уже превзошли, и намного. С тех пор стыдливость весьма усовершенствовалась и дошла до таких тонкостей, о каких прежде и не помышляли.
Не имея привычки рассматривать у статуй известное место, я вместе с другими считал, что на свете не может быть выдумки смешнее виноградных листочков, вырезанных г-ном попечителем изящных искусств. Похоже, я заблуждался, и виноградный листок – одно из похвальнейших общественных установлений.
Мне поведали, но я не пожелал верить, так дико это мне показалось, что есть люди, которые, стоя перед фреской Микеланджело «Страшный суд», видят только эпизод с распутными священнослужителями и прикрывают себе лица, вопя о глумлении над безутешной скорбью!
Эти же люди изо всех романов о Родриго знают только куплет об уже. Едва на картине или в книге мелькнет нагота, они спешат прямиком туда, как свинья – к грязной луже, не обращая внимания на пышные цветы и прекрасные золотистые плоды, тянущиеся к ним со всех сторон.
Я, признаться, не столь добродетелен. Когда бесстыдница Дорина выставит мне напоказ свой бюст, я, конечно, не стану доставать из кармана платок, чтобы прикрыть эту грудь, на которую не в силах смотреть. Я буду смотреть на грудь так же, как на лицо, и получу удовольствие, коль скоро она окажется белой и округлой. Но я не стану щупать платье на Эльвире, дабы определить, мягок ли шелк, и не стану с набожным видом заваливать ее на край стола по примеру бедняги Тартюфа.
Царящее ныне преклонение перед моралью было бы попросту смехотворно, не нагоняй оно такую скуку. Что ни фельетон, то кафедра, что ни журналист, то проповедник; недостает только тонзур да стоячих воротничков. Настала пора дождей и нудных проповедей; чтобы упастись от того и другого, приходится брать карету или сидеть дома и перечитывать «Пантагрюэля», попивая вино и попыхивая трубкой.
Боже милостивый! Какое остервенение! Какая ярость! Кто вас укусил? Кто вас задел? Какого черта вы так вопите и почему так взъелись на бедный порок? Что дурного сделал вам этот добродушный, покладистый господин, который только одного и хочет – развлекаться самому и по мере возможности не докучать другим? Поступайте с пороком, как Серр с жандармом: обнимитесь, и пускай все это поскорее закончится. Поверьте, вам же будет лучше. Да, Боже мой, господа проповедники, что бы вы делали, не будь на свете порока? Если нынче все станут добродетельны, вам завтра же придется просить милостыню.
Предположим, сегодня вечером позакрывают театры – о чем вы завтра настрочите статью? Не станет балов в Опере, поставляющих вам материал для ваших колонок, не станет романов, которые вы могли бы разделать под орех; ведь балы, романы, комедии – все это воистину бесовские прелести, если верить нашей святой матери-церкви. Актриса возьмет да прогонит своего содержателя – и нечем ей станет оплачивать ваши панегирики. Никто больше не подпишется на ваши газеты: все кинутся читать блаженного Августина, пойдут в церковь, начнут бубнить молитвы. Оно бы, может, и неплохо, но вы на этом прогадаете. Если все станут добродетельны, куда вы пристроите свои статьи о безнравственности нашего века? Как видите, и от порока есть известная польза.
Но теперь пошла мода быть добродетельным и благочестивым; это поза, которую все стараются принять; все рядятся святыми Иеронимами, как раньше рядились донжуанами; все стали бледные, изнуренные, причесаны под апостолов; ходят, набожно сложив руки и уперев взор в землю; все, судя по ужимкам, вот-вот достигнут совершенства; на камине у всех раскрытая Библия, над кроватью – распятие и освященная веточка букса; никто больше не божится, курят мало и табаку почти не жуют. И вот уже все стали христианами, толкуют о святом искусстве, о высоком призвании художника, о поэзии католицизма, о г-не Ламенне, о живописцах ангельской школы, о Тридентском соборе, о прогрессивном человечестве и о тысяче других прекрасных вещей. Кое-кто сдабривает свою веру капелькой республиканизма: эти господа из самых занятых. Они как нельзя более жизнерадостно сочетают Робеспьера с Иисусом Христом и с похвальной серьезностью устраивают смесь из Деяний Апостолов и декретов святого конвента – вот он, заветный эпитет; другие же в качестве последнего ингредиента добавляют кое-какие сенсимонистские идеи. Эти – уж совсем превосходные и положительные люди; их не перещеголяешь. Человеческой глупости не дано идти далее этого предела: has ultra metas…11
По ту сторону пределов (лат.).
[Закрыть] и т.д. Это геркулесовы стопы шутовства.
Благодаря господствующему ныне ханжеству христианство настолько вошло в моду, что известной благосклонностью у публики пользуется даже неохристианство. Говорят, у него появилось не менее одного последователя, если считать г-на Друино.
Еще одна крайне любопытная разновидность так называемой нравственной журналистики – это журналистика женского направления. Она по части стыдливости настолько ранима, что доходит до антропофагии или вроде того.
Ее образ действий, простой и незамысловатый на первый взгляд, на самом деле весьма потешен и может доставить огромное удовольствие публике, а потому мне кажется, что это направление стоит сохранить для потомства – для грядущих поколений, как говаривали замшелые старики в так называемом великом веке.
Чтобы зарекомендовать себя журналистом этого толка, нужно заранее запастись кое-какими орудиями труда – скажем, двумя-тремя законными женами, несколькими мамашами, как можно большим набором сестер, полным комплектом дочерей и бесчисленными кузинами… Далее, нужны театральная пьеса или роман, перо, чернила и издатель. Не помешает какая-нибудь идея и десяток-другой подписчиков, но можно обойтись и изрядной толикой глубокомыслия и деньгами акционеров.
Приобретя все это, смело объявляйте себя нравственным журналистом. При подготовке статей достаточно будет следующих двух рецептов, если в каждом случае вносить в них подобающие изменения.
ОБРАЗЦЫ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ РЕЦЕНЗИЙ
НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
«После крови в литературу хлынули помои; после морга и каторги она вводит нас в альков и публичный дом; после рубищ, запятнанных злодейством, она являет нам рубища, заселенные пороком; после … и т.д. (по мере надобности, смотря по тому, сколько остается свободного места, в этом духе можно продолжать от шести строк до пятидесяти и свыше), – и это закономерно. Вот к чему ведет забвение священных основ и романтическое бесстыдство: театр превратился в школу проституции, и мы трепещем, дерзая явиться сюда со спутницей, к которой питаем уважение. Вы приходите в зал, привлеченные именем знаменитого автора, но во время третьего акта вынуждены увести свою юную дочь, смущенную и растерянную. Ваша жена прикрывает веером краску стыда; ваша сестра, ваша кузина и т.д.» (степени родства можно разнообразить как угодно, лишь бы все это были родственницы женского пола).
Nota22
Nota – заметь (лат.).
[Закрыть]. Среди рецензентов нашелся один, простерший свою нравственность вплоть до утверждения: я не пойду смотреть эту драму вместе с любовницей. Этим человеком я восхищаюсь, он мне дорог; я храню его в своем сердце, как Людовик XVIII хранил в своем всю Францию; ведь его осенила самая победоносная, колоссальная, ошеломляющая, монументальная мысль из тех, что могут посетить разум человеческий в нашем благословенном девятнадцатом веке, породившем уже такое великое множество мыслей, в том числе и самых диких.
Умение писать отзыв на книгу не требует много времени и доступно людям самых скромных способностей.
«Коль скоро вы собираетесь читать эту книгу, уединитесь понадежнее у себя дома; не бросайте ее на стол. Если ваши жена и дочь откроют ее – они погибли. Эта книга опасна: она учит пороку. Возможно, она снискала бы шумный успех во времена Кребийона, на уединенных виллах, за изысканным ужином у какой-нибудь герцогини, но теперь, когда нравы стали куда чище, но теперь, когда народная десница разрушила прогнившее здание аристократии… и т.д. и т.п., теперь, когда… теперь, когда… в каждом произведении нам нужна идея, идея… а, вот: нравственная и религиозная идея, которая… нам нужен возвышенный и, в то же время, глубокий взгляд на вещи, отвечающие потребностям человечества; и как прискорбно, что молодые писатели приносят в жертву успеху самые святые понятия и транжирят свой талант (который, кстати, мы за ними вполне признаем!) на похотливые описания, которые вгонят в краску даже драгунского капитана (застенчивость драгунских капитанов – после открытия Америки самое великое открытие всех времен). Разбираемый нами роман напоминает «Терезу-философку», «Фелицию», «Папашу Матье» и сказки Грекура». Как видно, добродетельный журналист – большой знаток по части скабрезной литературы; хотелось бы мне знать почему?
Страшно подумать, что, судя по газетам, множество почтенных промышленников пера вполне обходятся этими двумя рецептами, чтобы прокормить себя и свои многочисленные семьи, служащие для них материалом.
Я, надо думать, самый чудовищно безнравственный человек в Европе и за ее пределами, поскольку в теперешних романах и комедиях усматриваю ничуть не больше бесстыдства, чем в романах и комедиях былых времен, и просто не понимаю, с какой стати уши господ газетчиков сделались вдруг столь по-янсенистски чувствительны.
Не думаю, что самый непорочный журналист осмелится утверждать, будто Пиго-Лебрен, Крейбийон-сын, Луве, Вуазенон, Мармонтель и все остальные романисты и новеллисты уступают по части безнравственности – поскольку они и впрямь безнравственны – самым неистовым и разнузданным творениям гг. такого-то и такого-то, коих я не называю из уважения к их стыдливости.
Только вопиющая недобросовестность заставит с этим не согласиться.
И пускай мне не возражают, что я, мол, привожу малоизвестные или вовсе неизвестные имена. Если я не ссылаюсь на великих и знаменитых, то это еще не значит, что они не могли бы подкрепить мои утверждения своим огромным авторитетом.
Романы и повести Вольтера, если отрешиться от их достоинств, ничуть не более пригодны для раздачи в качестве наград желторотым питомцам пансионов, чем «Безнравственные рассказы» нашего друга, страдающего ликантропией, или даже «Нравоучительные рассказы» слащавого Мармонтеля.
Что мы видим в комедиях великого Мольера? Видим священный институт брака (стиль катехизиса или газетчика), над которым потешаются и глумятся в каждой сцене.
Муж – старый, безобразный и чудаковатый, парик сидит на нем криво, одет он старомодно, ходит с палкой, набалдашник которой изогнут птичьим клювом, нос у него перепачкан табаком, ноги коротенькие, брюхо необъятно, как бюджет. Во рту у него каша, говорит он только глупости, а делает то же, что говорит; он ничего не видит, ничего не слышит; его жену целуют прямо у него под носом, а он не понимает, в чем дело, и так продолжается до тех пор, пока он сам и вся публика в зале не убедятся, что ему наставили рога, и тут эта публика, весьма и весьма просвещенная, взрывается бурными аплодисментами.
Сильнее всех аплодируют сами женатые.
У Мольера брак зовется Жоржем Данденом или Сганарелем.
Адюльтер носит имя Дамиса или Клитандра, для него не скупятся на самые нежные и чарующие слова.
Адюльтер всегда юн, прекрасен собой, строен, рангом не ниже маркиза. Он входит, напевая в сторону мелодию самой новой куранты, он прогуливается по сцене с самым непринужденным и победоносным видом на свете; он чешет себе ухо розовым ноготком кокетливо оттопыренного мизинца; он расчесывает свои чудные белокурые волосы черепаховым гребнем и расправляет на штанах пышнейшие кружевные воланы. Его камзол и широкие штаны до колен сплошь покрыты шнурами и шелковыми лентами; кружевной воротник вышел из рук искуснейшей мастерицы; его перчатки благоухают слаще росного ладана и лука-резанца; его перья стоят луидор штука.
Как горит его взор, как румянятся его щеки! Как улыбчивы его уста! Как белы зубы! Какие у него нежные, чисто вымытые руки!
Стоит ему заговорить, и с его губ срываются сплошные мадригалы да любезности, овеянные ароматом изысканного прециозного33
Точного.
[Закрыть] стиля и пронизанные благодушием; он читал романы и знаком с поэзией; он отважен и, чуть что, хватается за шпагу, он швыряет золотые направо и налево. А потому Анжелика, Агнесса, Изабелла, хоть они и благовоспитанные важные дамы, едва удерживаются, чтобы не броситься ему на шею, а муж в пятом действии регулярно оказывается в дураках, и его счастье, если эта участь не постигла его еще в первом.
Вот как трактуется брак у Мольера, одного из самых проницательных и возвышенных гениев в мире. Неужели в обвинительных речах, которые обрушиваются на «Индиану» и «Валентину», найдутся примеры похлеще?
Отцовству, если это возможно, достается еще крепче. Взгляните на Оргона, взгляните на Жеронта, взгляните на них всех.
Сыновья их обкрадывают, слуги колотят! Без малейшего снисхождения к их почтенному возрасту, выставляются напоказ их скупость, упрямство, глупость! Какие шутки, какие мистификации на них обрушиваются! Этих бедных стариков, которые все никак не помрут и не желают расставаться со своими деньгами, буквально выпихивают из жизни! Сколько разговоров о родительской долговечности! Сколько пылких речей против наследственного права, и насколько это все убедительней декламаций в духе Сен-Симона!
Отец – это людоед, это Аргус, тюремщик, тиран, он только и может, что препятствовать браку на протяжении трех действий вплоть до финального благословения. Отец – это наиболее полное выражение осмеянного мужа. Сын у Мольера никогда не подвергается осмеянию, потому что Мольер, подобно всей пишущей братии во все времена, льстил молодому поколению за счет стариков.
А Скапены в полосатых неаполитанских плащах, в шапочках, сдвинутых на ухо, с пером, развевающимся в воздухе, – не правда ли, что за благочестивые, непорочные люди, хоть причисляй их к лику святых! Каторги полны честных малых, не натворивших и четверти того, что выделывают эти молодцы. Плутни Триальфа бледнеют рядом с их плутнями. А какие бестии все эти Лизон и Мартон, батюшки! Уличные девки – и те не такие бывалые, не такие языкатые! До чего умело они передают записку, стоят на страже во время свидания! Право слово, этим девицам цены нет – и услужливы, и способны дать добрый совет.
Сквозь все эти комедии и путаные интриги мы прозреваем, как волнуется и суетится очаровательное общество. Обманутые опекуны, рогатые мужья, распущенные служанки, слуги-мошенники, безрассудно влюбленные барышни, распутные сыновья, неверные жены; чем это лучше прекрасных молодых меланхоликов и несчастных слабых женщин, угнетенных и страстных, о которых мы читаем в романах и драмах наших нынешних модных литераторов?
И никакого финального удара кинжалом, никакой неизбежной чаши с отравой: развязки так же благополучны, как в сказках, и все, вплоть до мужа, более чем ублаготворены. У Мольера добродетель всегда опозорена, всегда осыпана колотушками; ее венчают рога, она подставляет спину Маскарилю; назидание от силы разок мелькнет под конец пьесы, воплощенное в несколько мещанском обличье судебного пристава Лояля.
Все это мы говорим отнюдь не для того, чтобы нанести ущерб пьедесталу Мольера; мы не настолько безумны, чтобы надеяться поколебать этот бронзовый колосс нашими хилыми ручонками; мы просто хотели бы продемонстрировать благочестивым фельетонистам, лютующим против новых романтических творений, что старые, классические авторы, которых они что ни день советуют нам читать и брать за образец для подражания, намного превосходят нынешних писателей в разнузданности и безнравственности.
К Мольеру мы легко могли бы присоединить и Мариво, и Лафонтена – два столь противоположных воплощения французского духа – и Ренье, и Рабле, и Маро, и множество других. Но мы не собираемся сочинять курс истории литературы, излагаемой, с точки зрения морали, на потребу газетным девственникам.
Мне кажется, не стоит поднимать такой переполох из-за пустяков. На наше счастье, времена белокурой Евы канули в прошлое, и при всем желании мы не можем остаться так же примитивны и патриархальны, как обитатели ковчега. Мы не девочки, собирающиеся к первому причастию, и когда во время игры в рифмы вас просят срифмовать корзинку, не говорим в ответ: «Кремовый торт». К нашему простодушию примешивается изрядная доля учености, а невинность наша давно уже таскается по городу; кое-что дается человеку только единожды, и что бы мы потом ни делали, утраченного не воротишь, ибо ничто на свете не исчезает так быстро, как утраченная невинность и утраченные иллюзии.
В конечном счете все это не так уж страшно, и разносторонние познания все-таки предпочтительней полного невежества. Пускай об этом спорят те, кто поученей меня. Так или иначе, мы уже миновали возраст, в коем позволительно строить из себя целомудренных скромников, и, по-моему, старым хрычам нелепо прикидываться юными и девственными.
С тех пор как общество сочеталось брачными узами с цивилизацией, оно лишилось права на избыток застенчивости и простодушия. Бывает такой румянец, который весьма кстати, когда новобрачная удаляется в спальню, но наутро он уже неуместен, потому что молодая женщина, быть может, уже забыла девушку, которою была накануне, а если не забыла, то это весьма неблаговидное обстоятельство может серьезно повредить репутации мужа.
Когда я случайно прочитываю одну из тех превосходных проповедей, что заняли ныне в печати место литературной критики, мне порой становится очень стыдно и очень тревожно, поскольку у меня на совести есть несколько чересчур приперченных острот, какие может поставить себе в укор всякий пылкий и увлекающийся молодой человек.
Рядом с этим Боссюэ из «Кафе де Пари», этими Бурдалу с оперной галерки, с этими Катонами по столько-то за строчку, которые с таким искусством ругают на все корки нынешний век, я в самом деле сознаю себя самым чудовищным злодеем, какой только пятнал своим присутствием лицо земли, а между тем, видит Бог, список моих грехов, как смертных, так и простительных, включая необходимые пробелы и междустрочия, насилу заполнит в руках умелого книгоиздателя один-два томика ин-октаво в день – сущие пустяки для человека, не притязающего в мире ином на райские кущи, а в этом – на Монтионовскую премию или награду за девичью добродетель.
А потом я вспоминаю, что под столом, да и в других местах, встречал довольно многих из этих бдительных стражей добродетели, и начинаю думать о себе лучше; и в голову мне приходит мысль, что, какими бы недостатками я ни обладал, – эти люди также страдают одним изъяном, хуже и гаже которого, по-моему, не бывает: я разумею лицемерие.
А если хорошенько присмотреться, водится за ними и еще один грешок, причем такой омерзительный, что я насилу осмеливаюсь его назвать. Подойдите ближе, и я шепну вам на ушко: это зависть.
Зависть и ничто иное.
Это она, ползучая, извивающаяся, пронизывает все их отеческие проповеди; и как она ни прячется, но из-под метафор и риторических фигур то и дело проблескивает ее плоская гадючья головка; иногда удается даже приметить, как она облизывает раздвоенным язычком свои синеющие от яда губы; и слышно, как она тихонько посвистывает, укрывшись в тени лукавого эпитета.
Я сознаю, что утверждать, будто вам завидуют, – несносное самодовольство, почти столь же тошнотворное, как чванство щеголя, пускающего пыль в глаза своим богатством. Не такой уж я бахвал, чтобы приписывать себе врагов и завистников. Это счастье дается не каждому, и мне, по всей видимости, еще долго его не видать; а потому я буду говорить откровенно и без задней мысли, как человек, в данном вопросе совершенно бескорыстный.
Естественная неприязнь критика к поэту есть непреложный факт, который легко доказать сомневающимся; это неприязнь бездельника к тому, кто делает дело, трутня – к пчеле, мерина – к жеребцу.
Вы становитесь критиком не раньше, чем окончательно убедитесь, что не можете быть поэтом. Прежде чем смириться с унылой ролью маркера в биллиардной или зале для игры в мяч, стерегущего пальто и ведущего счет очкам, вы долго ухаживали за музой и пытались лишить ее невинности; но на это у вас недостало силенок, и вот вы, побледнев и задохнувшись, рухнули в изнеможении у подножия священной горы.
Я понимаю эту ненависть. Мучительно смотреть, как другой садится за пиршественный стол, к которому вас не позвали, или ложится в постель с женщиной, которая вас отвергла. Мне от всего сердца жаль беднягу евнуха, вынужденного наблюдать забавы турецкого султана.
Он допущен в самые сокровенные недра гарема; он водит султанш на омовения; он видит, как в серебряной воде обширных бассейнов блистают их прекрасные тела, покрытые перлами брызг и гладкие, как агат; самые тайные прелести являются перед ним без покровов. Его не стесняются: он евнух. Султан ласкает при нем свою фаворитку и целует ее в гранатовые губы. Прямо скажем, положение у евнуха двусмысленное, и, надо думать, сдержанность дается ему дорогой ценой.
То же самое и критик: он видит, как поэт гуляет по саду поэзии со своими девятью красавицами-одалисками и лениво забавляется в тени могучих зеленых лавров. И критику очень трудно удержаться и не набрать на большой дороге камней, чтобы швыряться ими в поэта из-за забора и зашибить его, если достанет меткости.
Критик, который сам ничего не создал, – низкий трус; он все равно что аббат, который строит куры жене мирянина: тот не может ни ответить ему тем же, ни вызвать его на дуэль.
Думаю, что история различных способов чернить чужие книги, употреблявшихся за последний месяц, была бы по меньшей мере столь же увлекательна, как история Тиглатпаласара или Геммагога, изобретателя башмаков-пуленов.
У нас достало бы материала томов на пятнадцать-шестнадцать ин-фолио, но смилуемся над читателем и ограничимся несколькими строчками, – за это благодеяние нам причитается вечная его признательность и даже более того! В весьма отдаленную эпоху, которая теряется во тьме веков, a точнее, приблизительно три недели тому назад, в Париже и его предместьях процветал по преимуществу некий средневековый роман. В большой чести была кольчуга; прическе «бараний рог» также отдавалось должное; особое внимание уделяли двуцветным штанам; превыше всего ценился кинжал с трехгранным клинком; башмаки-пулены обожествлялись, как фетиши. Только и слышно было о стрельчатых сводах, дозорных башнях, колоннах и столбах, цветных стеклах, соборах и укрепленных замках; все бредили высокородными девами и надменными рыцарями, пажами и оруженосцами, бродягами и наемниками, галантными кавалерами и свирепыми феодалами, – и все это, разумеется, было невинней самых невинных игр и никому не причиняло зла.
Критик не стал дожидаться второго подобного романа, чтобы начать свой разрушительный труд; не успел выйти в свет первый, как он уже завернулся во власяницу из верблюжьей шерсти и высыпал себе на голову целое ведро пепла; затем он заголосил что было мочи:
– Снова средневековье, опять это средневековье! Кто избавит меня от средневековья, от этого средневековья, которое на самом деле – никакое не средневековье! Это картонное, глиняное средневековье, оно только называется средневековьем! Ох, железные бароны в железных латах, с железными сердцами в железной груди! Ох, уж эти мне соборы, их вечные великолепные розы и вечные цветные стекла, переливающиеся чудными узорами, гранитное кружево, ажурные трилистники, зазубренные коньки, узорчатые каменные ризы, подобные подвенечному наряду невесты, свечи, псалмы, пламенные пастыри, коленопреклоненный народ, гудение органа и ангелы, парящие и хлопающие крыльями под церковными сводами! Как они испортили мне мое собственное средневековье, такое изысканное и красочное! Они скрыли его под толстым слоем аляповатой краски! Какие безвкусные завитушки! Ах невежды-пачкуны, вы мните, будто создаете колорит, а сами ляпаете красную краску на синюю, белую на черную, а зеленую на желтую; вы увидели только самый верхний слой средневековья, вы не разглядели души средневековья; во плоти, которою вы облекли ваши фантомы, не циркулирует кровь, под вашими стальными латами нет сердца, в ваших штанах-чулках нет ног, а под платьями с шлейфами – ни животов, ни грудей: это просто одежда, которой придана человеческая форма, и ничего более. Итак, долой такое средневековье, которое нам подсовывают иные сочинители (прекрасное словцо, однако, для них подобрано: сочинители!). Средневековье сегодня совершенно некстати, подавайте нам что-нибудь другое.
А читатели, видя, как критика охаивает средневековье, пылко влюбились в это самое незадачливое средневековье, которое те надеялись прихлопнуть на месте. Благодаря сопротивлению газет средневековье заполонило все – драмы, мелодрамы, романсы, рассказы, стихи; появились даже средневековые водевили, и Мом принялся повторять феодальные куплеты.
Наряду со средневековым романом процветал роман-кошмар, весьма приятный жанр, который был в большом ходу у нервических домашних хозяек и пресыщенных кухарок.
Критики мигом слетелись на запах, как воронье на свежие потроха: своими перьями они растерзали в клочья и свирепо умертвили эту злополучную разновидность романа, которая хотела одного – просто жить-поживать на свете и мирно истекать гноем на сальных полках читален. Чего они только не говорили! Чего только не писали! Литература морга, литература каторги, кошмар палача, видения пьяного мясника, горячечный бред полицейской ищейки! Они благожелательно намекали на то, что авторы – убийцы и вампиры, что им присуща порочная привычка убивать отца с матерью, что они пьют кровь из черепов, вместо вилок пользуются берцовыми костями, а хлеб режут гильотиной.
Между тем газетчики, многажды обедавшие у авторов романов-кошмаров, лучше чем кто бы то ни было знают, что все они – отпрыски хороших семей, весьма добродушные люди, принадлежащие к приличному обществу, в белых перчатках, с модной близорукостью; что бифштексами они питаются охотнее, чем человечиной, и пить привыкли все больше бордо, а не кровь юных девушек и новорожденных младенцев. Журналисты, видевшие и державшие в руках их рукописи, знают, что написаны они чернилами отменного качества на английской бумаге, а не кровью казненных преступников на коже, содранной с живых христиан.
Но что бы они ни говорили и ни делали, эпоха не желала расставаться с кошмаром, и костехранилище по-прежнему было ей милее будуара; читатель клевал исключительно на крючок с наживкой в виде синюшного трупика. Оно и понятно: наживите на рыболовный крючок розу и можете сидеть с удочкой, пока паук не сплетет паутину в сгибе вашего локтя, а все не поймаете даже мелкой рыбешки; наживите червяка или кусок заплесневелого сыра – и карпы, усачи, окуни, угри станут на три фута выскакивать из воды, чтобы схватить приманку. А люди отличаются от рыб меньше, чем принято думать.
Может показаться, что журналисты превратились в квакеров, брахманов, пифагорейцев или быков, – до того все они внезапно прониклись отвращением к красному цвету и виду крови. Они достигли невиданной прежде степени мягкости и буквально тают во рту – точь-в-точь сметана или сливки. Им по вкусу только две краски: небесно-голубая и ядовито-зеленая. Розовая допустима, но и только; и если бы публика дала им волю, они бы погнали всех щипать шпинат на берегах Линьона, бок о бок с овечками Амариллиды. Они сменили черный фрак на непорочную хламиду Селадона или Сильвандра и разукрасили свои гусиные перья розовыми помпончиками и шелковыми лентами на манер пасторальных посошков. Они ходят в локончиках, как дети, и вернули себе утраченную невинность по рецепту Марион Делорм, преуспев в этом точно так же, как она.
К литературе они применяют ту из десяти заповедей, которая гласит:
Не убий
Их стараниями авторы не могут позволить себе самого крохотного театрального убийства, и пятое действие оказалось невозможно.
Кинжал эти господа сочли возмутительным, яд – чудовищным, топор – и вовсе недопустимым. Им бы хотелось, чтобы герои пьес доживали до лет Мелхиседека; однако же с незапамятных времен всеми признано, что цель всякой трагедии состоит в том, чтобы в финальной сцене разделаться с горемычным великим человеком, который к этому времени уже совершенно изнемог; точно так же как цель всякой комедии – соединить узами брака двух безмозглых героев-любовников, которым бывает обыкновенно лет по шестидесяти от роду.
Примерно в это время я бросил в огонь (предварительно, как это всегда делается, сняв копию) две отменных, великолепных средневековых драмы, одну в стихах, другую в прозе; героев там четвертовали и варили живьем прямо на сцене, что было очень весело и довольно-таки непривычно.
Потом, подлаживаясь под понятия критиков, я сочинил античную трагедию в пяти действиях под названием «Гелиогабал»: ее герой топился, в отхожем месте – поразительное новшество, имеющее то преимущество, что для него требовались еще не виданные в театре декорации. Кроме того, я настрочил современную драму, намного превосходящую «Антония», «Артура» или «Рокового человека», где провиденциальная идея была подана в форме страсбургского паштета из гусиной печенки, который до последней крошки поедает герой, совершивший перед тем несколько изнасилований; паштет добавляется к угрызениям совести, и все вместе приводит к тяжелейшему несварению желудка, от которого он и умирает. Такой, можно сказать, высоконравственный финал, доказывающий, что существует божественная справедливость, что порок всегда бывает наказан, а добродетель – вознаграждена.








