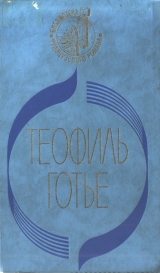
Текст книги "Мадемуазель де Мопен"
Автор книги: Теофиль Готье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Что касается чудовищного романа – тут уж вы и сами помните, как обошлась критика с Гансом Исландцем, пожирателем людей, с колдуном Хабиброй, со звонарем Квазимодо и с Трибуле, который был просто горбун, – со всем этим причудливым копошащимся выводком, со всей этой гротескной нечистью, которую расплодил мой любезный сосед, населив ею девственные леса и соборы своих романов. Ни смелые мазки в манере Микеланджело, ни изыски, достойные Калло, ни эффекты светотени в духе Гойи, – ничто не умилостивило критиков; когда он сочинял романы, они советовали ему вернуться к одам; он стал писать драмы, – ему порекомендовали вернуться к романам; обычная тактика журналистов: то, что уже сделано, им всегда милее, чем то, что делается сейчас. И все-таки этот человек – счастливчик: даже фельетонисты признают его превосходство во всем им созданном, кроме, разумеется, того произведения, на которое они пишут рецензию, и теперь ему осталось сочинить только богословский трактат да поваренную книгу – и его драматургию превознесут до небес!
Что касается любовного романа, пылкого и страстного, отцом которого считается немец Вертер, а матерью – француженка Манон Леско, в начале нашего предисловия мы уже в нескольких словах упомянули, что их, под предлогом благочестия и добронравия, окончательно провозгласили нравственной язвой. Критические вши ничем не отличаются от платяных: они переползают с трупов на живых людей. С трупа средневекового романа критики перекинулись на роман о любви: шкура у него крепкая, здоровая, авось они об нее обломают зубы.
Несмотря на все наше уважение к современным апостолам, мы полагаем, что авторы этих романов, слывущих безнравственными, хоть, правда, и не настолько женаты, как добродетельные журналисты, но, худо-бедно, у каждого из них есть мать, а у многих – еще и сестры и множество прочей родни женского пола; однако их матери и сестры не читают романов, даже безнравственных; они шьют, вышивают и хлопочут по хозяйству. Их чулки, как сказал бы г-н Планар, отличаются безупречной белизной: осматривайте их как угодно пристально – они не синие, и простодушный Кризаль, пылкий ненавистник ученых женщин, указал бы эти чулки высокомудрой Филаменте как образец для подражания.
Что до супруг господ критиков, коль скоро у них имеются таковые, то, при всей непорочности их мужей, мне кажется, что кое о чем им все же не худо бы знать. Правда, не исключено, что мужья ничего им не показали. В таком случае понимаю, почему они так настойчиво желают и впредь держать своих жен в бесценном и блаженном неведении. Велик Аллах и Магомет – пророк его! Женщины любопытны, пускай же, попечением Всевышнего и морали, они удовлетворяют свое любопытство более законными способами, чем их праматерь Ева, и не обращаются с вопросами к змею!
Ну, а их дочери, ежели они были в пансионе, то, по моему разумению, вряд ли они почерпнут что-нибудь новое из книг.
Называть человека пьяницей за то, что он описывает оргию, и развратником за то, что он живописует распутство, столь же бессмысленно, сколь объявлять кого-либо добродетельным на том основании, что он написал трактат о нравственности; мы что ни день видим примеры обратного. Высказывается не автор, а персонаж, и, если выведенный в книге герой – атеист, это не значит, что и сам писатель тоже атеист; если автор заставляет разбойников поступать и рассуждать по-разбойничьи, то из этого не следует, что он и сам разбойник. В таком случае надо было бы гильотинировать Шекспира, Корнеля и вообще всех, кто писал трагедии; они пролили больше крови, чем Мандрен и Картуш; между тем этого никогда не делали, и подозреваю даже, что в скором времени и не начнут делать, как ни усердствуй критика на стезе нравственности и добродетели. Эти убогие узколобые писаки помешаны на том, чтобы подменять автора его творением; они так и норовят перейти на личности, чтобы придать хотя бы хилый скандальный интерес своим плоским сочинениям, которые, как им хорошо известно, никто не станет читать, если в них не будет ничего, кроме собственного мнения критиков.
Мы совершенно не в силах постичь, к чему вся эта шумиха и зачем поднимать столь негодующий лай; с какой стати всякие мелкотравчатые господа Жоффруа провозглашают себя Дон Кихотами нравственности и литературными полицейскими, готовыми разить и дубасить во имя добродетели каждую идею, которая гуляет по книге в сбившемся набок чепчике и коротковатой юбчонке. Это весьма странно.
Что ни говори, а эпоха наша безнравственна (если это слово имеет какой-то смысл, в чем мы сильно сомневаемся), и нам не надо иных доказательств тому, достаточно поглядеть, сколько безнравственных книг она производит на свет и каким успехом они пользуются. Не нравы следуют книгам, а книги следуют нравам. Не Кребийон породил Регентство, а Регентство породило Кребийона. Юные пастушки Буше были накрашены и выставляли напоказ плечи и грудь, потому что сверх всякой меры накрашены и декольтированы были юные маркизы. Картины пишут с натуры, а не натуру с картины. Не знаю, кто и где сказал, что литература и искусство влияют на нравы. Кто бы он ни был, это несомненно круглый дурак. С тем же успехом можно объявить: весна начинается, потому что растет горошек. На самом деле все наоборот: горошек растет, потому что настала весна, а черешня созревает, потому что пришло лето. Деревья приносят плоды, и каждому ясно, что не плоды приносят деревья, – это вечный закон, единообразный во всем своем многообразии; столетие сменяется столетием, и каждое – приносит свои плоды, иные, чем плоды предшествующего века; книги – это плоды нравов.
По соседству с нравственной журналистикой под этим дождем проповедей, словно под летним ливнем в парке, между досками сенсимонистских балаганных подмостков пробилась поросль маленьких грибков совсем нового и любопытного свойства, – ее мы также включим в наш курс естествознания.
Речь идет о критиках-утилитаристах. У этих бедняг носы чересчур коротки, чтобы оседлать их очками, а между тем они ничего не видят дальше собственного носа.
Когда кто-нибудь из писателей швыряет им на стол новый том, будь то роман или сборник стихов, – эти господа бесстрастно откидываются на спинку кресла, принимаются раскачиваться на его задних ножках, раздуваются от важности и изрекают:
– Чему служит эта книга? Чем она может способствовать нравственному просвещению и благоденствию самого многочисленного и самого обездоленного класса? Как! Ни слова о нуждах общества, ничего на потребу цивилизации и прогрессу! Да как вы смеете, вместо того чтобы споспешествовать великому единению человечества и на примере исторических событий следить за фазами провиденциальной идеи обновления, – как вы смеете вместо всего этого просто писать стихи и романы, которые ни к чему не зовут и не ведут все наше поколение вперед, к будущему? Как можно заботиться о форме, о стиле, пока не решены такие важные вопросы? Какое нам дело до стиля, рифмы, формы? Дело совсем не в них (зелен виноград, бедные лисички!). Общество страждет, раздираемое великими внутренними противоречиями (что значит: никто не хочет подписываться на «полезные» газеты). Дело поэта – найти причину этого недуга и уврачевать его. Он поймет, как осуществить эту задачу, когда проникнется искренним и сердечным сочувствием к человечеству (поэты-филантропы! какое очаровательное было бы новшество!). Мы ждем такого поэта, мы призываем его всеми силами души. Пускай только пожалует – будут ему и приветственные крики толпы, и пальмовые ветви, и венки, и Пританей…
В добрый час; но нам бы хотелось, чтобы читатель не заснул до конца этого столь удачного предисловия, а посему не станем далее с тою же верностью подражать утилитаристскому стилю, который по природе своей обладает снотворным действием и вполне может заменить лауданум и речи академиков.
Нет, глупцы, нет, зобатые недоумки, книга – это не то же самое, что желатиновый суп, роман – это вам не пара сапог без швов; сонет – не клистирная трубка; драма – не железная дорога, и не имеет никакого отношения к достижениям цивилизации, ведущим человечество по стезе прогресса.
Нет, клянусь кишками всех прежних, нынешних и грядущих пап, две тысячи раз нет!
Из метонимии не сошьешь ночного колпака, сравнение не напялишь на ногу вместо домашней туфли; антитезой не прикроешься вместо зонтика; к сожалению, невозможно налепить себе на живот несколько цветистых рифм вместо жилета. Втайне я глубоко убежден, что ода – слишком легкое платье на зиму, а в строфу, антистрофу и эпод можно одеться не лучше, чем была одета жена одного киника, которой добродетель заменяла сорочку, так что, если верить истории, достойная женщина расхаживала в чем мать родила.
Правда, знаменитый г-н де Лa Кальпренед появился однажды в новом камзоле, а когда его спросили, из какой материи сшита обновка, ответил: из Сильвандра. «Сильвандр» – так называлась его пьеса, снискавшая успех незадолго до того.
От подобных рассуждений в пору лишь пожать плечами, задрав их при этом выше, чем герцог Глостер.
И эдакую чепуху всерьез высказывают люди, притязающие на звание экономистов и желающие перестроить общество сверху донизу!
Роман приносит двойную пользу – материальную и духовную, если так можно выразиться применительно к роману. Материальная польза – это прежде всего те несколько тысяч франков, что поступают в карманы автора и служат ему балластом, чтобы ни ветер, ни черт его не унесли; для издателя – это прекрасный породистый конь, который бьет копытом и скачет, запряженный в кабриолет из эбена и железа, как говаривал Фигаро; для торговца бумагой – лишняя фабрика над каким-нибудь ручьем, а заодно, сплошь и рядом, – способ изгадить какой-нибудь живописный уголок; для типографов – несколько тонн кампешевой древесины, чтобы раз в неделю надираться до черно-белых и цветных чертиков; для читальни – груда медяков, позеленевших, как заведено у пролетариев, и такое обилие сала, что ежели его надлежащим образом собрать да пустить в дело, охота на китов окажется излишней. Духовная же польза состоит в том, что читатели романов прекрасно спят и не читают полезных, добродетельных и прогрессивных газет, а также не употребляют и прочих неудобоваримых и отупляющих снадобий.
Попробуйте после этого заявить, что романы не способствуют цивилизации. Не стану уж говорить о торговцах табаком, пряностями и жареным картофелем, которые весьма заинтересованы в этой отрасли литературы, поскольку на нее, как правило, идет бумага лучшего качества, чем газетная.
Да, как послушаешь рассуждения господ утилитаристов – республиканцев или сенсимонистов – можно лопнуть со смеху. Прежде всего хотелось бы выяснить в точности, что означает это назойливое существительное, которым они ежедневно заполняют пустоты в газетных столбцах и которое служит им то шибболетом, то символом веры, – польза! Что это за словцо, и к чему оно относится?
Польза бывает двоякого рода, и смысл этого слова всегда относителен. Что на пользу одному, бесполезно для другого. Вы – сапожник, я – поэт. Мне полезно, чтобы первый мой стих рифмовался со вторым. Словарь рифм приносит мне огромную пользу; он совершенно ни к чему вам при изготовлении подметок для старых сапог, ну, а мне сапожный резак ничуть не пособит в сочинении оды. Теперь мне возразят, что сапожник намного выше поэта и что первый куда более необходим, чем второй. Ничуть не желая принизить славное сапожное ремесло, каковое я чту наравне с профессией конституционного монарха, смиренно признаюсь, что сам-то я скорее смирюсь с рваным башмаком, чем со скверной рифмой, и охотней обойдусь без обуви, чем без стихов. Из дому я выхожу редко, а головой работаю проворней, чем ногами, так что снашиваю меньше башмаков, чем добродетельный республиканец, шныряющий от министра к министру в чаянии теплого местечка.
Знаю, что иные предпочитают церквам мельницы, а духовному хлебу – хлеб как таковой. Мне нечего сказать этим людям. Они достойны быть экономистами в этом мире да и в том тоже.
Существует ли на нашей земле и в нашей жизни нечто, безусловно, полезное? Прежде всего не вижу особой пользы в том, что мы живем на земле. Бросаю вызов самому мудрому из всей банды утилитаристов: пускай объяснит, какая от нас всех польза помимо того, что мы подписываемся на «Конститюсьонель» или какую-нибудь другую газету.
Далее, если мы примем полезность нашего существования a priori, – что может по-настоящему пойти ему на пользу? Суп и кусок мяса дважды в день – вот все, что требуется, чтобы набить утробу в самом точном смысле слова. Человеку, которому после смерти с лихвой хватит помещения в два фута шириной и в шесть длиной, и при жизни требуется немногим больше пространства. Полый куб футов в семь-восемь длиной, шириной и высотой с отверстием для воздуха, одна ячейка в улье – вот и все, что ему нужно, чтобы разместиться и спастись от дождя. Одеяло, обернутое вокруг тела, убережет его от холода так же хорошо и даже еще лучше, чем фрак от Штауба самого элегантного фасона и удачного кроя.
Все это позволяет выжить в буквальном смысле слова. Говорят, что можно просуществовать на двадцать пять су в день, но не умереть с голоду еще не значит жить; по мне, находиться в городе, где все подчинено принципу полезности, ничуть не приятнее, чем на Пер-Лашез.
Для того чтобы прожить, нет никакой необходимости в прекрасном. Если отменить цветы, материально от этого никто не пострадает; и все-таки кто захочет, чтобы цветов не стало? Я лучше откажусь от картофеля, чем от роз, и полагаю, что никто на свете, кроме утилитариста, не способен выполоть на грядке тюльпаны, чтобы посадить капусту.
На что годится женская красота? Коль скоро женщина крепко сложена с медицинской точки зрения и в состоянии рожать детей, любой экономист признает ее прекрасной.
Зачем нужна музыка? Зачем нужна живопись? Какой безумец предпочтет Моцарта г-ну Каррелю и Микеланджело изобретателю белой горчицы?
Воистину прекрасно только то, что абсолютно ни на что не годится; все полезное уродливо, ибо служит удовлетворению какой-нибудь потребности, а все потребности человека отвратительны и гнусны, равно как его немощное, убогое естество. Самое полезное место в доме – нужник.
Ну а я, рискуя не угодить этим господам, принадлежу к тем, кому необходимо излишнее, и любовь моя к людям и вещам диктуется причинами, противоположными пользе, которую они мне приносят. Известной вазе, весьма полезной по ночам, я предпочитаю китайскую вазу, расписанную драконами и мандаринами и совершенно никчемную, а самым ценным своим талантом почитаю умение разгадывать логогрифы и шарады. Я с радостью откажусь от прав француза и гражданина ради того, чтобы увидеть подлинную картину Рафаэля или прекрасную женщину нагишом, например, принцессу Боргезе, позирующую Канове, или Джулию Гризи, входящую в купальню. Я ничуть не возражал бы против возвращения на трон этого людоеда Карла X, лишь бы он прислал мне из своего богемского замка корзину токайского или йоханнисбергского; по мне, возможности, даруемые избирательными законами, и так достаточно широки, лишь бы некоторые улицы были столь же широки, как эти возможности, а вот кое-что другое я бы с удовольствием обузил. Хоть я и не меломан, а все-таки пиликанье скрипок и стук баскских барабанов мне милее, чем колокольчик г-на председателя. Я продам штаны, чтобы купить перстень, а хлеб променяю на варенье. Самым подобающим цивилизованному человеку занятием я почитаю ничегонеделание и глубокомысленное курение трубки или сигары. Кроме того, я весьма уважаю игроков в кегли, а также сочинителей хороших стихов. Как видите, принципы утилитаризма весьма далеки от моих, и мне никогда не бывать редактором добродетельной газеты, разве что я обращусь в истинную веру, что было бы уж совсем забавно.
Вместо того чтобы поощрять добродетель Монтионовской премией, я по примеру Сарданапала, великого и так неверно понятого философа, назначил бы щедрое денежное вознаграждение тому, кто изобретет новый вид наслаждения, ибо полагаю удовольствие целью нашей жизни и единственным, что полезно в этом мире. Такова воля Всевышнего, который создал женщин, приятные запахи, свет, прекрасные цветы, добрые вина, ретивых коней, левреток и ангорских котов, который не повелел ангелам: «будьте добродетельны», но «любите», и сделал так, что на губах кожа у нас чувствительнее всего, чтобы сподручнее было целовать женщин, и дал нам глаза, устремленные к небу, чтобы видеть свет, и тонкое обоняние, чтобы уловлять душу цветов, и сильные бедра, чтобы сжимать бока горячих жеребцов и лететь со скоростью мысли без рельсов и парового котла, и нежные руки, чтобы ласкать длинную голову левретки, бархатную кошачью спину и гладкие плечи не слишком добродетельных созданий; который, наконец, наделил только нас одних славной тройной привилегией: пить, не испытывая жажды, высекать огонь и любиться во всякое время года, что гораздо больше отличает нас от животных, чем обычай читать газеты и сочинять хартии.
Господи, Боже мой! Что за глупость это совершенствование рода человеческого, о котором нам уже прожужжали уши! И впрямь, в пору подумать, будто человек – это машина, в которую можно внести улучшения, и стоит подкрутить какое-нибудь колесико и передвинуть гирьку, как она примется работать исправнее и четче. Когда мы исхитримся снабдить человека двойным желудком, чтобы он мог жевать жвачку, как бык, и глазами на затылке, чтобы он, как Янус, мог видеть тех, кто высовывает язык у него за спиной, и созерцать свою непристойность в менее неуклюжей позе, чем Венера Каллипига Афинская; когда к его лопаткам удастся приладить крылья, чтобы избавить его от необходимости платить шесть су за поездку в омнибусе, когда ему подарят какой-нибудь новый орган, – вот тогда-то, в добрый час, слово совершенствование обретет какой-никакой смысл. С тех пор как пошли разговоры об улучшении да исправлении человеческой породы, сделано ли хоть что-нибудь, чего точно так же и даже успешнее не делали еще до потопа?
Научилось ли человечество пить больше, чем пило в эпоху невежества и варварства (изъясняясь старинным стилем)? Александр, чересчур нежный друг прекрасного Гефестиона, был великий винопийца, хотя в его время не было газеты «Полезные сведения», и ныне я не знаю утилитариста, который был бы способен, не сделавшись амфороподобным и не раздувшись пуще Лепентра-младшего или бегемота, осушить огромный кубок, называвшийся у него чашей Геракла. Маршал де Бассомпьер, выпивший вино, которым был наполнен его огромный воронкообразный ботфорт, за здоровье тринадцати кантонов, представляется мне человеком, воистину достойным восхищения, и превзойти его, по-моему, необыкновенно трудно.
Где тот экономист, который растянет нам желудок до такой степени, чтобы в него вмещалось столько же бифштексов, сколько в утробу Милона Кротонского, съедавшего в один присест целого быка? Меню «Английского кафе», или Вефура, или иной кулинарной знаменитости кажется мне весьма скудным и весьма экуменическим в сравнении с меню любого из обедов Тримальхиона. К какому столу подают свинью с ее двенадцатью поросятами на одном блюде? Кто пробовал мурен и миног, откормленных человечиной? Неужто вы верите, что Брийя-Саварен пошел дальше Апиция? Да разве толстому мяснику Вителлию наполнили бы у Шве его знаменитый щит Минервы фазаньими и павлиньими мозгами, языками фламинго и печенью рыбы скары? Ваши устрицы из «Роше де Канкаль» – тоже мне роскошь по сравнению с устрицами Лукринского озера, которое и создано было специально для них! Домики в предместьях, утеха маркизов эпохи Регентства, – это просто жалкие балаганы для пикников, если сравнить их с виллами римских патрициев в Байи, на Капри или в Тибуре. Созерцая исполинские деяния этих великих сладострастников, ради однодневных удовольствий строивших бессмертные памятники, не лучше ли нам повергнуться во прах перед античным гением и навсегда вычеркнуть из словаря слово совершенствование?
Разве с тех пор выдумали еще хотя бы один смертный грех? Увы, их осталось семь, как и прежде, по числу падений, кои совершает праведник в течение дня, – то есть совсем немного. Не думаю, впрочем, что даже спустя сто лет непрестанного прогресса какой-нибудь любовник сумеет повторить тринадцатый подвиг Геркулеса. Возможно ли в наши дни доставить своему обожаемому кумиру хотя бы на одно удовольствие больше, чем во времена Соломона? Множество весьма известных ученых и весьма почтенных дам придерживаются диаметрально противоположного мнения и утверждают, будто человечество делается все нелюбезнее. Но тогда что вы там толкуете о прогрессе? Знаю, знаю, вы скажете, что у нас есть верхняя палата и нижняя палата, и можно надеяться, что вскоре все население получит избирательное право, а число народных представителей удвоится или утроится. Неужели, по-вашему, недостаточно ошибок против французского языка доносится с национальной трибуны, и депутатов все еще слишком мало для того гнусного дела, к которому они призваны? Не вижу никакой пользы в том, чтобы набить две-три сотни провинциалов в деревянный балаган с росписью г-на Фрагонара на потолке, чтобы они там стряпали на скорую руку уж не знаю сколько убогих законов, то бессмысленных, то жестоких. Какая разница, что вами правит – сабля, кропило или зонтик! Все это разные обличья палки, и меня удивляет, что поборники прогресса занимаются спорами о том, какую дубинку выбрать, чтобы она охаживала их по плечам, хотя куда прогрессивнее и куда дешевле было бы сломать ее, а обломки выбросить ко всем чертям.
Единственный из вас, кто обладает здравым смыслом, – это безумец, гениальный ум, глупец, вдохновенный поэт, намного превзошедший Ламартина, Гюго и Байрона; это обитатель фаланстера Шарль Фурье, сочетающий в себе все, о чем я упомянул; лишь у него одного оказалось достаточно логики и лишь ему хватает отваги развить свои рассуждения до конца. Он без тени сомнения утверждает, что рано или поздно люди обзаведутся хвостом в пятнадцать футов длиной и с глазом на конце; это будет несомненным прогрессом и даст человеку множество новых возможностей, коими он не располагал прежде: без единого выстрела убивать слонов, безо всяких качелей раскачиваться на деревьях не хуже юной макаки и задирать хвост у себя над головой вместо зонтика наподобие султана из перьев, подражая белкам, которые запросто обходятся без этого громоздкого приспособления, а также другие преимущества, которые слишком долго было бы перечислять. Многие поборники фаланстеров уверяют даже, что уже обзавелись хвостиками, которым осталось лишь чуток подрасти, коль скоро Всевышний продлит жизнь их владельцам.
Шарль Фурье выдумал не меньше видов животных, чем великий натуралист Жорж Кювье. Он выдумал лошадей, которые станут втрое больше и сравняются размерами со слонами, собак – величиной с тигров, рыб, которыми можно будет насытить больше народу, чем тремя рыбешками Иисуса Христа, которых недоверчивые вольтерьянцы считают не столько рыбами, сколько утками наподобие газетных, а я – блистательным примером преувеличения. Он выстроил города, рядом с которыми Рим, Вавилон и Тир – убогие муравейники; он нагромоздил Вавилонские башни одну на другую и устремил в поднебесье нескончаемые спирали, превосходящие изображенные на гравюрах Джона Мартина; в своем воображении он создал уж не знаю сколько новых архитектурных орденов и новых кулинарных приправ; он спроектировал театр, который должен стать грандиознее амфитеатров Римской империи, и составил меню, которое, быть может, одобрили бы Луций и Номентан для дружеского обеда; он обещал создать новые наслаждения и развить члены и органы чувств; он намерен сделать женщин красивее и сладострастнее, мужчин сильнее и отважнее; он готов оградить вас от появления потомства и намерен сократить население земли настолько, чтобы никому не было тесно; и это куда разумнее, чем подбивать пролетариев на то, чтобы они плодили себе подобных, а потом расстреливать их из пушек на улицах, когда они чересчур размножатся, и вместо хлеба раздавать им избирательные бюллетени.
Только в таком виде и возможен прогресс. Все прочее – горькая насмешка, плоское фиглярство, которым не проведешь даже самых тупых простофиль.
Фаланстер – это в самом деле прогресс по сравнению с Телемским аббатством: рядом с ним земной рай решительно необходимо признать обветшалым и вышедшим из моды старьем.
С Фаланстером могут успешно соперничать только «Тысяча и одна ночь» и сказки г-жи д‘Онуа. Какая плодовитость! Какая изобретательность! Хватило бы на то, чтобы в наилучшем виде расцветить целый воз романтических или классических поэм; а наши версификаторы, хоть из Академии, хоть нет, – жалкие врали, если сравнивать их с г-ном Шарлем Фурье, изобретателем увлекательных аттракционов. И впрямь, использовать движения, которые доныне все пытались только пресечь, – это, несомненно, возвышенная и могучая мысль.
Ах, вы говорите, что мы прогрессируем! Если завтра на Монмартре разверзнется вулкан, накроет Париж саваном из пепла и погребет его в могиле из лавы, как поступил в свое время Везувий со Стабией, Помпеями и Геркуланумом, и если спустя несколько тысяч лет любители старины произведут раскопки и извлекут на свет тело покойного города; скажите, какой памятник устоит и засвидетельствует былое великолепие усопшего, – собор Парижской богоматери со всей его готикой? Прекрасное мнение составят потомки о нашем искусстве, когда расчистят Тюильрийский дворец, подновленный г-ном Фонтеном! Статуи с моста Людовика XV произведут отменное впечатление, когда их перенесут в музеи того далекого времени! И если не считать картин старых школ да античных и ренессансных статуй, которыми набита длинная бесформенная кишка, называемая галереей Лувра, а также плафона работы Энгра, которые докажут потомкам, что Париж не был поселением варваров, деревней кельтов или топинамбу, то раскопки обнаружат весьма любопытные вещицы. Тесаки солдат национальной гвардии, каски пожарных, неряшливо отчеканенные экю – вот что найдут вместо прекрасного, покрытого затейливой резьбой оружия, которое оставило в недрах своих башен и полуразрушенных гробниц средневековье; вместо медалей, переполнявших этрусские вазы и устилавших фундаменты всех римских построек. Что до нашей убогой фанерованной мебели, всех этих голых, безобразных, пошлых сундуков, именуемых комодами да секретерами, я надеюсь, что время сжалится над всеми этими бесформенными и хрупкими приспособлениями и разрушит их без следа.
В один прекрасный день нас посетила смелая мысль создать величественный и роскошный памятник. Сначала нам пришлось позаимствовать его замысел у древних римлян, и наш Пантеон, не успев даже приблизиться к завершению, скособочился, как рахитичное дитя, и захромал, как мертвецки пьяный инвалид, так что пришлось подпереть его каменными костылями, без чего он растянулся бы во всю длину на земле самым жалким образом и на всеобщее обозрение, – и все народы потешались бы над ним добрую сотню лет… Захотелось нам поместить на одной из наших площадей обелиск; пришлось умыкнуть его из Луксора, причем понадобилось целых два года, чтобы перетащить его домой. Древний Египет окаймлял свои дороги обелисками, как мы свои – тополями; он таскал их туда-сюда охапками, как огородник спаржу, и вырубал цельные глыбы из гранитных скал легче, чем мы отщепляем щепочку, чтобы было чем поковырять в ухе или в зубах. Несколько веков назад у нас был Рафаэль, у нас был Микеланджело; теперь у нас есть г-н Поль Деларош, а все потому, что мы прогрессируем. Вы хвалите Оперу? Десять таких Опер, как ваша, могли бы сплясать сарабанду в римском цирке. Сам г-н Мартен со своим ручным тигром и жалким львом, подагрическим и сонным, как подписчик «Газетт», являет собой плачевное зрелище в сравнении с гладиаторами былых времен. Что ваши бенефисы, затягивающиеся до двух часов пополудни, когда вспоминаешь о представлениях, длившихся дней этак по семь, во время которых некоторые корабли по-настоящему сражались в настоящем море: когда тысячи людей добросовестно кромсали друг друга на куски, – покройся бледностью, героический Франкони! – а потом море отступало, и на его месте появлялась пустыня с рыкающими львами и тиграми, этими ужасающими статистами, выступавшими по одному разу, а главную роль исполнял какой-нибудь дакийский или паннонский атлет, которому зачастую весьма сложно было дотянуть до конца пьесы, и партнершей его выступала прекрасная и три дня не кормленная лакомка-львица? Не кажется ли вам, что слон, пляшущий на канате, затмевает мадмуазель Жорж? Неужто вы полагаете, что мадмуазель Тальони танцует лучше Арбюскулы, а Перро лучше Батилла? Я убежден, что Росций даст сто очков вперед Бокажу при всех достоинствах последнего. Галерия Коппиола выступала в амплуа инженю ста лет от роду! Надо признать по справедливости, что у нас самая пожилая премьерша никак не старше шестидесяти лет и что даже мадмуазель Марс не являет собою, в этом смысле, никакого прогресса. У них были три-четыре тысячи богов, в которых они верили, а у нас только один, в которого мы почти не верим; если это и прогресс, то какой-то сомнительный. Пожалуй, и Юпитер превосходит Дон Жуана мощью, а в искусстве обольщения наверняка заткнет его за пояс. Воистину, понятия не имею, что именно мы изобрели или хотя бы усовершенствовали.
Помимо прогрессивных журналистов и в качестве полной им противоположности существуют еще журналисты пресыщенные; им, как правило, лет по двадцать, от силы по двадцать два от роду, они еще никогда не покидали своего квартала и спали пока только со своими экономками. Этим все наскучило, все их томит, все наводит на них смертельную тоску, они пресыщены, утомлены, равнодушны, недоступны. Они заранее знают все, что вы им скажете; они видели, слышали, чувствовали, испытали все, что возможно увидеть, услышать, почувствовать или испытать; в сердце человеческом не осталось тайных уголков, которых бы они на высветили. Они заявляют вам с неподражаемым апломбом: «Сердце человеческое не таково, таких женщин не бывает, в этом характере нет жизненной правды»; или восклицают: «Ну, вот! Опять любовь и ненависть! Опять мужчины и женщины! Неужели вы не можете рассказать нам о чем-нибудь другом? Мужчина уже исхожен вдоль и поперек, а женщина, с тех пор как в это дело вмешался г-н де Бальзак, – тем более».
Но кто избавит нас от женщин и мужчин?
– Вы полагаете, сударь, что ваша побасенка нова? Она не новей Нового моста: она общеизвестна, как ничто другое; я даже не помню, когда я впервые это прочитал, грудным младенцем или еще раньше; а за последние десять лет мне об этом уши прожужжали… И вообще, сударь, да будет вам известно, нет ничего, о чем бы я не знал, и все мне приелось, и даже будь ваша мысль девственна, как дева Мария, я все равно утверждал бы, что видел, как она на всех углах предлагает себя ничтожным писакам и хилым педантам.








