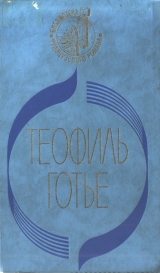
Текст книги "Мадемуазель де Мопен"
Автор книги: Теофиль Готье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
А ведь это были придворные, обладатели отменных манер, и если бы я сама того не видела, мне бы и в голову не пришло заподозрить их в такой фамильярности с трактирными служанками. Весьма возможно, что они недавно расстались с очаровательными любовницами, которым принесли красноречивейшие в мире клятвы; право, мне бы никогда не додуматься до того, чтобы просить моего друга не марать о щеки какой-нибудь Мариторнес губ, которых касались мои губы.
Казалось, негодник получил от этого поцелуя огромное удовольствие, словно целовался с Филлидой или Орианой: то был смачный поцелуй, основательный и откровенный, оставивший на пылающей щеке распутной девахи два белых пятнышка, след от которых она утерла тыльной стороной ладони, еще недавно полоскавшей посуду. Не думаю, чтобы этот человек когда-нибудь отпускал такие непритворно нежные поцелуи непорочной богине своего сердца. По-видимому, он и сам подумал о том же, потому что пробормотал вполголоса, презрительно передернув плечом:
– К черту тощих женщин и великие чувства!
Похоже, что это мнение разделяли все собравшиеся, – все головы кивнули в знак согласия.
– Право слово, – подхватил другой, развивая его мысль, – мне кругом не везет. Господа, я должен под строжайшим секретом признаться вам, что я, ваш товарищ, охвачен страстью.
– Ого! – воскликнули остальные. – Охвачен страстью! До чего зловещее признание! Что еще за страсть?
– К порядочной женщине, господа; не надо, господа, смеяться; в конце концов, почему я не могу связаться с порядочной женщиной? Разве я сказал что-то смешное? Эй, ты, потише там, перестань, или сейчас у тебя искры из глаз посыплются.
– Ладно! Дальше!
– Она от меня без ума; это прекраснейшая душа в мире; право, в душах-то я разбираюсь уж, по крайней мере, не хуже, чем в лошадях, и ручаюсь вам, что душа у нее – лучше некуда. Тут тебе и воспарение, и самозабвение, и преданность, и жертвы, и утонченная нежность – словом, все самоед возвышенное, что только можно вообразить; но грудь у ней почти незаметна; в сущности, вообще нет груди, как у пятнадцатилетней девочки. В остальном она недурна; рука изящная, нога маленькая, но ума с избытком, а плоти недостает, и меня разбирает охота удрать от нее подальше. Какого черта мы не ложимся в постель с умом? Я в большом горе, пожалейте обо мне, милые друзья. – И, размягчившись от выпитого, он заплакал навзрыд.
– Если ты горюешь оттого, что спишь с сильфидами, Жаннетта утешит тебя, – сказал сосед, наливая ему стакан до краев. – У нее душа такая толстая, что хватило бы матерьяла на несколько тел, а уж плоти в ней столько, что найдется, чем облечь кости трех слонов.
О невинная и благородная женщина! Знала бы ты, что говорит о тебе ни с того ни с сего в кабаке случайным знакомым человек, которого ты любишь больше всего на свете и ради которого пожертвовала всем! Как бесстыдно он тебя раздевает и как нагло выставляет тебя, обнаженную, напоказ перед затуманенными вином взглядами собутыльников, а ты в это время грустишь, подперев рукой подбородок, и не сводишь глаз с дороги, по которой он должен вернуться!
Приди к тебе кто-нибудь и скажи, что твой любовник через какие-нибудь сутки после расставания с тобой приударяет за грязной служанкой и сговорился провести с ней ночь, ты бы объявила, что это невозможно, и не пожелала в это поверить; ты даже решила бы, что глаза и уши тебя обманывают, а между тем это правда.
Еще некоторое время продолжался самый что ни на есть сумасбродный и бесстыдный разговор; но сквозь шутовские преувеличения, сквозь остроты, подчас зловонные, просвечивало искреннее и исключительно глубокое чувство презрения к женщине, и я за один вечер узнала об этом более, чем если бы прочла целый воз сочинений моралистов.
Чудовищные и немыслимые речи, кои я слышала, омрачили мое лицо тенью суровости и печали, что не укрылось от моих собеседников, которым захотелось во что бы то ни стало меня развеселить; но хорошее настроение не возвращалось ко мне. Я и прежде подозревала, что мужчины не таковы, какими предстают перед нами, но не думала, что они настолько отличаются от масок, которые носят, и мое изумление было сравнимо лишь с моим отвращением.
Чтобы полностью исправить чересчур романтическую девицу, я желаю ей провести всего полчаса, слушая подобные разговоры: это поможет ей больше, чем все материнские выговоры.
Одни хвастались, что у них столько женщин, сколько они пожелают, – стоит лишь слово сказать; другие обменивались рецептами завоевания женских сердец или рассуждали о тактике улавливания добродетели в западню; некоторые высмеивали своих любовниц и называли себя величайшими дураками на земле, коль скоро дали обвести себя вокруг пальца подобным грязнухам. Любовь все ценили весьма дешево.
Итак, вот мысль, которую они прячут от нас под множеством очаровательных уловок! Кто бы мог подумать, видя, какие они смиренные, как пресмыкаются, как готовы на что угодно! Ах, стоит им одержать победу, и до чего же надменно вскидывают голову, как дерзко опускают каблук сапога прямо на тот самый лоб, которому недавно поклонялись коленопреклоненно, издали! Как мстят они за свое мимолетное унижение! Как дорого приходится расплачиваться за их учтивость! И сколькими оскорблениями вознаграждают они себя за прежние мадригалы! Какая оголтелая грубость и в языке, и в мыслях! Какая разнузданность манер и поведения! Во всем полная перемена – причем не к их выгоде! Многое я предвидела, но предчувствиям моим было весьма далеко до того, что оказалось на самом деле.
Идеал, голубой цветок с золотой сердцевинкой, ты, что расцветаешь, осыпанный жемчугами росы под весенним небосводом, под благоуханным дыханием зыбких грез, ты, чьи волокнистые корни в тысячу раз нежнее и тоньше, чем шелковые косы фей, погружаются в глубь нашей души тысячью своих ворсистых головок, чтобы напиться чистейшего эликсира; цветок столь нежный и столь горький, что если тебя сорвать, все закоулки сердца начинают кровоточить, а сломанный стебель покроется алыми каплями, которые, падая одна за другой в озеро наших слез, помогают нам измерить еле плетущиеся часы последнего бдения у постели агонизирующей Любви.
Ах, проклятый цветок, как ухитрился ты прорасти в моей душе! Твои побеги расплодились там пуще, чем крапива среди развалин. Юные соловьи прилетали попить из твоего венчика и попеть в твоей тени; бриллиантовые бабочки с изумрудными крылышками и рубиновыми глазами порхали и плясали вокруг твоих хрупких пестиков, покрытых золотой пудрой; рои золотистых пчел доверчиво сосали твой отравленный мед; химеры расправляли свои лебединые крылья и скрещивали на прекрасной груди свои львиные когти, чтобы передохнуть близ тебя. Дерево Гесперид – и то не охранялось бдительней; сильфиды собирали слезы звезд в урны-лилии и каждую ночь поливали тебя из этих волшебных сосудов. Идеальное растение, более ядовитое, чем мансенилла и анчар, – во что бы то ни стало, несмотря на твои обманчивые цветы и отраву, источаемую твоим ароматом, я вырву тебя из своей души! Ни ливанский кедр, ни исполинский баобаб, ни пальма высотой в сотню локтей – даже все они вместе не в силах заполнить место, которое занимал ты один, маленький голубой цветок с золотой сердцевинкой!
Наконец, ужин окончился и наступило время сна, но постояльцев оказалось вдвое больше, чем постелей, из чего следовала необходимость либо спать по очереди, либо улечься по двое на каждую кровать. Для всех прочих это было самое обычное дело, но только не для меня, если помнить о некоторых выпуклостях, кои вполне скрывались под камзолом и курткой, но простая сорочка обнаружила бы их во всей их треклятой округлости; и я, разумеется, вовсе не была расположена раскрыть свое инкогнито на радость кому-нибудь из этих господ, которые представлялись мне самыми истинными и непритворными чудовищами; позже многие из них оказались славными малыми, ничуть не худшими, чем все прочие люди такого склада.
Тот, с кем предстояло разделить ложе, был в достаточной мере пьян. Он свалился на тюфяк, свесив одну ногу и одну руку до самой земли, и тут же заснул не сном праведника, а сном таким крепким, что приди архангел звать его на Страшный суд и протруби ему в самое ухо – он и то не проснулся бы. Такой сон весьма упрощал мою задачу; я сняла лишь куртку и сапоги, перебралась через спящего и растянулась на простынях ближе к стенке.
Итак, я спала с мужчиной! Недурное начало, нечего сказать! Признаюсь, что я хоть и чувствовала себя в полной безопасности, но ощутила какое-то странное волнение и смущение. Все это было так необыкновенно и так ново – я насилу могла поверить, что это не сон. Сосед мой сладко спал, а я всю ночь не сомкнула глаз.
Мой сосед был молодой человек лет двадцати четырех, с весьма недурной физиономией, черными ресницами и почти белокурыми усами; его длинные волосы разметались подобно потоку, изливающемуся из урны источника, сквозь бледность его щек брезжил легкий румянец, как облачко – сквозь толщу дождя, губы его были полураскрыты и улыбались смутной и тонкой улыбкой.
Я приподнялась на локте и долго смотрела на него в колеблющемся свете оплывшей свечи, утопавшей в пухлых лепешках растопленного сала, с фитилем, покрытым черным нагаром.
Между нами оставалось изрядное расстояние. Он занимал самый край кровати, я в избытке осторожности сдвинулась как можно ближе к другому краю.
Разумеется, услышанное мною не слишком-то способствовало тому, чтобы расположить меня к неге и сладострастию: мужчины внушали мне ужас. Однако я чувствовала себя более взволнованной и возбужденной, чем следовало: тело мое не разделяло в должной мере отвращения, коим был охвачен ум. Сердце мое сильно билось, мне было жарко, я ворочалась с боку на бок, но никак не могла обрести покой.
На постоялом дворе царила полная тишина; лишь изредка слышался глухой стук: то одна из лошадей била копытом в пол конюшни, а иногда капля воды падала в пепел очага из трубы. Свеча догорела до самого конца фитиля, задымилась и угасла.
Между мною и моим соседом, подобно занавеси, простерлась густая тьма. Ты не можешь себе вообразить, какое впечатление произвел на меня погасший огонь. Мне почудилось, что все кончено, и я более не увижу света до конца дней своих. На мгновение мне захотелось встать, но что бы я стала делать? Было только два часа ночи, все огни погашены, и не могла же я блуждать, как привидение, по незнакомому дому. Мне оставалось только лежать на месте и ждать рассвета.
Я растянулась на спине, скрестив на груди руки, и попыталась сосредоточиться на какой-нибудь мысли, но в голову мне лезло одно и то же: я сплю с мужчиной, мне чуть ли не хотелось, чтобы он проснулся и заметил, что я женщина. Этой необычной мысли наверняка весьма способствовало выпитое мною – хоть и в умеренных количествах – вино, но, как бы то ни было, она возвращалась ко мне снова и снова. Я готова уже была протянуть к спящему руку, разбудить его и сказать, кто я такая. Но тут рука моя запуталась в складках одеяла, и это помешало мне довести затею до конца: у меня оказалось время подумать, и пока я высвобождала руку, рассудительность отчасти вернулась ко мне, и до меня дошло, что я гублю себя безвозвратно.
Не правда ли, весьма любопытно, что я – та прекрасная недотрога, которая была намерена лет десять изучать мужчину, прежде чем протянуть ему руку для поцелуя, – я чуть было не отдалась на постоялом дворе, на скверной постели, первому встречному! И право же, я была на волосок от этого.
Неужели внезапная лихорадка, кипение в крови может до такой степени опрокинуть самые возвышенные намерения? Неужели голос плоти звучит громче, чем голос духа? Всякий раз, когда моя гордыня заносится слишком уж высоко, я, чтобы спустить ее на землю, утыкаю ее носом в воспоминания о той ночи. Я начинаю соглашаться с мужчинами: как жалка и ничтожна женская добродетель! И, Боже ты мой, от чего только она зависит!
Ах, напрасно мы мечтаем расправить крылья, слишком много тины на них налипло; тело – это якорь, который гнетет душу к земле: напрасно она разворачивает паруса по ветру самых возвышенных идей – корабль остается недвижен, словно его киль упирается во все помехи, какие есть в океане. Природа любит подстраивать нам такие каверзы. Чуть завидит она некую мысль, взгромоздившуюся на высокую колонну собственной гордыни и почти касающуюся головой небес, – тут-то она и приказывает потихоньку красной жидкости ускорить свой ток и прихлынуть к вратам артерий; она велит ей стучать в висках, гудеть в ушах, и вот уже высокомерную мысль охватывает головокружение; перед глазами у нее все сливается и путается, земля под ногами ходит ходуном, как палуба барки в бурю, небо кружится, как юла, а звезды танцуют сарабанду; и вот уже губы, изрекавшие прежде лишь строгие истины, складываются и вытягиваются трубочкой, словно для поцелуя, а руки, умевшие отталкивать с такой силой, теряют упругость и делаются мягкими и цепкими, как две половинки шарфа. Добавьте к этому соприкосновение с кожей другого человека, шорох чужого дыхания в ваших волосах, и вы пропали. Часто столь многого даже не требуется: аромат лугов, проникающий к вам сквозь полуоткрытое окно, вид двух пташек, целующихся клювами, распустившаяся маргаритка, старинная песня о любви, преследующая вас помимо вашей воли, так что вы напеваете ее, не вдумываясь в смысл, теплый ветер, который опьяняет и смущает вас, мягкость вашей кровати или кушетки – достаточно одного из этих условий; само уединение вашей спальни твердит вам, что хорошо было бы очутиться здесь вдвоем и что это, в сущности, самое очаровательное гнездышко для целого выводка наслаждений. Задернутые шторы, полумрак, тишина – все наводит на роковую мысль, которая легко задевает вас своими соблазнительными голубиными крылами и тихонько воркует вокруг вас. Ткани, касаясь вашей кожи, словно ласкают вас и любовно льнут всеми своими складками к вашему телу. И девушка открывает объятия первому же лакею, с которым осталась наедине; философ оставляет страницу недописанной и, укутав лицо плащом, летит во всю прыть к той куртизанке, которая живет ближе других.
Разумеется, я не любила этого человека, причинившего мне такие странные волнения. Единственное его очарование заключалось в том, что он не был женщиной, а мне, в моем состоянии, было этого достаточно. Мужчина! Таинственное существо, которое так прилежно от нас прячут, диковинный зверь, чья история так мало нам известна, бес или бог, единственный, кто может воплотить непонятные сладострастные мечты, которыми убаюкивает нас весна, единственная мысль, что владеет нами, едва нам стукнет пятнадцать лет!
Мужчина! Смутные мысли о наслаждении теснились в моей одуревшей голове. То немногое, что я знала, еще сильнее распаляло мои желания. Жгучее любопытство подстрекало меня раз и навсегда рассеять сомнения, которые смущали меня и непрестанно сверлили мой мозг. Решение задачи было написано на обороте страницы, стоило лишь перевернуть ее, а книга лежала рядом со мной. Кавалер был достаточно хорош собой, кровать достаточно узка, ночь достаточно темна! – а тут еще девушка, у которой шумит в голове после нескольких бокалов шампанского! Какое опасное сочетание! Так вот – из всего этого не вышло ровным счетом ничего.
В стене, на которую были устремлены мои глаза, я начала сквозь редевшую тьму различать место, где находилось окно; стекла делались уже не столь непроницаемы, и серый утренний свет, сочившийся снаружи, вернул им прозрачность; небо понемногу прояснилось; стало светло. Ты не представляешь себе, какую радость принес мне этот бледный луч на зеленых обоях из омальской саржи, окружавших славное поле сражения, где добродетель моя восторжествовала над моими желаниями! Этот луч был для меня короной, венчавшей мою победу.
Что до моего соседа, то он окончательно свалился на пол.
Я встала, поскорей привела себя в порядок и бросилась к окну; я распахнула его, и утренний ветерок меня освежил.
Я подошла к зеркалу, чтобы причесаться, и удивилась собственной бледности: мне-то казалось, что я вся горю.
Тут вошли остальные, желая знать, проснулись ли мы, и пинками разбудили своего приятеля, который, казалось, не слишком удивился, обнаружив, что лежит на полу.
Оседлали коней, и мы пустились в путь. Но хватит на сегодня: перо мое затупилось, а чинить его мне неохота; в другой раз я доскажу тебе остальные мои приключения; а покуда люби меня, как я тебя, грациозная моя Грациоза, и после всего, что я тебе поведала, не суди слишком строго о моей добродетели.
Глава одиннадцатая
Много есть скучного на свете: скучно отдавать деньги, которые вы взяли взаймы и уже привыкли считать своими; скучно ласкать сегодня женщину, которую любили вчера; скучно приезжать в гости в обеденное время и узнавать, что хозяева месяц тому назад отбыли в деревню; скучно писать роман, а еще скучнее его читать; скучно обнаруживать прыщ на носу и трещинку на губе в день, когда собрался нанести визит кумиру своего сердца; скучно быть обутым в сапоги, позабывшие о всякой сдержанности и ухмыляющиеся булыжнику всеми своими швами, а еще скучнее тщетно шарить по пустому пространству собственных карманов; скучно быть привратником, скучно быть императором; скучно быть самим собой и даже кем-нибудь другим; пешком передвигаться скучно, потому что натираешь мозоли, верхом – потому что отбиваешь себе место, противоположное голове, в карете – потому что какой-нибудь толстяк непременно превратит ваше плечо в подушку, на пакетботе – потому что страдаешь морской болезнью и испытываешь такую тошноту, что в пору наизнанку вывернуться; скучно зимой, потому что от холода пробирает дрожь, а летом – потому что обливаешься потом; и все-таки на земле, в преисподней и в небесах нет ничего скучнее трагедии, разве что комедия или драма.
Меня от этого в буквальном смысле слова мутит. Что может быть глупее и бессмысленнее? Эти жирные, втиснутые в трико телесного цвета тираны с зычными голосами, мыкающиеся по сцене от кулисы к кулисе и размахивающие волосатыми руками, как мельничными крыльями, – ну чем не убогие подделки под Синюю Бороду или буку? От их бахвальства надорвется со смеху каждый, кто сумеет не уснуть. Несчастные влюбленные дамы бывают не менее смехотворны. Занятно все-таки видеть, как они входят, одетые в черное или в белое, и плакучие волосы струятся им на плечи, и плакучие рукава хлопают вокруг запястий, и телеса вот-вот выскочат из корсета, как мякоть из плода, если сдавить его пальцами; подошвы их атласных туфелек на каждом шагу словно прилипают к полу, а в бурном порыве страсти они отпихивают шлейф назад незаметным ударом каблучка. Диалог, состоящий исключительно из ахов и охов, из кудахтанья, которое они испускают, выгибаясь колесом, проглатывается с удовольствием и вполне удобоварим. Их прекрасные принцы также очаровательны, разве только чересчур угрюмы и меланхоличны, что не мешает им быть самыми желанными воздыхателями во всем мире и за его пределами.
Что до комедии, каковая призвана исправлять нравы, но, по счастью, весьма скверно выполняет свои обязанности, то, на мой взгляд, клятвы отцов и нудность дядюшек на театре не менее убийственны, чем в жизни. Я не считаю, что следует удваивать число дураков, выводя их на сцену; и так уже, благодарение Богу, их вполне достаточно и роду их не грозит оскудение. Что за нужда изображать портрет человека со свиным рылом или воловьей мордой и коллекционировать глупости деревенщины, которого вышвырнули бы в окно, вздумай он к вам явиться? Изображение педанта ничуть не занимательнее, чем сам педант, и даже если мы видим его лицо в зеркале, он от этого не перестает быть педантом. Актер, которому в совершенстве удалось скопировать позы и манеры какого-нибудь тупицы, позабавит нас не больше, чем настоящий тупица.
Но есть театр, который мне по душе: это фантастический, ошеломляющий, небывалый театр и почтенная публика освистала бы в нем первую же сцену, не поняв в ней ни слова.
Это очень странный театр. Вместо кинкетов в нем светлячки; у пюпитра жук-скарабей отбивает такт своими усиками. Свою партию ведет сверчок, первая флейта – соловей; крошечные сильфы, выпорхнувшие из душистого горошка, держат между хорошеньких, белых, как слоновая кость, ножек контрабасы из лимонной кожуры и вовсю водят смычками, изготовленными из ресниц Титании, по струнам-паутинкам; паричок с тремя рядами буклей на голове у жука-дирижера трепещет от удовольствия и рассыпает вокруг светоносную пыльцу – до того сладостны созвучия и до того безупречно звучит увертюра!
После трех положенных ударов гонга медленно поднимается занавес, сшитый из крылышек бабочек, более тонкий, чем пленка внутри яичной скорлупы. Залу заполнили души поэтов, восседающие на жемчужно-перламутровых креслах; они смотрят представление сквозь капельки росы, укрепленные на золотых пестиках лилий, – это их лорнеты.
Декорации не похожи ни на какие известные доныне декорации; страна, которую они изображают, известна менее, чем Америка до ее открытия. Самая богатая палитра художника не содержит и половины тех тонов, которые их испещряют: они расписаны причудливыми, небывалыми красками; здесь явно не пожалели медной зелени, медной же лазури, ультрамарина, желтого и красного лака.
Небо бирюзовой синевы исполосовано широкими лентами то белесого, то ржавого цвета; на втором плане тоненькие и хрупкие деревца качают кружевной листвой цвета увядшей розы; даль, вместо того чтобы утопать в лазурном тумане, окрашена в нежно-зеленые тона, тут и там прорезанные струйками золотистого дыма. Случайный луч скользит по фронтону полуразвалившегося храма или тянется к шпилю башни. Города, полные колоколенок, пирамид, соборов, аркад и лестниц, расположились на холмах и отражаются в хрустальных озерах. Рослые деревья с широкими листьями, которым ножницы фей придали затейливую форму, переплетаются узловатыми стволами и ветвями, образуя кулисы. Тучки в небе собираются над их головами, как снежные хлопья, и в их просветах поблескивают глаза карликов и гномов, а извилистые корни уходят в землю подобно исполинским пальцам. Зеленый дятел мерно стучит по стволу крючковатым клювом, а изумрудные ящерицы греются на солнышке у подножия.
Гриб смотрит комедию, не снимая шляпки, – такой нахал! – а крошечная фиалка привстает на цыпочки между двух былинок и таращит синие глазки, чтобы увидеть героев, расхаживающих по сцене.
Снегирь и коноплянка свешиваются с ветвей, суфлируя актерам.
В густой траве, среди зарослей багровеющего чертополоха и бархатных листьев лопуха, серебряными ужами вьются ручейки слез, пролитых затравленными оленями; вдали там и тут сверкают на лугу анемоны, похожие на капельки крови, и важничают маргаритки, увенчанные жемчужными коронами, как настоящие герцогини.
Действующие лица не принадлежат никакой эпохе, никакой стране; они приходят и уходят невесть почему и невесть зачем; он не едят и не пьют, нигде не живут и не занимаются никаким ремеслом; нет у них ни земли, ни ренты, ни дома, только иногда они носят под мышкой ларчик, полный бриллиантов величиной с голубиное яйцо; проходя, они не стряхнут и капли дождя из цветочной чашечки и не взметнут ни единой пылинки на дороге.
Одеяние на них самое экстравагантное и самое фантастическое на свете. Шляпы, островерхие, как колокольни, с широченными, как китайские зонтики, полями и перьями небывалой величины, выдранными из хвоста райской птицы или феникса; яркие полосатые плащи, бархатные и велюровые камзолы, сквозь прорези которых, отделанные галуном, видна подкладка из атласа или серебряной парчи; короткие штаны, пышные и раздувающиеся, как воздушные шары; алые чулки с вышивкой по краям, башмаки с высокими каблуками и пышными бантами, хрупкие шпажонки, болтающиеся острием вверх и рукоятью вниз, все в ленточках и бантиках, – это у мужчин. Женщины разряжены не менее занятным образом.
Об их экипировке можно получить представление по рисункам Делла Белла и Ромейна де Хоха; это богато отделанные платья, струящиеся пышными складками; они переливаются, как голубиные горлышки, и играют всеми мимолетными цветами радуги; тут и широкие рукава, из-под которых выглядывают другие рукава, и гофрированные воротники из ажурных кружев, вздымающиеся выше головы, коей они служат рамой, и корсажи, перегруженные бантами и вышивкой, шнуровки, причудливые драгоценности, эгретки из перьев цапли, ожерелья из крупного жемчуга, веера из павлиньих хвостов с зеркальцами посредине, туфельки без задников и башмачки на толстенной подошве, гирлянды искусственных цветов, блестки, газ, расшитый серебряной и золотой канителью, румяна, мушки и все, что сообщает пряный и пикантный оттенок театральным костюмам.
Эти наряды, собственно, не в английском духе и не в немецком, не во французском, не в турецком, не в испанском и не в татарском, хотя понемногу напоминают обо всех этих странах и в каждой позаимствовали самое изящное и самое характерное. Одетые таким образом актеры могут произносить все, что угодно, не нарушая правдоподобия. Фантазия вольна устремляться в любую сторону, стиль может всласть разворачивать свои пестрые кольца подобно ужу, греющемуся на солнышке; самые что ни на есть экзотические изыски ума вольны без опаски распускать свои причудливые лепестки и распространять вокруг аромат амбры и мускуса. Ничто этому не препятствует, ни место действия, ни имена, ни костюмы.
Как занятно и как очаровательно то, что они декламируют! Уж эти-то прекрасные актеры не станут, как драматические крикуны, кривить рот в гримасе и таращить глаза, чтобы поэффективнее выпалить тираду; равно не напускают они на себя и вид изнуренных работяг, волов, которые впряглись в действие и поскорее влекут его к концу; они не перемазаны слоем мела и румян толщиною в полдюйма; они не носят жестяных кинжалов и не прячут на всякий случай под накидками свиных пузырей, полных куриной кровью; они не потрясают все теми же засаленными лохмотьями на протяжении целых пяти актов.
Говорят они не спеша, без крику, как люди из хорошего общества, не придающие большого значения тому, что делают; влюбленный объясняется своему кумиру в любви с самым что ни на есть беспечным видом; в разгар болтовни он хлопает себя по ляжке кончиком перчатки или поправляет себе кружево коленом. Дама рассеянно стряхивает росу со своего букета или вместе с горничной занимается рукоделием; влюбленный весьма мало заботится о том, чтобы растрогать жестокую; главная его цель – сорвать с ее уст россыпи жемчужин и охапки роз и с истинной расточительностью разбросать кругом сокровища поэзии; часто он даже совсем уходит на задний план и предоставляет автору ухаживать за своей возлюбленной вместо себя. Ревность не входит в число его недостатков, и нрав у него самый покладистый. Воздев глаза к парящим в воздухе полотнищам и театральным фризам, он любезно ждет, покуда поэт выскажет то, что промелькнуло в его воображении, а потом уж вновь подхватывает свою роль и опускается на колени.
Все завязывается и развязывается с восхитительной безалаберностью; следствия совершенно беспричинны, а причины не приводят к следствиям; самое остроумное действующее лицо изрекает более всего глупостей; самое глупое высказывается остроумнее всех; юные девушки ведут речи, от которых закраснелись бы куртизанки; куртизанки изрекают высоконравственные сентенции. Самые неслыханные приключения следуют одно за другим, не получая никакого истолкования; благородный отец мчится из Китая в бамбуковой джонке только затем, чтобы признать свою похищенную дочку; боги и феи только и делают, что снуют вверх и вниз в колесницах. Действие погружается в море под топазовый купол волн и блуждает по океанскому дну в коралловых и мадрепоровых лесах, или взвивается к небу на крыльях жаворонка и грифона. Диалог носит самый общий характер; в нем участвует лев, испуская мощные ахи и охи; стена говорит своими расщелинами, и кто угодно имеет право прервать самую интересную сцену, лишь бы у него были припасены для этого подходящая острота, ребус или каламбур: ослиную голову Основы ждет такой же благосклонный прием, как белокурую голову Ариэля; остроумие автора обнаруживается в какой угодно форме; и все эти противоречия подобны граням, отражающим разные стороны его таланта, добавляя им все цвета, играющие в призме.
Эти явные беспорядок и неразбериха в конечном счете ухитряются передать реальную жизнь в ее фантастической ипостаси точнее, чем добротнейшая нравоописательная драма. Каждый человек заключает в себе все человечество, и если он пишет все, что приходит ему в голову, то добивается большего успеха, чем копируя под лупой предметы, существующие вне его.
О прекрасное семейство! Юные романтические воздыхатели, барышни-путешественницы, услужливые субретки, язвительные шуты, простоватые лакеи и поселяне, добродушные короли, чьи имена неведомы историку, а королевства – географу, буффоны в пестрых трико, клоуны с метким ответом и с головокружительным прыжком наготове, все вы, чьими улыбчивыми устами вещает свободный каприз, – люблю вас, обожаю вас больше всех и превыше всех: Пердита, Розалинда, Селия, Пандар, Пароль, Сильвий, Леандр и другие, все эти обольстительные персонажи, такие лживые и такие искренние, вы, что на радужных крыльях безумия воспаряете высоко над реальностью, вы, в ком поэт видит самое заветное олицетворение радости, меланхолии, любви и мечты, таящиеся под самой фривольной и беспечной оболочкой!
Среди этих пьес, которые пишутся для фей и разыгрываются при лунном свете, есть одна – она-то меня главным образом и пленяет; пьеса эта такая бродячая, такая кочевая, интрига в ней так туманна, а характеры так причудливы, что сам автор, не зная, как ее озаглавить, дал ей название «Как вам это понравится» – название растяжимое и подходящее к чему угодно.
Читая эту странную пьесу, переносишься в неведомый мир, о котором, правда, сохранил проблески воспоминаний: перестаешь понимать, жив ты или умер, спишь или бодрствуешь; грациозные образы нежно улыбаются и дружелюбно приветствуют тебя мимоходом; при виде их ощущаешь волнение и беспокойство, словно сейчас, вдруг, за поворотом дороги повстречался со своим идеалом или внезапно перед тобой вырос призрак твоей первой возлюбленной. Текут ручьи, лепеча приглушенные жалобы; ветер, сочувственно вздыхая, колеблет ветви дряхлых деревьев старого леса над головой старого герцога-изгнанника, и покуда меланхолический Жак роняет философские сетования, которые уносит течением вместе с листьями ивы, вам чудится, что все это говорите вы сами и что самые тайные и смутные мысли вашего сердца стали ясны и озарились светом.








