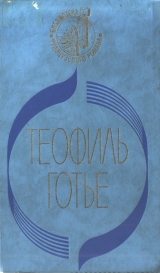
Текст книги "Мадемуазель де Мопен"
Автор книги: Теофиль Готье
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
О юный сын доблестного рыцаря Роланда де Буа, беспощадно гонимый судьбой! Все равно я не в силах тебе не завидовать; у тебя есть верный слуга, славный Адам, чья старость еще столь свежа под снегами седины! Тебя изгоняют, но сначала ты хотя бы изведал борьбу и торжество; твой злобный брат похищает все твое достояние, но Розалинда отдает тебе цепь со своей шеи; ты беден, но ты любим; ты покидаешь родину, но дочь твоего гонителя следует за тобой.
Темные Арденны распахивают свои широколиственные объятия, чтобы принять и укрыть тебя; заботясь о твоем ложе, добрый лес расстилает в глубине своих пещер самый мягкий мох; он склоняет над твоим челом свои своды, чтобы уберечь тебя от солнца и дождя; он выражает тебе свою жалость слезами источников и вздохами ланей и молодых оленей; он превращает свои скалы в удобнейшие пюпитры для твоих любовных посланий; он протягивает тебе колючки своих кустов, чтобы наколоть на них письма, и велит атласной коре своих осин уступить острию твоего стилета, когда тебе вздумается вырезать вензель Розалинды.
Если бы можно было, юный Орландо, подобно тебе иметь про запас обширный тенистый лес, чтобы удалиться туда, уединиться в своем горе, и если бы на повороте аллеи можно было повстречать ту, которую ищешь, – переодетую, но узнаваемую! Увы, мир души – это вам не зеленый Арденнский лес, и лишь на клумбе поэзии расцветают те дикие и капризные цветочки, аромат которых дарует забвение. Напрасно мы проливаем слезы – они не струятся прекрасными серебряными водопадами; напрасно мы вздыхаем – никакое сочувственное эхо не дает себе труд вернуть нам наши пени, украсив их игрой слов и ассонансами. Понапрасну цепляем мы по сонету на колючки каждого ежевичного куста – никогда Розалинда их не получит, и попусту испещряем мы древесную кору возлюбленными вензелями.
Птицы небесные, дайте мне взаймы по перышку каждая – ласточка и орел, колибри и птица Рох, – чтобы я сделал себе пару крыльев и поскорей взмыл в неведомые дали, туда, где ничто не напомнит мне о человеческих селениях, где я смогу забыть, что я – это я, и заживу новой и удивительной жизнью, дальше, чем в Америке, в Африке, в Азии, дальше самого отдаленного островка на земле, за ледяным океаном, по ту сторону полюса, где дрожит северное сияние, в бесплотном королевстве, куда улетают божественные создания поэзии и образы, в которых запечатлена высшая красота.
Как прикажете вытерпеть заурядные разговоры в кружках и салонах после твоих речей, блистательный Меркуцио, чья каждая фраза сверкает золотым и серебряным дождем, словно сноп ракет под усеянным звездами небом? Бледная Дездемона, какую радость, по-твоему, может принести нам вся земная музыка после твоей песенки об иве? Какие женщины не покажутся дурнушками рядом с вашими Венерами, античные ваятели, слагатели мраморных строф?
Ах, как ни пытался я сжать в неистовых объятиях мир материального – за неимением другого, – чувствую, что родился не в добрый час, что жизнь создана не для меня, что она меня отталкивает; я ни за что не могу взяться – какое бы направление я ни избрал, все равно сбиваюсь с пути: и гладкая аллея, и каменистая тропа неизменно ведут меня к пропасти. Если я хочу взлететь, воздух сгущается вокруг меня, и я цепенею с расправленными крыльями, не в силах их сложить. Я не могу ни ходить, ни летать; небо влечет меня, когда я на земле, земля – когда я в небе; в вышине аквилон вырывает у меня перья, внизу булыжники ранят мне ступни. У меня слишком нежные подошвы, чтобы ступать по стеклянным осколкам реальности: размах крыльев слишком узок, чтобы воспарить надо всем и круг за кругом взлететь в бездонную лазурь мистицизма, к неприступным вершинам вечной любви; с тех пор как Океан любит Луну, а женщины морочат мужчин, еще не было в мире более несчастного гиппогрифа, более убогой, состряпанной из разнородных кусков мешанины, чем я; умерщвленная Беллерофонтом чудовищная Химера с головой девы, лапами льва, телом козы и хвостом дракона, была по сравнению со мной существом простым и незамысловатым.
В моей хрупкой груди уживаются вместе усеянные фиалками грезы юной невинной девушки и безумный пыл хмельных куртизанок; мои вожделения рыщут, подобно львам, точат когти во тьме и ищут, кого бы пожрать; мои мысли мечутся беспокойно, как козы, балансируя на краю самых опасных горных хребтов; ненависть моя, вся напитанная отравой, свивает неразрывными узлами свои чешуйчатые кольца и волочится далеко позади меня по рытвинам и колеям.
Душа моя – причудливая страна, на первый взгляд цветущая и роскошная, но более насыщенная гнилостными и смертоносными испарениями, чем Батавия: малейший солнечный лучик, упав на ее ил, вызывает к жизни гадов и плодит москитов; толстые желтые тюльпаны, нагассарисы и цветы ангсоки торжественно прикрывают отвратительную падаль. Влюбленная роза распахивает алые губы, являя в усмешке свои зубки-росинки галантным соловьям, которые читают ей мадригалы и сонеты; ничего нет прелестнее; но можно держать пари на сто к одному, что в траве, под кустом, проползает, припадая на все лапы, раздутая от водянки жаба и серебрит свой путь слюной.
Вот источник, он светлее и прозрачнее бриллианта самой чистой воды, но лучше бы вам было зачерпнуть застоявшейся жижи из болота, в котором плавают гнилые камыши и дохлые собаки, чем окунуть ваш кубок в эту струю. На ее дне прячется змея и с чудовищной быстротой вращается на собственном хвосте, изрыгая яд.
Вы посеяли хлеб – вырастают асфодели, белена, плевелы и бледная цикута, ветви которой покрыты ярью-медянкой. Вы сами посадили в землю корешок и с изумлением видите, как на этом месте вылезают изогнутые мохнатые ножки черной мандрагоры. Оставьте там на время какое-нибудь воспоминание и вернитесь к нему немного погодя – вы обнаружите слой зеленой плесени, а под ним кишение мокриц и омерзительных насекомых, словно это камень, забытый на сыром земляном полу в погребе.
Не пытайтесь пробраться сквозь сумрачные леса моей души; они непроходимее девственных лесов Америки и яванских джунглей; от дерева к дереву тянутся лианы, крепкие, как канаты; острая, как наконечники копий, поросль щетинится и преграждает все пути; даже трава покрыта жгучими ворсинками, как крапива. Под лиственными сводами висят, цепляясь когтями, гигантские летучие мыши из породы вампиров; жуки невиданной толщины поводят своими грозными рогами и рассекают воздух обеими парами крыльев; чудовищные, фантастические животные, подобные тем, что кишат в кошмарах, с трудом пробираются сквозь заросли, ломая тростники. Стада слонов, что давят мух в складках своей иссохшей кожи или чешут себе бока о камни и деревья, носороги, покрытые шишковатыми панцирями, гиппопотамы с одутловатыми, обросшими колючей щетиной мордами ломятся вперед, меся грязь и круша лесные заросли своими толстыми ножищами.
На прогалинах, куда сквозь влажную сырость золотым клином врывается солнце, как только вы набредете на место, где вам захочется присесть, там непременно обнаружится семейство тигров, которые небрежно разлеглись, втягивая ноздрями воздух, щуря глаза цвета морской волны и вылизывая бархатный мех кроваво-красными шершавыми языками; на худой конец там окажется клубок полусонных удавов, переваривающих последнего проглоченного быка.
Опасайтесь всего – травы, плодов, воды, воздуха, тени, солнца – все несет смерть.
Заткните уши, чтобы не слышать стрекотания попугайчиков с золотыми клювами и изумрудными шейками, которые слетают с деревьев и садятся вам на пальцы, трепеща крылышками; эти попугайчики с изумрудными шейками рано или поздно попросту выклюют вам глаза своими очаровательными золотыми клювиками в тот самый миг, когда вы нагнете голову, чтобы их поцеловать. Вот так-то!
Мир не желает меня знать; он отторгает меня, словно выходца из могилы; я и бледен почти как мертвец: кровь моя отказывается верить, что я жив, и не хочет окрашивать мою кожу; она еле-еле тащится по моим венам, словно зацветшая вода по нечищенным каналам. Мое сердце не бьется даже в тех случаях, когда забилось бы сердце у кого угодно. Горести мои и радости – иные, чем у мне подобных. Я страстно возжелал того, что никому не желанно; я пренебрег тем, чего самозабвенно хотят другие. Я любил женщин, когда они меня не любили, и внушал к себе любовь, когда хотел внушить ненависть; и всегда выходило то слишком рано, то слишком поздно, то больше, то меньше, то в ту сторону, то в другую, и вечно не то, что нужно; я или не поспеваю, или оказываюсь чересчур далеко. Я не то вышвырнул свою жизнь в окошко, не то чрезмерно сосредоточил ее на чем-то одном и от беспокойной, суетливой деятельности дошел до угрюмой спячки человека, опьяненного наркотиком, или отшельника на столпе.
Все, что я делаю, всегда похоже на грезу; мои поступки выглядят так, словно вызваны скорее сомнамбулизмом, чем свободной волей; я смутно чувствую, что внутри меня, на большой глубине, есть нечто, понуждающее меня действовать помимо моих желаний и всегда вопреки общим законам; простая и естественная сторона вещей неизменно открывается мне в последнюю очередь, а эксцентрическое и причудливое я схватываю прежде всего; стоит линии чуть-чуть отклониться от прямой, а я уже мигом превращу ее в спираль, извилистую, как змея; если контуры не очерчены с безусловной точностью, они мутнеют и расплываются. В лицах появляется что-то сверхъестественное, а во взглядах зловещее.
И словно инстинктивно борясь с этим, я всегда отчаянно цеплялся за материю, за внешние очертания вещей, и среди искусств огромное место отводил пластическим. Я превосходно понимаю статую, а человека не понимаю; там, где начинается жизнь, я замираю и в испуге пячусь назад, словно увидал голову Медузы. Феномен жизни наполняет меня удивлением, от которого я не в силах оправиться. Из меня, несомненно, получился бы образцовый покойник, потому что как живой человек я никуда не гожусь, и смысл моего существования полностью от меня ускользает. Звук собственного голоса вызывает у меня неописуемое удивление, и подчас меня обуревает соблазн принять этот голос за чей-то чужой. Когда я хочу вытянуть руку, и она мне повинуется, это кажется мне сущим чудом, и я впадаю в глубочайшее изумление.
Зато, Сильвио, я превосходно понимаю непостижимое; самые необычайные сведения представляются мне вполне естественными, и я усваиваю их с удивительной легкостью. Я без труда слежу за развитием самого причудливого и самого неистового кошмара. Вот почему мне больше всех прочих нравятся пьесы в том роде, о каком я тебе сейчас толковал.
Мы с Теодором и Розеттой пускаемся в великие споры об этих материях; Розетте не слишком по вкусу моя система, она стоит за то, что есть на самом деле, Теодор отводит поэту больше пространства и допускает условность наряду с правдоподобием. Я настаиваю на том, что автору следует предоставить полную свободу действий и что фантазия должна быть самодержавной владычицей.
Многие из нашей компании исходили главным образом из того, что подобные пьесы вообще не удовлетворяют условиям сцены и сыграть их нельзя; я отвечал им, что, как почти всякое утверждение, в каком-то смысле и это верно, а в каком-то – нет, и что соображения по поводу возможного и невозможного на подмостках, по-моему, не слишком-то справедливы и внушены скорее предрассудками, чем разумными доводами; между прочим, я сказал, что пьеса «Как вам это понравится» наверняка вполне пригодна для постановки, особенно ежели в ней будут участвовать люди светские, не имеющие привычки к другим ролям.
В результате кто-то предложил ее поставить. Сезон продолжается, а мы уже истощили весь запас увеселений; мы устали от охоты, прогулок верхом и в лодках; как ни переменчива удача, сопутствующая бостону, все же переменчивость эта не столь увлекательна, чтобы занять нас на целый вечер, и предложение было принято при всеобщем энтузиазме.
Один молодой человек, умеющий писать красками, вызвался сделать декорации; теперь он с огромным рвением трудится над ними, и через несколько дней они будут готовы. Сцену возвели в оранжерее, это самая большая зала в замке, и я полагаю, что дело сладится. У меня роль Орландо; Розалинду должна была играть Розетта, это было бы совершенно справедливо: она имела право на эту роль и как моя любовница, и как хозяйка дома; но она не пожелала переодеваться мужчиной, повинуясь какому-то неожиданному для нее капризу, ибо ханжество явно не входит в число ее недостатков. Я подумал бы, что у нее некрасивые ноги, не будь я уверен в обратном. До сих пор ни одна дама в нашем обществе не пожелала оказаться менее щепетильной, чем Розетта, И это едва не заставило нас отказаться от пьесы, но Теодор, который сперва выбрал роль меланхолика Жака, вызвался заменить Розетту, благо Розалинда почти все время, кроме первого акта, выступает в облике юноши и с помощью грима, корсета и женского платья он вполне сможет преобразиться в девушку, поскольку борода у него еще не растет, а талия очень тонкая.
Теперь мы учим роли и представляем собой прелюбопытнейшее зрелище. Во всех уединенных уголках парка вы, без сомнения, найдете кого-нибудь из наших: в руке листок бумаги, губы бормочут текст, глаза то возведены горе, то потуплены долу, а руки по семь-восемь раз кряду воспроизводят один и тот же жест. Не будь заранее известно, что мы собираемся играть комедию, нас бы наверняка приняли за сборище умалишенных или поэтов (что едва ли не плеоназм).
Полагаю, что скоро мы выучим достаточно, чтобы устроить репетицию. По-моему, это будет нечто весьма необычное. Возможно, я и ошибаюсь. Я было испугался, что вместо того чтобы играть по вдохновению, наши актеры примутся копировать позы и модуляции голоса какого-нибудь модного артиста, но, к счастью, они не настолько пристально следят за театральными постановками, чтобы подвергаться такому неудобству, и можно надеяться, что сквозь неловкость людей, ни разу не поднимавшихся на подмостки, у них будут проступать драгоценные вспышки естественности и то чарующее простодушие, которое не в силах воспроизвести самый совершенный талант.
Наш юный живописец воистину совершил чудеса: невозможно было бы придать более причудливые формы стволам древних деревьев и оплетающему их плющу; за образец он взял деревья в парке, но подчеркнул и гиперболизировал их облик, как и нужно для декораций. Все изображено с восхитительной отвагой и восхитительной прихотливостью; камни, скалы, облака словно строят таинственные гримасы; на зыбких и живых, как ртуть, водах, играют сверкающие блики, и обычная прохлада листвы сказочно усилена оттенками шафрана, которые набрасывает на нее кисть осени; лес играет всеми красками от изумрудно-зеленой до сердоликово-пурпурной; самые теплые и свежие тона сопоставлены наиболее гармоническим образом, и даже небо переходит от самой нежной голубизны к самым огненным цветам.
Все костюмы он нарисовал по моим указаниям; они отменно выразительны. Сперва поднялся крик, что их невозможно воплотить ни в шелке, ни в бархате, ни в какой бы то ни было известной материи, и я уже предчувствовал, что все остановятся на костюмах в стиле «трубадур». Дамы говорили, что эти пронзительные цвета лишат их глаза природного блеска. На это мы ответили, что их глаза – воистину неугасимые звезды и, напротив, они, эти глаза, заставят потускнеть не только краски, но и кинкеты, люстру, а при случае и само солнце. На это им нечего было возразить, но, точь-в-точь как у Лернейской гидры, перед нами отрастали и щетинились все новые возражения: не успевали мы снести голову одному, как на его месте являлось другое, еще более упрямое и дурацкое.
– По-вашему, это будет держаться? На бумаге-то все прекрасно, но на человеке будет сидеть совсем по-другому, это никогда на меня не налезет! Моя юбка по меньшей мере на четыре пальца короче положенного, ни за что не осмелюсь щеголять в таком виде! Этот воротник чересчур высок: я в нем какая-то горбатая; кажется, что у меня нет шеи. Эта прическа меня нестерпимо старит.
– Были бы крахмал, булавки да чуть-чуть доброй воли, и все будет держаться… Ну, вы смеетесь! Это ваша-то осиная талия, такая тоненькая, что пройдет сквозь перстенек, который я ношу на мизинце?.. Ставлю двадцать пять луидоров против одного поцелуя, что ваш корсаж еще придется ушивать. – Ваша юбка ни в коей мере не чересчур коротка, и если бы вы сами увидели, какие у вас очаровательные ножки, вы бы со мной согласились… Напротив, в ореоле кружев ваша шейка выделяется и смотрится наиболее выгодным образом… Эта прическа ни капельки вас не старит, но даже если б вы и выглядели в ней на несколько лет постарше, то при вашей крайней молодости вам это должно быть как нельзя более безразлично; право, вы наводили бы нас на самые странные подозрения, если бы нам не было доподлинно известно, где брошены осколки вашей последней куклы… et caetera.
Ты себе не представляешь, какое чудовищное количество мадригалов пришлось нам расточить, дабы уговорить наших дам надеть очаровательные костюмы, которые были им донельзя к лицу.
Кроме того, нам стоило большого труда заставить их надлежащим образом наклеить мушки. Какой у женщин убийственный вкус! И каким титаническим упрямством одержима юная слабонервная щеголиха, воображающая, будто яблочно-соломенный желтый цвет идет ей больше, чем оттенок желтого нарцисса или ярко-розовый. Я убежден, что если бы в делах общественных пустил в ход половину той хитрости и тех интриг, которые ухлопал на то, чтобы укрепить красное перышко не справа, а слева, я стал бы императором или, по меньшей мере, государственным министром.
Каким же пандемониумом, какой огромной безысходной толкучкой должен быть настоящий театр!
С тех самых пор, как затеяли сыграть комедию, весь дом находится в полнейшем беспорядке. Все ящики выдвинуты, все шкафы опустошены; сущий разор! Столы, кресла, консоли – все загромождено вещами; не знаешь, куда ступить: по всему дому валяется чудовищное количество платьев, накидок, вуалей, юбок, плащей, шляп, шляпок; как подумаешь, что все это предназначено облекать тела семи-восьми человек, невольно приходят на ум ярмарочные фигляры, натянувшие на себя по восемь – десять кафтанов одновременно, и невозможно вообразить себе, что изо всей этой горы тряпья выйдет лишь по одному костюму на каждого.
Слуги только и делают, что снуют взад и вперед; двое или трое из них постоянно находятся в пути из замка в город или обратно, и если дальше будет продолжаться в том же духе, они запалят всех лошадей.
Директору театра некогда предаваться меланхолии, и с некоторых пор я перестал быть меланхоликом. Я до того измучен и оглушен, что перестаю понимать что бы то ни было в этой пьесе. Поскольку помимо роли Орландо я исполняю еще и роль импресарио, на меня ложится двойное бремя. Чуть только возникает заминка, все сразу обращаются ко мне, а поскольку мои суждения не всегда принимаются как приговор оракула, то мы увязаем в бесконечных спорах.
Если жить значит быть всегда на ногах, отвечать на двадцать вопросов разом, носиться вверх и вниз по лестнице, ни минуты в день не уделять размышлениям, то я никогда не жил такой полной жизнью, как на этой неделе; однако я принимаю во всем этом кипении не такое уж участие, как можно подумать. Суета моя весьма поверхностна; и если заглянуть на несколько саженей вглубь, то обнаружится стоячая вода, не затронутая ни малейшим течением; жизни не так уж легко меня захватить, и на самом деле именно в такие минуты я живу меньше всего, хоть и кажусь деятельным и вмешиваюсь во все, что творится кругом; деятельность утомляет и отупляет меня до такой степени, что трудно вообразить; когда я не действую, то размышляю или хотя бы мечтаю, что само по себе уже форма существования; я лишаюсь ее, стоит мне отрешиться от невозмутимости фарфорового божка.
До сих пор я ничего не делал и не знаю, буду ли когда-нибудь делать. Я не умею останавливать работу своего мозга, а в этом и состоит разница между гением и талантом: во мне происходит постоянное бурление, волна подгоняет волну; я не в силах обуздать этот внутренний поток, брызжущий от сердца к голове, в котором, лишенные выхода на волю, тонут все мои мысли. Я ничего не способен произвести на свет – не от бесплодия, а от чрезмерного изобилия; мысли мои растут так густо и тесно, что глушат друг друга и не поспевают вызревать. С какою бы неистовою быстротой ни происходило воплощение, ему никогда не достичь такой резвости; пока я пишу фразу, мысль, которую она передает, уже настолько отдаляется от меня, как будто миновала не секунда, а целое столетие, и подчас мне приходится вставлять в нее краешек той мысли, которая сменила у меня в голове предыдущую.
Вот почему я никогда не научусь жить – ни как поэт, ни как любовник. Я могу высказывать лишь те мысли, от которых уже отошел; я обладаю женщиной, лишь когда я уже забыл ее и люблю другую; и как могу я, мужчина, претворить в жизнь свою волю, если, как бы я ни торопился, все равно поступаю не так, как велит мне чувство, и действую скорее по указке смутных воспоминаний?
Добыть идею из залежей собственного мозга, извлечь ее, сперва необработанную, как глыбу мрамора, которую вырубают в карьере, поместить перед собой и с утра до вечера, взяв в одну руку резец, а в другую молоток, стучать, резать, скоблить и похищать у ночи щепотку песка, чтобы бросить ее на свое произведение… Вот уж что никогда мне не удается!
В мыслях я легко извлекаю хрупкую фигуру из грубой глыбы и отчетливо вижу ее перед собой; но столько углов нужно обрубить, столько осколков отбросить, столько поработать резцом и молотком, чтобы приблизиться к форме и уловить те самые изгибы контуров, что на руках у меня выскакивают мозоли, и я роняю резец на пол.
Если же я упорствую, усталость овладевает мною с такой силой, что внутренняя моя жизнь полностью омрачается, и сквозь мраморное облако я более уже не прозреваю божества, притаившегося в его толще. Тогда я принимаюсь гоняться за ним наудачу и словно на ощупь; чересчур вгрызаюсь в один кусок, недостаточно прохожусь по другому; удаляю то, что должно было стать рукой или ногой и оставляю нетронутой плотную массу там, где следовало быть пустоте; вместо богини я творю уродца, а иногда нечто ничтожнее уродца, и великолепная глыба, с такими издержками и таким тяжким трудом извлеченная из недр земли, избитая молотком, искромсанная, испещренная бороздами и вмятинами, выглядит так, словно не ваятель трудился над ней по заранее обдуманному плану, а полипы изгрызли и изъели ее, превратив в подобие улья.
Как удается тебе, Микеланджело, словно ребенку, режущему каштан, отделять от мрамора ломоть за ломтем? Из какой стали был сделан твой непобедимый резец? И чье могучее лоно выносило вас всех, плодовитые и трудолюбивые художники, перед которыми не устоит никакая материя, вы, что всю свою мечту целиком претворяете в цвет и в бронзу?
Тщеславие мое невинно и в какой-то мере простительно после всех жестоких слов, которые я произнес о себе самом, и ты не упрекнешь меня за него, о Сильвио! Но пускай вселенная никогда не узнает об этом, и мое имя заранее обречено на забвение, я все же поэт и живописец! Замыслы мои были прекраснее, чем у любого поэта в мире; я создал такие же чистые, такие же божественные образы, как те, какими мы больше всего восхищаемся у великих мастеров. Вижу их здесь, перед собой, так же ясно, так же отчетливо, как если бы они и впрямь были запечатлены на полотне, и если бы я сумел проделать отверстие у себя в голове и застеклить его, чтобы другие могли заглянуть внутрь, получилась бы прекраснейшая картинная галерея, какой никто еще не любовался. Ни один из царей земных не может похвастать подобным собранием. Там есть Рубенсы, такие же блистательные, такие же пламенные, как лучшие из тех, что хранятся в Антверпене; мои Рафаэли пребывают в отменной сохранности, и никакие рафаэлевские мадонны не улыбаются нежнее тех, что представлены у меня; мышцы, изваянные рукой Буонаротти, нигде не напрягаются столь дерзостно и ужасно; солнце Венеции блистает вон на том холсте так, словно его подписал Paulus Cagliari; фон другого полотна представляют клубящиеся сумерки самого Рембрандта, среди которых, вдали, бледной звездой мерцает огонек; можно не сомневаться: никто не пренебрег бы картинами, исполненными в присущей мне манере.
Прекрасно понимаю, что слова мои производят странное впечатление и что может показаться, будто меня самым грубым образом опьяняет глупейшая гордыня, но дело обстоит именно так, и убеждений моих на сей счет не поколеблет ничто. Разумеется, никто их со мной не разделит, да что ж поделаешь? Все мы с рождения отмечены черной или белой печатью. Моя печать, по-видимому, черная.
Подчас мне даже стоит большого труда как следует скрыть свои мысли на этот счет; нередко случалось мне чересчур фамильярно толковать о великих гениях, чьим следам на земле мы обязаны поклоняться и чьи статуи полагается коленопреклоненно созерцать издали. Однажды я настолько забылся, что произнес: «Мы, великие…» По счастью, моя собеседница не обратила на это внимания, иначе я неизбежно прослыл бы величайшим хлыщом на свете.
Но ведь это правда, Сильвио? Ведь я и поэт, и живописец?
Неправильно думать, что все, прослывшие великими, были в самом деле гениальнее прочих. Кто знает, сколько учеников и безвестных художников, которых Рафаэль привлекал к работе над своими картинами, внесли свою лепту в его славу? Он скрепил своей подписью чужое вдохновение и талант, вот и все.
Великий живописец, великий писатель занимают и заполняют собою целое столетие: для них нет задачи более срочной, чем перепробовать себя одновременно во всех жанрах, чтобы в случае, если какие-нибудь соперники у них все-таки появятся, обвинить этих соперников в плагиате и с первых же шагов задержать их продвижение к успеху; тактика эта известна и неизменно оправдывает себя, даром что не блещет новизной.
Может статься, что некто, уже стяжавший известность, наделен дарованием того же характера, что присуще и вам; под угрозой прослыть его подражателем вам приходится извращать свое первоначальное вдохновение и пускать его по другому руслу. Вы рождены, чтобы во всю мочь трубить в героический рог или чтобы вызывать к жизни бледные тени минувших времен, а вам приходится перебирать пальцами по семи отверстиям свирели или валять дурака на софе в глубине какого-нибудь будуара – и все потому, что ваш почтенный батюшка не удосужился испечь вас лет на восемь – десять пораньше, и потому, что человечество не представляет себе, как это два человека могут возделывать одно и то же поле.
Вот так-то многие возвышенные умы бывают вынуждены избирать заведомо чуждую им стезю и упорно обходить стороной угодья, принадлежащие им по праву, из которых они, однако, изгнаны и радуются, когда им удается украдкой бросить туда взгляд поверх изгороди и подглядеть, как по ту сторону распускаются на солнце прекрасные пестрые цветы, семенами которых они владеют, да не могут их высадить за неимением земли.
Что до меня, то, если не брать в расчет более или менее благоприятных обстоятельств, избытка или недостатка воздуха и света, ворот, которые должны были распахнуться, а остались на запоре, какой-то несостоявшейся встречи, каких-то людей, с которыми мне следовало, да так и не удалось познакомиться, я понятия не имею, чего бы мне удалось добиться.
Я не наделен ни глупостью в той мере, которая необходима так называемому бесспорному гению, ни титаническим упрямством, которое впоследствии, когда великий человек уже добрался до сияющей вершины, обожествляют под божественным именем воли, тем упрямством, без которого вершина эта остается недостижима; мне настолько хорошо известно, как пусто и какой порчей проникнуто все, окружающее нас, что я не в силах недолго привязываться к чему бы то ни было и наперекор всему пламенно и упорно добиваться своей цели.
Гениальные люди здесь весьма ограниченны, потому-то они и гениальны. Узость ума мешает им замечать препятствия, отделяющие их от вожделенной цели; они пускаются в путь и в два-три шага покрывают расстояние, простирающееся между ними и этой целью. Поскольку их рассудок упорно сопротивляется некоторым влияниям, и поскольку подмечают они только то, что теснее всего связано с их планами, то и мысленных, и физических усилий они затрачивают куда меньше: ничто их не отвлекает, не сбивает с толку, действуют они скорее по наитию, и многие из них, если извлечь их из профессиональной сферы, оказываются настолько ничтожны, что в это трудно поверить.
Безусловно, сочинять хорошие стихи – редкостный и пленительный дар; мало кто находит в поэтических творениях более радости, чем я; однако я не желаю ограничивать свою жизнь, втискивая ее в двенадцать стоп александрийского стиха; тысяча других вещей волнуют меня не меньше, чем полустишие: я имею в виду не состояние, в коем пребывает общество, и не реформы, которые необходимы; меня очень мало заботит, умеют крестьяне читать или нет, едят люди хлеб или щиплют траву; но в голову мне за какой-нибудь час приходит более ста тысяч видений, не имеющих ни малейшего отношения ни к цензуре, ни к рифме, и вот потому-то я пишу так мало, хотя идей у меня больше, чем у иных поэтов, которых следовало бы сжечь вместе с их творениями.
Я поклоняюсь красоте и умею ее чувствовать; я могу описать ее не хуже, чем самые страстные ваятели – а между тем я не занимаюсь ваянием. Уродство и несовершенство наброска бесят меня; я не могу ждать, пока статуя станет хороша после бесконечной полировки; решись я оставить после себя что-то из произведений, над которыми тружусь, будь то поэзия или живопись, я в конце концов, возможно, создал бы стихотворение или картину, которые бы меня прославили, и тем, кто меня любит (если кто-нибудь в мире дает себе труд меня любить), не приходилось бы верить мне на слово: у них был бы наготове неотразимый ответ на все сардонические усмешки хулителей столь великого безвестного гения, коим являюсь я.
Я вижу много людей, которые берут палитру, кисти и покрывают полотно красками, не заботясь ни о чем, кроме того, что рождается на кончике их кисти под влиянием прихоти; видел и таких, которые пишут сотню стихотворных строк подряд без единой помарки и ни разу не подняв глаза к потолку. И даже если я подчас не восхищаюсь их произведениями, я восхищаюсь самими этими людьми; от всего сердца завидую их очаровательной неустрашимости и счастливому ослеплению, которые мешают им видеть собственные недостатки, даже самые заметные. Я, стоит мне сплоховать в рисунке, мгновенно спохватываюсь, и мой промах начинает заботить меня сверх всякой меры; а поскольку в теории я куда более искушен, чем в практике, очень часто бывает так, что я не умею исправить погрешность, которую сам сознаю; тогда я переворачиваю холст лицом к стене и больше к нему не возвращаюсь.








