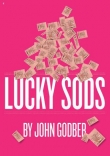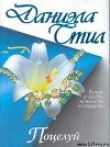Текст книги "Алхимия желания"
Автор книги: Тарун Дж. Теджпал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
Звезды обозначали занятия любовью с Физз.
Черепа – то, сколько раз я боролся со своим желанием в одиночестве.
Я насчитал пятьдесят четыре звезды и четырнадцать черепов.
Физз пока не читала ничего из написанного мной, но этим вечером я показал ей подсчеты первой части произведения. Мы сидели на кровати, на ней была желтая футболка без рукавов и юбка-клеш – в такой одежде она никогда не выходила на улицу. Она посмотрела на страницу, улыбнувшись только глазами.
Дней: 19
Рабочих дней: 14
Слов: 11782
Напечатанных страниц: 35
Звезд: 54
Черепов: 14
Она взяла карандаш и сделала свои подсчеты.
– Двести восемнадцать слов за звезду, – сказала она с насмешкой.
– Это хорошо или плохо? – поинтересовался я.
– Очень плохо-хорошо, – ответила Физз.
Это была наша фраза, обозначающая плохие вещи, но сделанные хорошо.
– Посмотри внимательно, – серьезно сказала она, посасывая кончик карандаша, – с таким счетом у тебя будут проблемы с жизненным лимитом Хемингуэя.
Я заметил, что у меня впереди годы, чтобы наверстать это.
Она поманила меня карандашом, я наклонился вперед и уткнулся лицом ей в подмышку, где волосы только начали расти, – запах ее чистого пота затуманил мне голову.
– На самом деле мне нужно сейчас работать, – сказал я.
– Иди, животное, – улыбнулась она, ударив меня карандашом. – Сопящая свинья не может создать великое произведение.
– Жизнь важнее литературы! – пробормотал я, зарывшись лицом туда, откуда исходил запах мускуса.
Раздевшись, Физз снова взяла бумагу – теперь мятую – и продолжила свои подсчеты.
– Восемьсот сорок одно слово за один череп, – сказала она, вращая карандашом. – Это не плохо. Это приемлемо.
– Вообще, все куда хуже, – сказал я.
– Почему?
– Если следовать версии Хемингуэя, тебе придется добавить четырнадцать черепов к звездам, а затем разделить на них слова.
Она это сделала.
54 звезды+14 черепов=68
Слов: 11782
– Раздели.
– О боже! – сказала она. – Это оргазм каждые сто семьдесят три слова.
– Да?
– При таком количестве оргазмов к тому времени, как ты напишешь три книги, ты израсходуешь весь свой жизненный лимит.
– Мне нужно прекратить писать? – спросил я.
Физз посмотрела на меня.
– Или мне…? – я поднял бровь.
– Да, – велела она, – немедленно.
– Тогда, – сказал я, – не больше.
– Мой герой! – воскликнула Физз.
Мы прочитали где-то, будто Хемингуэй считал, что каждому человеку в жизни отведено определенное количество оргазмов – поэтому их нужно считать. Когда мы шутили об отведенном нам лимите, все происходило слишком быстро и страстно. Но в тот раз нам не нужно было беспокоиться. Когда я закончил вторую книгу и стал придумывать коду, с вдохновением начались проблемы. Любопытно, что одновременно сексуальная активность – усилившееся страстное желание – тоже начала слабеть. На пятьдесят второй день после начала работы над книгой звезды и черепа в дневнике стали встречаться все реже и реже.
Скоро мое особенное положение в семье изменилось; она больше не брала инициативу в свои руки, и нам больше не грозило израсходовать лимит Хемингуэя.
Но все это случилось позднее;. А первые шесть недель были превосходными, и работа над второй частью шла хорошо. В ней я пытался подробно описать отношения между отцами и сыновьями.
Властный Пандит полагал, что его сын, Пратап, выросший среди пятнадцати сестер, – почти девушка, слабак, который лишен таких мужских качеств, как амбициозность и настойчивость. Я сделал так, чтобы Пратап был ближе к своей маленькой матери, Камле, и придумал небольшую сюжетную линию с ней: «Богу следовало подарить мне шестнадцать дочерей! Почему он подарил нам эту пародию на сына?»
Со своей стороны Пратап думает, что его отец – слабый человек, а пустота в его душе из-за жадности. Пратап учится мягкости и силе у женщин – сестер и матери, которые заполняют его жизнь. У них же он учится стойкости – держаться ближе к земле, чтобы ничто не могло свалить тебя с ног. Пандит изо всех сил пытается заинтересовать сына своим делом. Но Пратапа не интересует продажа и покупка кур и обуви, он не хочет появляться каждую неделю в чопорном военном городке, чтобы ходить по яичной скорлупе и целовать задницы белых людей. Однако он боится своего отца, его свирепого характера и руки, которой тот привык внезапно хватать сына за ухо. Поэтому он идет туда, куда приказывает отец, оставляя сердце дома с запертыми там женщинами.
Одним судьбоносным вечером Пратап присоединяется к потоку обычных людей, идущих к Махатме. В этом море людей ему кажется, что Ганди обращается к нему одному: «Чистая душа не знает страха; слаб тот, кто применяет насилие; настоящая истина живет внутри нас; мы – это наши поступки; мы ведем себя достойно, если наши дела приносят нам счастье; Индией должны управлять индийцы; истинная храбрость измеряется только моралью; в материальных ценностях меньше всегда значит больше».
Прежде чем вернуться в свой колледж, Пратап снимает свою модную одежду; к моменту возвращения в дом отца он избавляется от своего страха перед ним. Его отец – это всего лишь еще один богатый человек, которого соблазнили белые своими крохами.
Эта часть заканчивается в середине 1930-х, а Пандит и Пратап оказываются на противоположных концах политической арены Индии. Один поддерживает подмостки империи; другой старается изо всех сил уничтожить эти подмостки.
Во многом отношения между Пратапом и Абхэем складываются очень сложно. Это связано с их полярными взглядами. Пратап как освободитель и наследник великой мечты Индии больше не обладает той чистой свободой, как в дни борьбы. Он лишился левого уха из-за удара лати, провел много лет в тюрьме. В 1947 15-го августа он слушал речь Неру за час до полуночи, когда должна была родиться новая страна, и оплакивал свою юность.
Его отец, тиран Пандит, умер в 1942 одиноким и осуждаемым своими людьми, когда история и воодушевленные миллионы Махатмы пронеслись мимо, выкинув его и его белых богов в мусорное ведро времени. Пратап не мог присутствовать на кремации отца, потому что был обычным заключенным, ответившим на призыв Махатмы. А когда он вышел из тюрьмы, то не колебался и – в духе этого времени – разделил огромное состояние отца на две половины: одну половину, выделив восемнадцать частей, он отдал матери и сестрам; другую пожертвовал на борьбу Конгресса. Он ничего себе не оставил, как завещал Махатма.
Теперь, узнав о преимуществах честного труда, Пратап возвратился к профессии деда и открыл магазин сладостей в суматошном Чандни Чоуке. Он помнил, как кипит большой медный чан с молоком и маслом, потные мужчины поддерживают огонь; открытые мешки с сахаром сложены в углу; испачканные стеклянные банки с разными ладу; тошнотворный сладкий запах забивает ноздри; его дедушка сидит на подушке; и мухи повсюду облепили сладости и людей. Пратап обнаруживает, что у него прирожденная склонность к этому делу, и даже притворная любезность в общении с другими бизнесменами дается ему легко.
Но когда независимой Индии исполняется несколько десятков лет и Ганди умирает, умирают Пател, Нейру, Азад, Радхакришнан, дела в магазине Пратапа идут все лучше, но он видит, что его плоть слабеет. Пратап – это сирота идеализма, обломок идеализма. В этих обломках идеализма и состоит основная трагедия жизни людей.
Сироты идеализма неизбежно понимают, что они промчались по великой автостраде истории с гордой песней и воодушевленным сердцем, а ветер дул им в лицо. Но все великие автострады истории всегда заканчиваются на базаре. Чтобы работать на базаре, свободно двигаться, покупать и продавать на базаре, легко и проворно ходить по базару, нужно снять тяжелые доспехи высоких идеалов, оставить свой шлем у ворот, там, где начинается базар и заканчивается великая автострада стории.
Когда великая автострада истории Индии закончилась в полночь 1947 года и грозные путешественники начали выстраиваться в боевой порядок на базаре, Пратап не смог разглядеть представившуюся возможность. Он продолжал бродить в своем шлеме и доспехах и – по прошествии лет – раздраженно спорить; он оказался очень несчастным со своими старыми товарищами. С людьми, которые падали под ударами лати, которые шли рядом с ним, с людьми, которые воодушевляли и убеждали его.
К концу 1960-х великие воины или умирали или уже умерли, а остатки армии превратились в артистов изменчивого мира, которых ничто не удерживает и которыми управляет жадность, – в мелочных бизнесменов, мелких политиков и коммерсантов. Благородных людей превращают в ничтожество плачущие супруги, требовательные дети и новоиспеченные родственники.
Когда-то они дорожили своими принципами, а теперь оценивают себя по своей собственности.
Короли идеалов становятся королями дел.
Медленно, неумолимо Пратап тоже теряет свое лицо и учйтся плыть по течению.
Он возвращается назад в партию.
Начинаются выборы в рыночный комитет.
Верные последователи партии посылают за ним.
Честолюбивые представители партии появляются у его двери.
Он становится посредником на дебатах.
Посредником, соединяющим необходимость и желание.
Он готовится стать членом муниципального комитета.
Правительственные школы начинают заказывать сладости на День Независимости в его магазине.
А он думает о себе как о молодом человеке, который помогает Индии завоевать свободу. Пратап продолжает быть последователем Ганди. Он верит, что его жизнь посвящена служению народу. Его собственное представление о себе остается более или менее неизменным.
Я был доволен Пратапом, но Абхэй оставался проблемой. Было трудно противопоставить его отцу таким образом, чтобы это соответствовало масштабу моего произведения. Я не хотел, чтобы Абхэй был совершенно ничтожным человеком, очевидной и грубой противоположностью отцу.
В Индии до Независимости можно было прибегать к плохим и хорошим персонажам, черному и белому, но Индия 1970-х – страна несоблюдения прав человека, ядерных взрывов, встреч на высшем уровне, студенческих движений, вынужденной стерилизации, скандалов по отмыванию денег, дьявольских акронимов, таких как Миса, Кофпоса, Фера, и краха ценностей. В Индии 1970-х настолько перемешались мечты и желания, что благородного человека невозможно было разглядеть даже с помощью телескопа размером с дерево.
Поэтому я сделал Абхэя человеком своего времени. Не слишком хорошим, не слишком плохим и не очень обеспокоенным.
Абхэй – это рослый, красивый мужчина, как его дед, Пандит. Как и у того, у юноши взрывной темперамент, горячая кровь – непрерывные ласки в кино – и сильные амбиции. Его единственные ценности – это дружба и успех. Он одобряет поступки своих друзей и яростно защищает их, когда это требуется. После каждой стычки он чувствует воодушевление. Глубокое чувство выполненного долга поднимает его дух.
Друзья зовут его «Иааро ка иаар». Друг друзей.
Восторг охватывает его, когда он соприкасается с кем-то очень успешным. Богатым бизнесменом, могущественным политиком, знаменитым актером. Как и его дед в присутствии Тима Андерсона, Абхэй тогда становится почтительным, внимательным, любопытным, желающим узнать секреты успеха. Абхэй верит, что люди – те, кем они себя сделали, и мир принадлежит тем, кто использует его ради своей выгоды.
Дружба – это его религия. Успех – это его бог.
Абхэй питает отвращение к магазину сладостей так же, как и к агентству по поставке газа. Ничтожность их устремлений огорчает. Он не хочет принимать в этом участие. Он ненавидит мелочный стиль ведения дел своего отца и его манеру одеваться. Та же белая курта-пайджама повторяется бесконечно, день за днем. Но больше всего его раздражает белая кепка – кепка Ганди: отец надевает ее всякий раз, как выходит из дома.
«Зачем ему носить эту глупую кепку? – кричит Абхэй на мать. – Даже Ганди постеснялся бы ее носить!»
Абхэй, конечно, носит джинсы, обтягивающие футболки, ботинки из телячьей кожи. Его отец ездит на пузатом, лениво работающем зеленом мотороллере, а Абхэй – на тяжелом черном мотоцикле «Ройал Энфилд», рев которого можно услышать за три улицы. В своей комнате Абхэй держит потемневшую и выцветшую фотографию деда, стоящего рядом с длинной машиной и облокотившегося на капот. Каждый раз при взгляде на фотографию ему хочется броситься на отца и избить его своими большими кожаными ботинками.
Абхэй хочет стать знаменитым актером в Бомбее. Он хочет играть на большой сцене, в большой пьесе, жить в большом мире, который лежит за пределами магазина сладостей и заправки. У него есть вера в себя и портфолио с фотографиями. Абхэй послал свое портфолио нескольким режиссерам в Бомбее. Каждый день он ждет звонка или прихода почтальона. Каждый день он стоит перед зеркалом в полный рост в своей комнате в ботинках из телячьей кожи, в «Стетсоне», слегка сгибает колени и тренирует свое актерское мастерство. Когда он стреляет, то говорит: «Тишуун!»
Затем он развеивает струящийся из ствола дым.
Пратап думает, что его сын – бездельник и фантазер. Он знает, что его сын курит, пьет и катает молодых девушек на заднем сидении своего мотоцикла. Он не одобряет манеру одеваться Абхэя, его друзей, его амбиции. Но больше всего он ненавидит шляпу «Стетсон» цвета хаки, в которой шляется его сын.
«Кто носит такие глупые шляпы? – кричит он на жену. – Этот дурак думает, что живет в Лондоне?»
Отец жаждет увидеть отблеск своего молодого идеализма в сыне. Стремление к великим вещам, серьезным целям. Он пытается разговаривать с ним о величии истории Индии, о человеческом образе Ганди и Неру. Но Абхэй – человек своего времени. У него нет демонов, которых нужно изгонять. Все, что он хочет изгнать, – это надоедливые истории его отца о жертвах и добре, о том, что молодежь должна быть благодарной за то, что ей подарили.
Абхэй смотрит на огромные плакаты, наклеенные на Филмистане, Регале и Голхе, – яркие изображения Амитаба Баххана и Дармендра, стреляющих, обнимающих женщин; их длинные волосы развеваются, а кровь течет по лицу – и он просто хочет быть на их месте.
Он хочет, чтобы его отец заткнулся.
Он хочет, чтобы его отец был министром.
Он хочет, чтобы его отец закрыл магазин сладостей и открыл магазин одежды.
Он хочет, чтобы его отец продал агентство газа и купил заправку.
Он хочет, чтобы его отец купил белый «Фиат».
Но больше всего он хочет, чтобы его отец снял эту чертову кепку Ганди.
Абхэй постоянно говорит матери о глупости ее мужа. Но он не смеет обратиться к отцу. Не потому что он боится его. Но больше по доброте и из жалости. Абхэй молчаливо сознает, что его отец – жалкий неудачник. Он, по существу, исполнитель, простой исполнитель, который не смог добиться большого успеха в своей борьбе. Абхэй знает, что эти молодые годы самопожертвования и первоначальный бунт против Пандита – две вещи, которые соединяют жизнь отца в целое. Если он уничтожит это, его отец развалится на части.
Я закончил часть тем, что Абхэй все больше и больше отождествляет себя со своим дедом и презирает отца. Предатель прошлого поколений теперь кумир, а герой своего времени неудачник. Когда заканчивается эта книга, Пратап все лучше и лучше приспосабливается к новому миру, манипулируя своим билетом на муниципальные выборы, оставляя свою скромность и вступая в новый мир коррупции.
Абхэй ожидает звонка из Бомбея, оттачивая свою игру. «Тишуун!»
Призрак Пандита все больше обретает силу, благодаря продажности нового времени.
На сочинение коды понадобилось несколько дней. Я наконец придумал сонет о героях и злодеях, говорящий о том, что придет день, когда Ганди и Неру будут обвинять в обретенной Индией свободе и презирать за слабость. А тех, кто были слабыми и слепыми фанатиками, будут воспевать в новом и ничтожном времени как героев.
Несмотря на все мои попытки, несмотря на чувство слога, в сонете отсутствовал ритм, и я оставил его в машинке.
Этим вечером мы отправились в «Сузи Вонг» в Двадцать второй район на китайский обед. Я был погружен в свои мысли и раздражителен. Чопсу был слишком кислым, и я ввязался в ссору с косоглазым официантом. Он вернулся с главным официантом, тоже косоглазым. Это китайский ресторан в стиле Пенджабе – персонал с северо-востока и толстая лапша, остальное менее существенно. Две вещи в Индии являются монополией косоглазых – китайские рестораны и психоз на почве кун-фу. Нельзя есть в китайском ресторане, в котором работают не китайцы, и после просмотра фильма «Выход дракона» люди старались даже не спорить с ними. Но меня это не волновало. Я хотел выпустить пар. Я кричал на главного официанта. Он вернулся с владельцем, который оказался толстым, грубым пенджабцем по имени Джолии.
– В чем проблема? – спросил Джолии, опасно улыбаясь.
– Чопсу ужасный! – воскликнул я.
Джолии повернулся к официанту и ласково сказал:
– Что случилось, сынок?
– Все в порядке, – ответил официант, отводя глаза.
– Кто это ест, сынок? ― спросил Джолии нежно.
– Он, – сказал официант.
– Кто за него платит, сынок?
– Он, – показал на меня официант. Он начал вилять.
– Тогда кто должен судить о качестве еды? – прошептал хозяин ресторана.
– Он должен, – согласился официант, отступая.
– Тогда убери этот чертов мусор и принеси новое блюдо! – заревел Джолии, хватая официанта за ухо и поторапливая.
Джолии, очевидно, не видел фильм «Выход дракона».
– Отошлите его назад, если с ним будет что-то не так! – сказал он, повернувшись к нам, потирая свои жирные руки. – В моем ресторане клиент – король!
– Спасибо, – поблагодарил я.
Я спросил его, откуда он взял название своего ресторана. Он застенчиво улыбнулся и ответил, что заимствовал его из фильма, который однажды видел. Джолии сказал, что ему понравилась там одна женщина. Мы оба засмеялись, и он похлопал меня по спине.
Физз молчала все это время.
Когда он ушел, она сказала:
– Что с тобой случилось?
Я молчал.
– В следующий раз, как захочешь поспорить с Джолии и побить бедных официантов, оставь меня дома, – попросила она.
Я ничего не сказал, и она не продолжила.
Мы молча пришли домой и занялись любовью. Это было простое совокупление. На следующий день я не вышел к столу утром, валяясь в постели. Физз ничего не сказала.
Вечером я предложил:
– Пойдем в кино.
– Зачем? Ты хочешь побить сегодня билетеров? – улыбнулась она.
Мы пошли в кинотеатр, сделанный в форме ангара для аэроплана, и взяли билеты на дневной сеанс. В фильме было много шума, но это не успокоило меня.
Позже мы гуляли по площади в Семнадцатом районе и завернули в магазин «Новые разные книги». Книги там были расставлены вдоль стен, словно плакаты. Владельцем был странный парень. Он не был похож на человека, который читает английские книги, но у него было лучшее собрание английской литературы в Чандигархе. Там были книги (включая журнальные издания пятнадцатилетней давности), которых не было ни у кого.
В магазине было грязно, но хозяин хранил каждую книгу аккуратно упакованной в целлофан. Если снять целлофан и открыть книгу, то ее края окажутся пожелтевшими, но корешок не мятым, а бумага свежей. Он держал только художественные произведения – никаких путеводителей, букварей, канцелярских принадлежностей. Полки напоминали журнальные стеллажи, расставленные вдоль стен, и каждая книга лежала обложкой вверх. Стоя в центре магазина, можно было прочитать названия всех книг до самого верха.
Мы называли владельца магазина Сиржи, и он был польщен этим. У Сиржи была алюминиевая стремянка, он был в магазине один и не говорил по-английски. Странно было то, что Сиржи не был старым чудаком. Он был не из тех последних сторонников Раджа, которые, став свидетелями блеска белых сахибов, почитали все, что имело отношение к английскому языку и английским книгам. Сиржи, вероятно, было всего за тридцать, и иногда, когда мы тихо входили в его пустой магазин, я замечал его за стойкой читающим на хинди роман в яркой обложке. Он быстро его прятал, подпрыгнув, тряс мне руку и доставал необычные книги, которые интересовали нас.
Я впервые посетил его магазин семь лет назад, будучи еще студентом с несколькими рупиями в кармане, и тотчас понял, что пропал. За эти годы большая часть нашей битком набитой библиотеки появилась, начав свой путь в магазине Сиржи. Европейские мастера, американские тяжеловесы, новая волна писателей Латинской Америки – самые невероятные книги лежали на его полках: эротические воспоминания Френка Харриса; «Игра в классики» Кортасара; «Все о X. Хеттери» Десани; сборник поэм Уоллеса Стивенса – книги, которых никто в нашем городе не видел и о которых не слышал.
Физз и я покупали и покупали; чудом было то, что Сиржи никогда не брал ни пенни выше назначенной цены. Это было обычпым делом в магазинах города – наклеивать новую цену на книгу когда появлялось более дорогое издание. Но Сиржи продавал по настоящей цене, бывали дни, когда мы приходили с пятьюдесятью рупиями и уходили с тремя или четырьмя бесценными книгами.
Завернутые в грязный целлофан, но новые внутри.
Мы приходили домой, снимали целлофан и нежно гладили обложку. Холодная и гладкая снаружи, твердая и теплая внутри. Если это делать достаточно долго, можно почти расслышать мурлыкание книг.
Никогда – почти никогда – в магазине не было других клиентов. Когда я впервые покинул город, чтобы поехать на работу в Дели, я беспокоился, что будет с Сиржи. Казалось, что мы – смысл его существования. Я просил Физз при случае заскочить к нему. Она делала это с покровительственной регулярностью сиделки, заезжала каждую неделю, чтобы взять книгу и сделать прививку энтузиазма и денег.
В письмах, которые я получал, обычно было написано: «Сиржи спасен благодаря Камю. Нужно спасать Физджи».
Любопытно, что тишина магазина Сиржи подействовала на меня сильнее, чем шум фильма. Потому что я больше часа преодолевал свое волнение, просматривая дюжину книг. Я аккуратно открывал целлофан, пробегал глазами по страницам, затем передавал Сиржи, чтобы он аккуратно запечатал книгу обратно. Я обнаружил, что сравниваю мою книгу со всем, что просматриваю. Я просмотрел первые несколько страниц мастера рассказов, пытаясь сравнить обороты, персонажей, настроение, диалоги. За это время я оправился от раны, нанесенной бездельем, которая беспокоила меня последнюю неделю.
К тому времени, как мы покинули магазин Сиржи, мы купили две книги, но вдохновение, которое я искал, – карта, которую мне нужно было найти, – ускользало от меня.
Дело обстояло просто: я не начал третью часть, потому что не знал, как продолжить книгу.
Я бездельничал еще несколько дней – Физз лукаво смотрела на меня – а затем решил заставить себя вернуться к столу. После трех впустую потраченных дней утром я встал перед зеркалом и прочитал вслух руководство. Прочитал его как на состязании в ораторском искусстве. Чтобы оно эхом отдавалось в маленькой ванной.
Одна инструкция особенно меня поразила: «В мире полно непрочитанного мусора – не добавляй же ничего к нему». Когда я вышел, Физз сказала: – Намного лучше, чем когда ты поешь.
Я ударил этим утром по клавишам «Брата» и начал печатать. Это был не великий труд, а печатание. Не было вдохновения, возбуждения. Я не представлял, к чему веду.
Этой ночью я позволил Физз впервые прочитать манускрипт. Мне нужно было обрести уверенность в себе. Ее захватило чтение. Заканчивая читать каждую часть, она, ребячась, обнимала меня.
Позже Физз воздала почести искусству. Она повернула меня на живот, накинула свою футболку мне на лицо и выделывала кончиком языка такое, что заставила меня забыть Пандита, Пратапа, Абхэя, Индию, книгу и все остальное, что я когда-либо знал.
Я стонал, как ребенок. Затем спал, как ребенок.
Но следующим утром снова было зеркало с его суровыми приказами и ждущий меня красный «Брат». Я ради шутки продолжал стучать по блестящим черным клавишам, но в моем повествовании не было основы.
Этим вечером я предложил сделать перерыв. Я сказал, что опустел, словно сосуд без воды. Мне нужно снова его наполнить, позволить материи снова влиться в меня капля за каплей. Ранним утром следующего дня в темноте мы упаковали сумку, закрыли дом и поехали на мотоцикле в Касаули. Мы пересекли Пинджоре, когда рассвет окрасил в серый цвет горизонт. Когда мы проехали через переполненную артерию Калки, которая начала сужаться, добрались до склонов нижних Гималаев и начали подниматься среди сосновых лесов, наши души воспарили. Мы не спешили. Мы ехали вперед, Физз поворачивала мою голову каждые несколько километров, чтобы поцеловать меня.
На повороте перед Тимбер Треел я, как всегда, остановился. Восемь лет назад, когда мы учились в колледже, я потерял здесь двух своих друзей. Когда они ехали из Шимли в небольшой дождь, возбужденные молодостью и пивом, их мотоцикл занесло, они вылетели на середину пороги. Билла, сардар, держался за Тимми, когда они перевернулись на шоссе, и грузовик на скорости влетел прямо в них. Когда колеса наехали на них, Билла оказался прямо сверху Тимми, ниже пояса они превратились в неразделимую кашу из костей, плоти и крови. Когда мы доехали до этого места несколько минут спустя, они оба еще разговаривали – их головы находились всего в нескольких дюймах друг от друга – не зная, что ниже пупка у них больше ничего нет. Зеленоглазый Билла говорил:
– Я сказал этому глупому сирду, что нас занесло.
У Тимми слетел тюрбан, волосы разметались по дороге.
– Я говорил этому ублюдку не держать меня так крепко: из-за него я не смог удержать руль.
– В следующий раз, ублюдок, ты позволишь мне рулить, – возмутился Билла.
А Тимми воскликнул:
– Дерьмо! Мой отец убьет меня! Мотоцикл покорежен?
– Нет, – авторитетно успокоил его Милер в своей спокойной манере, присев рядом. – Все в порядке. Мотоцикл в порядке.
– Пожалуйста, ничего ему не говорите – он придет в ярость! – попросил Тимми.
Они умерли через несколько минут. Это было странно. Вот они разговаривали, а через минуту умерли. Они были так смяты вместе, что их нужно было перевозить на одних носилках, а потом даже кремировать на общем погребальном костре. Нас поразила их смерть. Теперь мы знали, что она уготована не только для стариков.
После этого мы несколько недель воспринимали жизнь как чудо. Затем печаль прошла, воспоминания стали прекрасными, и мы горевали, только когда были пьяны.
На повороте, на большом дереве под дорогой, мы вырезали надпись: «Тимми и Билла, 26 июля 1979, Гималайское общежитие, комната 102, большие друзья и теперь соседи навсегда, и будь проклят тот, кто попытается их разлучить». Мы договорились, что будем делать зарубку всякий раз, как будем проезжать мимо. Когда я спустился вниз по покрытой листьями скользкой тропе к кадаму, я посчитал зарубки на стволе. Их было двадцать семь. Четыре были мои, я взял камень и сделал пятую. У Биллы и Тимми было достаточно друзей.
К следующему повороту печальные воспоминания забылись, и Физз заговорила о завтраке. Мы остановились у лачуги и съели жирный омлет из двух яиц с кусочками хлеба, прожаренными прямо на огне, опрокинули в себя несколько чашек чая. Солнце взошло, но еще не спустилось по склону, чтобы коснуться дороги.
Когда мы свернули с основной трассы на Дарампур и въехали на любимую дорогу к Касаули, мы были легки от свежего воздуха и счастья. Последние тринадцать километров дорога сужалась – движения совсем не было, деревья подступали ближе, великолепные красноклювые голубые сороки беззаботно сидели на обочине, шумно играя в салки друг с другом, стали появляться чудесные поляны. Мы остановились на одной из них, прислонив мотоцикл к широкому чешуйчатому стволу старой сосны, чтобы на миллионе сосновых иголок внизу испить свежий сумасшедший коктейль из желания и любви.
На ней был свободный красный пуловер. Я поднял его – и все, что было под ним – и собрал под шеей. Она выгнула спину п была прекрасней, чем все деревья, птицы и горы. На ее коже появились маленькие пупырышки, и ее розовые соски задавали вопросы, на которые я был рожден отвечать. Я ответил на один открытым ртом, а на другой – ладонью. Ее лицо приобрело цвет заката, и она взяла мою голову и водила ею везде до тех пор, пока мое лицо не заблестело, словно первая утренняя роса. И когда я вылил мою любовь в нее, в стонах повторяя ее имя, ветер на поляне шептал его вместе со мной.
Физззз.
Мы поселились в государственном доме отдыха в Ловер Молл, комната была затхлая с сырыми зелеными коврами и рассыпающимися занавесками. Матрасы были жесткими, кровать скрипела, а дверь ванной, если ее закрыть изнутри, заедала, поэтому ее приходилось открывать снаружи. Следующие четыре дня мы кричали друг другу: «Ударь, детка!» И отвечали: «Хорошо! Отойди!» И бам! Мы били по ней ногами. Это было похоже на поступок героя в фильме. Нас не удивило, что ванная была оснащена современным оборудованием, но оно не работало. Сверкающий белый резервуар и новая белая газовая колонка не действовали. Одни издавал сухое бульканье, если к нему приблизиться, а другая никогда не открывала свой красный глаз. Как обычно в Индии, холодная вода попадала в унитаз с помощью ведра, а горячую воду, чтобы мыться, приносил из хамама тощий служитель, опасно шатаясь под весом ведер.
Но мы были на высоте. Ничто не могло испортить нам настроение. В течение нескольких минут Физз открыла двери и окна, и с помощью служащего и его жены комната была убрана и проветрена. Два часа спустя она усадила нас на легких стульях на веранде, выходящей на густо покрытые растительностью холмы, и послала служителя за булочками-самосас на рынок.
Она заказала их и для служителя, его жены и их троих детей, Они тотчас превратились в ее помощников; когда принесли чай с самосас, он был хорошо заварен, обжигающе горяч и с сахаром. Глотая его, хотелось причмокивать.
Был всего одиннадцатый час. Уже было достаточно светло, но еще не жарко. Однако утренний холод прошел, и было приятно сидеть на веранде в простой рубашке. Здесь были совсем не слышны звуки автомобилей – только непрерывное гудение под землей и пронзительные крики разных птиц. Веселая банда белощеких бульбулей захватила лужайку, и некоторые из них совершали миролюбивые набеги на веранду, выставив напоказ свои хохолки и весело кивая. Они переговаривались на разные голоса. Это была настоящая оркестровая партия.
– Я могла бы жить здесь всегда, – сказала Физз.
Она выглядела как сентиментальный живописец – с распущенными кудрявыми черными волосами, ногами на старом деревянном столе, сверкающей кожей, с эмалированной кружкой, которую она держала обеими руками, и взглядом, устремленным вдаль.
– Я тоже мог бы, – признался я.
– Ты бы мог писать книги, а я завела бы птичью ферму или возилась с травами, растущими в горах, – принялась мечтать Физз.