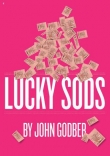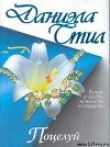Текст книги "Алхимия желания"
Автор книги: Тарун Дж. Теджпал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Оба сына женились на девушках, которых выбрала им мать. Хорошенькие, честные, склонные к полноте, из касты кшатрии. Бакалавры искусства. Способные приготовить вегетарианскув еду за три часа, связать длинный свитер за три дня. Оба сына устроились на спокойную работу в городе. Кевал стал дипломированным бухгалтером и обосновался в Бомбее, продолжая род Манхаттани, который имел корни не только в Салимгархе, а почти во всей Индии. Капил стал боксвалла, работающим накорпорацию, которая занималась продажей мыла и шампуней. Служба привела Капила в маленькие города и села в сердце Индии, приблизив его к стране, даже если он смотрел на нее из безопасного и великолепного кокона больших бунгало, с многочисленнымн слугами, музыкальными системами «Грюндиг», хорошими машинами и клубами, которые возглавляли отставные полковники с брюшком.
Такая жизнь была у Капила, когда я родился. Доктор пришел домой, чтобы осуществить доставку. Очевидно, я прибыл вовремя. После этого он похлопал меня по спине, чтобы я закричал, я помолчал секунду и сердито посмотрел на него.
Годы спустя, когда многое забылось, мать сказала, что я не одобрял стиль жизни моего отца с самого начала.
Порой я возмущался, говоря, что этого не было. Но правда состояла в том, что мне было скучно, и из этой скуки выросло отвращение. Я ненавидел клубы с их жалкими сезонными танцами на деревянном полу под мелодию «Эти ботинки сделаны для того, чтобы гулять»; бильярдные комнаты с прилизанными юношами и стареющими маркерами, держащими пари на порции виски; тонконогими мужчинами и толстыми женщинами в белых спортивных рубашках и теннисных шортах, которые размахивали ракетками и толпились вокруг кортов для бадминтона; затхлые бары с мужчинами среднего возраста, которые выставляли напоказ свое возбуждение, сидя на барных стульях. Я ненавидел их пустые шутки и фамильярность, с которой они хлопали меня по лопаткам. Я ненавидел раздевалки в комнатах отдыха, расположенные вдали от основного шума, где эти проворные люди – дяди – могли загнать меня в угол и положить свои потные руки мне на шорты. Затем они брали мою руку и клали поверх своих штанов. Я ненавидел то, каким большим, жирным, горячим и влажным, настойчивым может быть неудовлетворенный человек. Я ненавидел свою беспомощность в такой момент.
Так было и с моим отцом. Он надоедал мне, и медленно из той скуки вырастало глубокое презрение. Мир продажи мыла, создания брэндов, рынка ничего для меня не значил, Я не выносил его разговоры о менеджменте, маркетинге и прибыли. Возвращаясь из поездки, он начинал говорить о новых потребительских предпочтениях и так светился от гордости, что мне хотелось закричать. Идея постоянного анализа людей как покупательных единиц ужасала меня. Растущая продажа мыла. Статус зубной пасты. Первоклассный шампунь. Мне хотелось бросить блюдо об стену, перевернуть обеденный стол и станцевать шимшам.
В свою очередь он думал, что я человек со странностями. Он всегда презирал книги, которые я читал. Интуитивно я прятал их под матрас, среди моих учебников, среди одежды в шкафу. Всегда очень беспокоясь о том, чтобы они не шуршали. Затем прошли годы, и страх покинул меня – я стал разбрасывать их по моей комнате, включая бачок в туалете. Отец входил в мою комнату, я смотрел на него поверх книги, которую читал, он одаривал каждую стопку в комнате испепеляющим взглядом, что-то бормотал и уходил.
Отец не упускал возможности отпустить насмешливое замечание о мальчиках, которые слабы, как женщины. О мальчиках, которые тратят свое время, читая «глупые романы». О мальчиках, которые не могут держать свои брюки застегнутыми, мальчиках без будущего.
Мы не могли найти общий язык. И нам было жаль, что мы не могли отделаться друг от друга.
Гораздо легче было с матерью. Она не обвиняла меня ни в чем. На самом деле она всю жизнь была обвинителем. Я мог сидеть и разговаривать с ней часами о ее детстве, годах, проведенных в колледже. Такого рода чепуха может разбить сердце всех сыновей, если только они не смогут прекратить слушать. Поток девичьего веселья, шалостей, фантазий превращается в лишенную души рутину, когда родители, традиции и клан сговариваются сделать из дерева картонную коробку.
Лишая нас всех возможностей жизни.
Я посмотрел на ее фотографию, где она с косичками самозабвенно смеется, сверкая новыми браслетами на руках, и на ее потускневшие глаза, и мое сердце разбилось. Потерянные годы… Дерево разрезали на картонные коробки, даже если оно пустило ростки. Потерянная жизнь. Были дни, когда я лежал на постели после разговора с ней и думал, что, если бы мое желание могло исполниться, я бы вернул ей все эти годы, проведенные с моим отцом, дал бы ей любого другого мужчину, которого она знала, забрал бы и унес их далеко-далеко.
Даже теперь, когда я пишу эти строки о давно прошедшем, я думаю о том, как она смеется с косичками, звеня браслетами, и в моем сердце становится пусто. Мне приходится вставать из-за стола и идти на прогулку. Подниматься на пункт водоснабжения, смотреть на долину, чтобы успокоиться.
Я приучил себя не думать о ней.
Печаль нельзя лелеять. Это неверный путь в жизни.
В таких городах, как Барейлли, Джанси и Аллахабад, я был ее компаньоном. Я сопровождал ее к доктору, в кино, на рынок. Больше всего мне нравилось с ней ходить на овощной базар три раза в неделю. Я не думаю, что мой отец делал это хоть один раз в своей жизни. Это было ниже его достоинства. Я нес зеленую пластиковую корзину и помогал ей тщательно разглядывать овощи и выбирать. Мне нравилось строение фруктов и овощей. Я ласкал их, завладевал ими. Стручковый перец, томат – кончиками пальцев. Капусту, яблоки – всей ладонью. Манго – носом. Кокосы – ухом.
Больше всего я любил звенящие песни продавцов, расхваливающих свой товар. Многие из крикунов были похожи на индийских классических музыкантов, создающих изумительные узоры из одних и тех же слов. Нежно, тихо, высокими голосами, протяжно, на жаргоне, рысью, галопом. Они входили в транс пения; если закрыть глаза, то можно представить, что ты находишься в музыкальной школе, где студенты перебирают струны на своих инструментах.
Цвета тоже имели значения. И чем старше я становился, тем цвет еды больше значил для меня, как и вкус блюда. Мне не нравились овощи, которые превращались после приготовления в серо-коричневую массу. Я любил сверкающие зеленые бхинди, мерцающую желтую кукурузу, отполированную тыкву медного цвета, порезанные красные кусочки дыни, кубики оранжевой папайи, не порезанное красное яблоко, гуаву с зелеными листьями, белоснежный творог.
Мне нравилось есть глазами, так же, как чувствовать вкус блюда.
Это был подарок того времени, которое я провел в Салимгархе, где все приходило с грязью и прилипшими листьями и мылось до блеска в миске, прежде чем попасть на кухню.
Я любил ездить в Салимгарх. Ферма Биби Лахори с ее чудесными видами, раскинувшимися полями горчицы, гороха сахарного тростника и пшеницы, рощами гуавы, бер и манго которые приносили постоянный урожай овощей и фруктов, стадами коров, быков и одинокой лошадью, с ее крестьянством, ароматами земли и отсутствием всяких правил этикета была удивительной страной. Точная противоположность дому моего отца с его подсчетами прибыли по продаже мыла и потребительской психологией.
Ребенком я приезжал в Салимгарх каждое лето и зиму, самый суровый период этих времен года. Летом часто было невозможно выйти босиком на улицу, и приходилось подбадривать себя бесконечными стаканами катчи ласси – молока, разбавленного наполовину водой, с большим количеством сахара и кубиками льда. Эти кубики откалывали от огромного куска льда, который привозили в мешке из города каждое утро. Зимой было невозможно дотронуться воды, предварительно не подогрев ее. Именно в Салимгархе я привык пить чай с молоком, потому что на кухне оно постоянно кипятилось для бесконечных гостей и работников, которые сжимали медные чашки ладонями и отогревали щеки, вдыхая ароматные пары. Именно там я обнаружил, что у шуррчая есть особые аромат. От всех в Салимгархе, включая Биби Лахори, пахло этим чаем.
Я всегда ездил в Салимгарх с дюжиной книг, закрывался надолго в своей комнате и погружался в чтение. Отцу не нравилось посещать ферму и навещать мать, и меня это не огорчало.
Когда я мог выходить – ранним утром или поздним вечером летом и в полдень зимой, я просто гулял по полям. Гулять по узким тропам было забавно. Можно было играть. Считать количество шагов, идти задом-наперед, прыгать на одной ноге по полю. По утрам рабочие приносили датаны, и я мужественно жевал веточку, пока она не истреплется, затем, выплюнув ее, я шел чистить зубы. Биби говорила: «Это дети, которых произвели на свет мои сыновья! Я уверена, что они тоже вытирают свои задницы бумагой, после того как вымоют их водой!»
Несколько дней, чтобы почувствовать себя мачо, я выходил вместе с фермерскими парнями, чтобы испражняться на открытом воздухе. Там был небольшой участок, принадлежащий нашей семье и находящийся рядом с высохшим устьем реки, за пределами нашей фермы, который выбрали для отправления. В самом устье реки были посажены дыни. Место испражнений было сухим и твердым, с впадинами и холмами, с выбоинами от острого тростника. Нужно было искать место, чистый участок, поддерживать разговор и делать дело. Все приносили бутылку с водой, на обратном пути по влажной грязи рядом с водопроводом было принято мыть руки. Я исполнял ритуал. Но когда я возвращался домой, то первым делом шел в ванную за твердым мылом «Лайфбай».
Прямо за тем местом, где мы сидели на корточках, начиналась земля, куда не ходил ни один мужчина. Она находилась на другой стороне устья реки. Здесь росли густые кусты, а острая трава поднималась почти стеной. Это была женская зона для испражнений. Неприкосновенность этого места соблюдалась с большей тщательностью, чем в ванных комнатах в отеле с яркими рисунками, изображающими женщину, на дверях. Но порой с того места, где я боролся с судорогами в ногах, я мельком видел чьи-то ноги сквозь щель в траве и чувствовал внезапное возбуждение.
Вообще-то я ненавидел эти походы, в основном из-за физического дискомфорта. И когда я постепенно утратил необходимость подстраиваться под кого-либо, я перестал пытаться это делать. Другая вещь, которую я ненавидел, – это прогулки по полям сахарного тростника. Листья тростника били по коже. Но тростником было засажено столько, что невозможно было не ходить через их густые заросли.
За исключением этого, тростник в Салимгархе оставил у меня хорошие воспоминания. Ребенком я жевал палочки сахарного тростника, пил сок из сахарного тростника, бесконечно ел липкий мед, который густел в больших кипящих баках под двумя большими манговыми деревьями. У меня рано начались проблемы с зубами, от которых я так никогда и не избавился. Если бы в моей жизни нужно было обозначить три лейтмотива, то это были бы книги, Физз и зубная боль. Убийцы боли – аспирин, комбифлам, обезболивающие; домашние средства – колючая гвоздика, жидкое гвоздичное масло, пакеты со льдом, горячие компрессы – в самом начале своей жизни я прошел через все это.
К тому времени, как я стал подростком, я научился объезжать зубную боль, как чемпион-серфер объезжает океанские волны. С небольшой болью я мог жить большую часть своей жизни. Я всасывал воздух ноющим зубом весь день, прогоняя боль, чувствуя вкус солоноватой смеси крови и гноя. По ночам я сжимал щеку кулаком и подкладывал подушку. Жизнь продолжалась. Со временем больной зуб успокаивался. Переход от нормального состояния к боли и обратно напоминал путешествие от спокойного моря к суровым волнам и обратно.
Но в дни, когда начиналась буря, вскрывался гниющий нерв, поднимались волны и боль была ужасной, я испытывал свое мужество. Пульсация была такой сильной, что было невозможно удержать ее во рту, и от этого у меня сносило крышу. Тогда мне приходилось собраться с силами, подавить все мои чувства, и, как все великие спортсмены, медленно двигаться среди неистовой активности в центр спокойствия Дзен. В неподвижной позе я поднимался на большие холмы, когда меня накрывала волна боли; потом я тихо шел своим курсом, пока не налетала следующая. Я уходил в самую тихую часть дома, закрывал глаза и боролся с этими волнами. В такое время даже легкий шум, малейшее движение могли нарушить равновесие, опрокинуть тебя, а налетевшая боль почти заставляла меня терять сознание.
В конце концов, я превратился в наркомана боли. Порой, когда волны стихали, сидя в тихом уголке, я касался нерва кончиком языка. Когда боль наносила удар по моему черепу, я начинал плыть. Я наслаждался болью, наслаждался покоем. Боль, покой. Боль, отлив. Боль, покой. Волнение, отлив.
Как только становишься профессионалом, начинаешь плавать по опасным волнам, потому что, однажды рискнув, потом отправляешься на их поиски.
Но даже у профессионала-серфера карьера имеет свои границы. Начав в девяностые, я думал, что нахожусь в конце моего пути. Мои зубы больше не были просто болью, местом для борьбы с волнами. Они прогнили, как у старика. Некоторые были повреждены шрапнелью, кусочки отламывались от них во время еды. Иногда, когда я целовал Физз, она жаловалась, что они касаются ее губ, раня до крови. Я ел только на левой стороне рта, правая сторона превратилась в минное поле открытых нервов и опасных рвов. Я даже не мог думать о том, чтобы откусить от плитки твердого шоколада или от твердого фрукта.
Мне нужно было провести огромную кампанию по реконструкции зубов.
Хотя Салимгарх подарил мне длительную зубную агонию, он также преподал мне ценные уроки терпения.
Я проводил мало времени, наблюдая за Биби, но она первая научила меня тому, что размер и пол не имеют ничего общего с силой. Жилистые крестьяне, большие дородные хозяева, правительственные офицеры в костюмах, жирные торговцы, полицейские в форме приходили к ней за советом и помощью. Они садились в кресла на веранде, почтительно говорили, тихо спорили и уходили с благодарностью и низкими поклонами. Биби всегда высказывала свою точку зрения, не повышая голоса. Я видел, как она была резка только с моим отцом. Она презирала его за слабость духа и тела. Биби называла его Наину Таппу, вызывая в памяти образ толстого сосущего мальчика. Отец ненавидел поездки в Салимгарх. Он думал, что его мать – сумасшедшая женщина с каменным сердцем, помешанная на власти.
Порой, когда его в очередной раз оскорбляли прозвищем Паппу-Таппу, он выходил из себя и говорил: «Я уверен, что именно она убила Бауджи».
Теперь Биби Лахори умирала. Клетки рака завладели ее телом. На рентгене доктор увидел белые тени. Он сделал снимок, снял свои очки, обнял своего пра-племянника – внука своей сестры, Анила, моего кузена, который вырос на ферме вместе с Биби, после того как его отца убили в аварии, и велел ему везти ее домой и заботиться о ней.
Доктор тоже был слишком старым. Он знал Биби Лахори всю свою жизнь. На большой стальной табличке у входа в его клинику было написано, что он – зарегистрированный практикующий врач – ЗПВ. Но он был не из тех ЗПВ в маленьких городках, которые думали, что убийство нескольких людей в неделю ничего не значит. В сотнях книг нельзя найти ничего, чему не может научить тысяча пациентов. Через его руки прошло много семей. Рождение, смерть и смерть тех, кому он помог родиться. Меня возили к нему с лихорадкой и жаром, моего отца возили к нему с дизентерией, лихорадкой, ранами и язвами. Сын и дочь доктора практиковали в американских госпиталях, в Лос-Анджелесе и Бостоне, специализируясь в нейрохирургии и ортопедии. Но никто из них не мог помочь пациенту словом и прикосновением руки, как умел их отец.
Он сказал старой женщине: «Массиджи, вы в порядке. Небольшая инфекция. Я дам вам лекарство. Принимайте его какое-то время».
Старая женщина стала еще меньше, чем раньше. Она весила не больше тридцати пяти килограмм. Ее можно было поднять одной рукой, как ребенка. Я знал. Я сделал это однажды в шутку. Она была очень светлокожей, ее кожа по цвету напоминала бумагу. Мятую, но хрустящую. По ее прекрасному носу и рту было понятно, что она когда-то была красивой. Теперь филигранная работа хрупких вен голубого цвета на белой коже делала ее произведением искусства. Но ее спас от бесполезной утонченности подбородок, на котором была ямочка. Ее глаза отличались особой твердостью. В них была не уступчивость воды, а уверенность неба.
Даже при своей изящности она была женщиной-правителем. Центром своего мира.
Она посмотрела доктору прямо в глаза. Он всегда был спокойным. Биби видела, как он мальчиком играл с ее сыновьями во дворе. Его мать приходила к ней делать маринованные овощи в марте и манговый рассол в начале лета, болтала без умолку, всегда рассказывала о пациентах ее Гатту. Она говорила, что, когда он был ребенком, желтые быстроногие курицы подбирали рис, который падал у него с ног. В двухлетнем возрасте он больше часа стоял на коленях перед теленком на пастбище, пока не пришел рабочий и не сказал, что на ферме появилось новое растение. Биби Лахори видела, как Гатту заболел полиемилитом и остался хромым, в то время как все его ровесники покинули свои насесты – перебрались не только в Курукшетру, но и в большие города: Бомбей, Дели, Мадрас и дальше – в Лондон и Нью-Йорк. Он был намного старше Кевала и Капила и намного умнее. Пока ее сыновья ходили в элитную школу в Аджмере, он закончил местный муниципальный и правительственный институты.
Он никогда не злился на то, чего не получил за свою жизнь. Гатту нашел свой покой – нашел свое место – в борьбе с местными болезнями. Он был из тех людей, которые находят мир под своим собственным деревом, и им нет необходимости идти в лес.
Будда, который остался дома.
Доктор знал, что Биби умирала. Он дал ей шесть месяцев. Она спросила:
– Гатту, я умираю?
– Как и я. Как и мы все, Бибиджи, – ответил доктор. Затем он засмеялся и сказал: – Разве тебя может что-нибудь убить? Ты умрешь после того, как Индия и Пакистан снова станут единым целым.
– Я убью себя, прежде чем доживу до этого дня, – откликнулась Биби.
Когда она вернулась к нему месяц спустя, поражение ткани увеличилось. Она теперь была слабее, но не показывала этого. Гатту Чача рассказал мне все это позднее. Он сказал, что ее способность восстанавливать силы пугала. Он подождал два месяца после первого обследования и сделал повторный снимок. Но она прожила полтора года на одной решимости.
Мы узнали обо всем через шесть месяцев, когда ей поставили диагноз: рак. Позвонила мать. Но она не просила меня приехать в Салимгарх. Мой гнев давно остыл, и я ждал, чтобы кто-нибудь подтолкнул меня. Я думаю, мать не была уверена в том, как Биби примет это; возможно, не была уверена в том, как я отвечу. Биби ничего не говорили, и мое внезапное появление могло обеспокоить и встревожить ее.
Физз продолжала повторять, что мне следует отбросить обиды и ехать. Жизнь – это не арифметика, это химия. Придется довериться алхимии вещей.
Я выслушал ее, но не сделал и шага.
«Физа! – воскликнула Биби Лахори, когда я сообщил ей новости. – Физа! Мусульманка! Все индийские девушки в мире умерли! Ты ничего не знаешь, сумасшедший дурак? Только через мой труп!»
Мы были в Салигархе. Во дворе. Я приехал рассказать ей. Я очень о ней беспокоился, она много значила для меня. Мать и отец, не решающийся спорить с ней, попросили меня поехать и сообщить новости. Когда я сошел с местного автобуса из Шахабада и направился по грязной дороге к ферме, я не чувствовал никакого волнения. Был вечер. Красное солнце опускалось за горизонт. Это было второе по красоте время на ферме. Самым красивым был рассвет. Свежий холодный воздух, капли дрожащей росы, ясный солнечный свет, дым от очага на кухне, повсюду слышно пение птиц. Теперь я мог разглядеть свежие ростки надежды на заново вспаханных полях, последние рабочие распрягали быков. Каждый из них видел меня и махал рукой. Птицы ходили по бороздам, оценивая работу, проделанную за день. В манговой роще громко каркали вороны, обсуждая что-то, прежде чем отправиться на ночлег. Из водопровода все еще капала вода. Вскоре она стихла. Затем в середине ночи чьи-то руки проснутся и заставят ее капать снова.
Мать и отец беспокоились, но я не чувствовал никакого волнения. Я был ее любимым внуком, я не знал других аргументов перед лицом любви и страсти.
Я забыл, что имею дело с тем, кто не знаком ни с тем, ни с другим. С тем, кто превратил все это в стратегию жизни. Она была твердой, словно гвоздь, но одновременно и калекой. Биби получила дар успеха, но никогда не была счастлива.
Она могла победить богов. Но не могла коснуться их.
«Физа! Ты ничего не знаешь, сумасшедший дурак? Или все индийские девушки в мире умерли?!»
Это правда. Она всегда говорила своим сыновьям и нам, что мы можем делать все, что хотим, со своими жизнями, кроме того, чтобы жениться на мусульманке. Она была даже согласна на жителей южной Индии, представителей других каст, если понадобится, возможно, приняла бы христианку. Все в жизни и работе было прекрасно, кроме этого. Никогда мусульманку. Ее грудь и влагалище все еще болели от груза того давнего путешествия. Ее ненависть помогла ей выжить.
Ее ненависть заполнила ее жизнь.
«Физа! Только через мое горящее тело! Так будет».
Я ушел, не став с ней спорить. Было уже за девять, и последний автобус ушел. Я пошел в Шахабад по Гранд Транк Роуд, машины и автобусы сигналили, проносясь на сумасшедшей скорости. Я продолжал идти и прошел двадцать километров до Амбалы под покровом неуклюжих, белокожих эвкалиптовых деревьев. Я пришел на железнодорожную станцию еще до рассвета. Можно было почувствовать запах готовящихся паратас в дхабах. К тому времени я остыл и успокоился. Биби Лахори предстояло пережить одно из редких поражений в своей жизни.
Позже отец пытался урезонить меня, затем, я думаю, он пытался урезонить ее, но ему сказали, что он – еще больший дурак, потому что его отпрыск – такой дурак, как я. Она сказала: «О, Паппу-Таппу, я послала тебя в большую школу, и ты стал большим дураком. Мне следовало держать тебя здесь. По крайней мере, ты был бы маленьким дураком. Я рада, что твой отец нe дожил до этого дня, чтобы увидеть тебя, твоего брата и твоих исключительно глупых сыновей».
Болезненные, давно похороненные предрассудки отца выплыли на поверхность. Он поссорился со мной. Я велел ему идти к черту. Он вернул мне комплимент. Долгая и болезненная игра друг с другом закончилась. Мы покончили друг с другом.
Мать раскачивалась, словно маятник, на заднем плане.
Я не встречался с Биби Лахори после этого дня. И вскоре, после того как мы поженились, я прекратил видеться и с отцом тоже. Мать изредка звонила, и я интересовался обоими – Биби и отцом. Но я знал, что Биби с тех пор больше не упоминала обо мне. Мать заявила, что мое изгнание оставило глубокий шрам и ее душе. Я не заметил признаков этого и не верил, что это правда. Биби Лахори наблюдала за страданиями своего мужа и сразу после этого с рассудительной ловкостью забросала его дровами, облила жиром и подожгла. Подобные ей люди преодолевали жизнь, а не размышляли над ней.
Не уступая своему желанию. Несчастные из-за его отсутствия.
Мне приходится признать, что воспоминания о ней наконец немного стерлись и перестали сдерживать меня. Мои годы восхищения ею медленно превратились во что-то вроде угрюмой оценки. Я не уверен, было ли мудро одобрять жестокость (не важно, кто боролся за жизнь): она уничтожает любое другое чувство.
Какой толстой должна быть кожа человека, прежде чем это закончится комой?
Когда она не умерла после шести месяцев, предсказанных Гатту Чачем, и была все еще жива, когда прошли другие шесть месяцев, я понял, что она не собирается умирать. Я начал верить, что она победит рак так же, как все в своей жизни. Я прекратил спорить, когда меня просили навестить ее.
Поэтому я не видел ее, когда она умерла. Несмотря на ранние предупреждения, с ней не было никого, когда она ушла. Ее сыновья периодически навещали ее, но были не готовы оставаться на ферме. Ими двигал долг, а не беспокойство. Конечно, она была слишком гордой, чтобы просить о помощи. Даже у юного Анила, который оставался с ней и спал в алькове снаружи ее комнаты. Он рассказывал мне, что привык наблюдать ночью, как она с трудом передвигается по полу к туалету. Теперь рак был в ее кишках, и ее недержание ужасало меня. Она пыталась скрыть это. Биби старалась ходить бесшумно. Анил был вынужден притворяться, что спит. Ей требовалось много времени, чтобы добраться до туалета и обратно, порой он засыпал, затем просыпался снова, когда она была в середине другого путешествия.
Я взял Физз с собой, когда отправился на ее кремацию. Вся деревня, и даже больше – вся округа, столпилась во дворе и на грязной дороге, которая вела к имению. Мужчины, женщины, дети, старики, молодые, крестьяне, торговцы, представители власти. Я обнял дюжину людей, которых знал много лет. Конечно, все знали меня. Блудный внук, который променял Биби на мусульманскую девушку. Многие мужчины и женщины – некоторые обращались со мной как с ребенком – не выдерживали и громко кричали, когда встречали меня. Физз покрыла голову чунни. Некоторые из них инстинктивно обнимали и ее тоже. Их одежда едко пахла потом и дымом.
Биби Лахори лежала на земле посредине двора. Стоял непрерывный плач. Группа старых женщин профессионально плакала, ритмично била себя в грудь. Мать обняла нас. Ее глаза опухли. Отец был в темном костюме и казался спокойным. Он пожал мне руку, затем неуверенно пожал руку Физз тоже. Хотя мужчины и женщины сидели отдельно, я посадил Физз рядом, с моей стороны.
Когда Анил обнял меня, он сказал, что Биби проснулась в предрассветные часы, позвала его и велела снять ее с постели и положить на пол. Она знала, что пришло ее время. Он сказал, что с трудом выпрямил ее ноги, когда она умерла. Последнее, что она сказала: «О Сансар Чандиа, я заставила тебя ждать?»
Все говорили, что это была самая большая похоронная процессия на их памяти. Вместе с ее двумя сыновьями, Анилом и моими кузенами Кунваром и Таруном, я подставил плечо под ее похоронные дроги. Она была легкой, как листок. Словно мы несем только бамбуковые палочки. Место кремации, которое находилось за пределами деревни, было забито народом. Множество людей сидело на недоделанной стене из кирпичей. Когда прибыл уполномоченный комиссар в белой машине «амбассадор», толпу охватил трепет. Это был молодой человек в кремовой рубашке и очках в золотой оправе, он прошел через группу плакальщиц, словно властелин среди подданных. Некоторые из них вышли вперед и коснулись его коленей. У него в руках был букет цветов – туберозы, гладиолусы и гвоздики. Он шел прямо к моему отцу и Кевату Тайа – оба были одеты в безупречные черные костюмы и галстуки – и официально пожал им руки. Я отвернулся, когда он огляделся в поисках того, кому он еще мог принести свои соболезнования.
Священник начал петь последние церемониальные гимны.
После того как Кевал Тайа ударил ее по голове деревянной палочкой сквозь колыхающееся пламя, все обмыли свои головы под краном, и каждый выбрал веточку. Затем на грязной дороге, фаланга к фаланге, словно римские солдаты, мы стали на колени в пыли и, повернувшись спиной к огню, сломали ветки, когда священник произнес нужное слово, и бросили кусочки через плечо. Наша связь с женщиной, горящей за нами, была разрушена. Круг жизни замкнулся.
Когда она возродится, то вступит в новые отношения со всеми нами. Заплатит старые долги. Закончит дела из этой и прежних жизней. Брать и отдавать.
Это сказал замученный Абхимануи своему прежнему отцу, великому Арджуна, который пришел искать своего мертвого сына во дворце Индры, царя богов. Молодой Абхимануи был убит в четырнадцать лет в знаменитой битве с ордой самых сильных воинов Кауравы, потому что осмелился войти в чакравиукх – круг загадок, из которого он не знал пути назад. Молодой Абхимануи, вечный образец для всех доблестных мужчин, которые поступают правильно, даже если они не знают путей отступления. Молодой Абхимануи, играющий в шахматы с богами, спросил своего несчастного отца Арджуна, доставленного туда господином Кришной: «Почему ты так сильно плачешь, человек? И кто ты?» На это Арджуна ответил: «Я – твой отец, и я оплакиваю твою несвоевременную смерть». Абхимануи ответил ему сквозь взрывы смеха: «Ты был моим отцом! Как во многих прежних жизнях я был твоим! Не веди себя глупо. Я исполнил свою карму. Я исполнил свой долг как воин и умер с честью в битве. Человек, иди назад и исполни свой долг!»
В новой пьесе мы получим новые роли.
Биби Лахори и я. И мы снова подведем итоги. Подсчитаем очки.
Я вернулся туда с Физз, когда все ушли. Мы сели на кирпичной стене. Она была низкой и незаконченной, и там было легко найти удобное место. Наступили сумерки, и отряды визгливо кричащих попугаев возвращались назад на базу. Деревья, посаженные вокруг, – фикусы, манго, ним, кикары, баньаны, имли – волновались на ветру. Неприкасаемый, который обслуживал место кремации, ушел в пристройку в дальнем углу и помогал своей жене развести огонь. Двое его сыновей, босоногие и в свободных шортах, играли в шарики среди могильных насыпей. Я сидел, держа Физз за руку; вскоре серый пепел Биби Лахори начал подниматься и оседать на нашей одежде.
Когда стемнело, мы молча встали и пошли на ферму. Биби все еще горела оранжевым светом, в углу кладбища мерцало пламя костра для приготовления пищи. Очертания темных летучих мышей двигались над головой.
На ферме маленькие группы друзей и родственников сидели повсюду. Настроение было хорошим и свободным. По кругу ходили стаканы с чаем. Два осиротевших брата расположились в гостиной и пили виски. Возможно, они стремились к логическому выражению смерти Биби. Я вошел и сел с Гатту Чача, и он рассказал мне о последнем годе и шести месяцах ее жизни. Затем мы пообедали, и я сказал матери, что нам надо ехать. Она поняла. Анил отвез нас в новой голубой машине «Марути» Гатту Чача на автобусную остановку Пипли. Я крепко обнял его. Он был молод, в нем было много хорошего.
Мы сидели на бетонной скамейке, нам досаждали жужжащие пюлчища комаров. Они кружили над нашими головами, когда мы шевелились, эти полчища двигались вместе с нами. Много автобусов пронеслось мимо, один остановился. Это была раскатанная машина Харианских дорог. Мы сели сзади. Я держал Физз за руку и не сказал ни слова за три часа пути до местного автобусного терминала в Дели. Когда мы добрались до нашего барсати, было далеко за полночь.