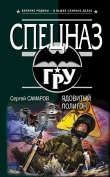Текст книги "Дездемона умрет в понедельник"
Автор книги: Светлана Гончаренко
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Когда Таня бегала с синяками вдоль панельных пятиэтажек Нового города уже ежедневно и забегала к знакомым ночевать и жаловаться, Геннаша развелся с Альбиной. Ничего-то он не взял из своей прежней жизни в новую – ни тряпочки, ни табуреточки. Ни на что не позарился, даже на английские свои костюмы, которые с тех самых пор, с Мариночкиного визита, висели в Альбинином шкафу бестелесными уродливыми привидениями. Сделалось так, будто никогда он не жил в этом дивном срубе, не носил этих костюмов, этих джинсов, скульптурно отпечатавших его могучие ляжки и поливаемых теперь злыми Альбиниными слезами. Будто никогда он не был мужем Альбины и отцом Глебки. Он даже глаз при встречах не отводил. Просто не знал их никогда! Энергичная Альбина отошла немного от первоначального остолбенения и с жаром взялась за Глебку. Она пыталась тащить его к докторам, экстрасенсам, бабкам, пыталась его заговаривать, иглоукалывать, поить мочой – но Глебка тоже стал другой. И он тоже будто не жил в ее тихом сияющем доме, не объедал ее знаменитый темноягодный малинник, не зевал ребенком в кулисах, когда мама с балкона тянула к папе руки. Всему конец!
Геннадий Петрович и Таня поженились, в церкви даже перевенчались, на три дня, счастливые, заперлись безвыходно в своей квартирке, а потом Таня ушла. Насовсем. Альбина порадовалась: «Получи же, лысая сволочь! Ко мне теперь приползешь! А я уж покуражусь, посмотрю еще, брать тебя, потасканного, назад или нет!»
Конечно, брать его назад она собиралась, но хотелось и подсластить свою унизительную победу.
Однако лысая сволочь не ползла. Она предавалась тупой тоске, играла из рук вон плохо, набекрень пялила накладочки, задиралась, трясла встречных и поперечных за грудки, но не ползла! Альбина ничего не понимала: Таня-то уже стала прошлым, Геннадий Петрович Тане не слишком и докучал, хотя еще тяжело и злобно долюбливал. Но Альбину мог смотреть только пустыми глазами прохожего дядьки. Как же это могло быть? Допустим, Таня молода, но Альбина – она про себя это совершенно точно знала – просто красавица. И сохранилась отлично! Всего только семь лет назад она выходила в «Детях Арбата» в одних трусах, и зал зажмуривался от стыда и восторга. Фигура-то бесподобная! Она охотно декольтировалась на сцене, высовывала из всяческих разрезов большую белую ногу, очень стройную. Презренный Мумозин, конечно, пытался вытолкнуть ее на старушечьи роли, минуя даже Анн Карениных, но она еще уверенно играла кое-какие прежние молодые роли. Да и привыкли все, что главная ушуйская секс-бомба – это она.
Назло Геннаше Альбина стала попадаться ему на глаза в эротичнейших своих туалетах (дело было весной, можно было чуть померзнуть) – то с глубоким вырезом, то с оголенной спиной, белой и гладкой, как свежий сугроб, то в юбке с боковым разрезом, сеявшем сомнения, не забыла ли она надеть трусики. Геннадий Петрович глядел на эти прелести скучными рыбьими глазами. Альбина с горечью осознала, что все то великолепное, упругое, шарообразное, что составляло неизменно предмет ее гордости, Геннаше совсем не нравится, если не противно. А нравится ему, наоборот, Танино – молодое и невнятное. Альбина вошла уже во вкус борьбы. Неудача не обескуражила ее, а только раззадорила. Она повесила в шкаф с Геннашиными праздничными костюмами свои ударно-сексуальные наряды, которые жалко и уныло обвисли на вешалках мешками бюстов и веревочками завлекательных лямок. Альбина отправилась в Нетск.
Довольно скоро вернулась В Ушуйск другая Альбина. Это было непосредственное, победно-раскованное существо в легких брючках жидковатых весенних тонов. Пышный бюст неброско таился в тени распахнутых спортивных курточек, под забавными рубашечками вместо того, чтоб лезть всем на глаза и провозглашать, что он так спел, что вот-вот треснет. Тяжелее всего было расстаться с роскошными белокурыми кудрями, напоминавшими парик Исаака Ньютона. Но Альбина пошла на эту жертву. Теперь ее голову украшала коротенькая стрижечка – последний шанс зрелой женщины убедить себя, что она помолодела. Такая прическа бывает у сельского школьника к первому сентября, если его тщательно обрили в начале июня.
Процесс преображения доставил Альбине много радостей. Метаморфоза потрясла всех, кроме Геннадия Петровича. Он, правда, тоже не узнал сперва Альбины, но когда рассмотрел, что это она, посерел и брезгливо сморщился. Альбина никак не могла поверить в свой новый провал. Наконец стала она подозревать, что причина всех ее несчастий, ее крушения, причина невыносимой, убивающей маяты и мужа, и сына – не дурь, не гормоны, не возрастное затмение. Причина – сама Таня. Пока есть Таня – любая, пусть забывшая, пусть равнодушная, пусть нелюбящая – все будет по-прежнему, так же ужасно и невозможно. Как бы расколдовать все назад, как бы обрызгать и себя, и их двоих любимых, и стылый дом какой-нибудь живой водой? Да, ведь еще и мертвая вода бывает…
– Я понимаю, конечно, меру вашего отчаяния, – холодно отшатнулся Самоваров от несчастной Альбины, – но не могу уяснить…
– Верните его! – твердила Альбина, как заведенная. – Ваши связи! Ваше влияние! Он ни в чем не виноват. Ее он не душил, я это знаю точно, так же точно, как то, что сегодня воскресенье. Да и Мошкина он не бил! Может быть, потрепал слегка. Он чуть ли не каждый день треплет Мумозина (а ведь это художественный руководитель) – и ничего! И другие ничего! Да если б за это сажали, он бы давно… Ваши связи!
Самоваров отмахнулся:
– Что вы в самом деле!
Альбину вдруг осенило. Она рванула застежку сумочки так, что молния взвизгнула, быстро порылась и пошуршала чем-то и наконец зажала в кулаке какие-то бумажки. Однако кулака из сумочки она не вынимала.
– Сколько вы берете? – твердо и деловито спросила она. – Я знаю, что много. Но сколько? У меня сейчас с собой только полтораста, но потом…
Самоваров побелел и вскочил, вздернув за собой и Настю.
– Что вы себе позволяете! – вскрикнул он не своим, тонким голосом. – Я? Много беру?
– Если на порядок больше, чем полтораста – я понимаю, много больше! – я постараюсь к вечеру, – невозмутимо заявила Альбина. – Но мне нужны определенные гарантии. Чего вы так всполошились? Нас никто не слышит и не видит. Вы что, не хотите помочь?
Самоваров совсем вышел из себя:
– Не хочу! Не хочу! Хоть я и знаменитый взяточник! Я беру много – но не хочу! Какая сволочь вам про меня все это наплела?
– Кульковский Владимир Николаевич. Вы же не станете спорить, что это порядочный и надежный человек. Я понимаю, вы меня не знаете, опасаетесь доверять, но деньги я достану! А меня могут рекомендовать… тот же Кульковский, в высшей степени порядочный…
– Какой подлец! – вскричал вновь Самоваров и страшным усилием воли остановил на выходе слова, совсем негодные для женских розовых ушей.
– До чего подлец! – кипятился Самоваров, хромая по коридору и пытаясь объяснить Насте только что пережитую стыдную сцену. – Дурит в своей кровати со скуки! Сначала Юрочке этому ненормальному наврал, что я сыщик. А теперь до того обнаглел, что я и из КПЗ извлекаю. И большие деньги за это беру! Большие! Аппетиты растут! Юрочка мне все какие-то гривенники совал, а тут полтораста… Но как несдвижимый с койки мерзавец сумел поспеть всюду?
– Есть такая удобная штука, как телефон, – предположила Настя.
– Пора укротить телефонного хулигана! Он, говорят, поправляется, вставать стал – пусть снова сляжет, но предварительно проглотит свой блудливый язык!
Глава 11
– Так ты женился? А ведь молчал, поросенок! Бутылку хотел зажилить? Признайся, жалко бутылку? Не выйдет!
Хороший парень Кульковский, быть может, и вставал уже, но Самоварова принял на своем великолепном кружевном ложе. Был он румян, как пирог, и улыбался совершенно невинно.
– Кто женился? – накинулся на него Самоваров. – Что ты несешь? Еще одну сплетню про меня пустил? Очередную гадость выдумал?
Кульковский обиделся:
– Как я мог такую ерунду выдумать? Это твоя жена моей сказала. Я еще удивился, что ты от меня скрыл – надо же, думаю, какой поганец: четыре года живете, теперь вот и официально оформились, а ты ни слова…
Ошеломленный Самоваров вяло опустился на скрипучий стул рядом с кроватью.
– Чего это у тебя челюсть отвисла? Ты что, сам не знал? Я первый просветил тебя, что ли? – взвыл блаженно Вовка и закатился долгим визгливым смехом. Одеяло на нем мелко сотрясалось, кружева вздрагивали, по сытому бородатому лицу текли счастливые слезы. Он смеялся, пока не устал, но хотел все-таки выжать побольше из редкой возможности повеселиться, и еще долго хмыкал, силился хохотнуть, растравляя в себе смех. Он кидал при этом виноватые взгляды на Самоварова и взвизгивал:
– Видел бы ты себя сейчас!
«Какой подлец, – скрипел зубами Самоваров. – Еще говорят, что улыбка украшает человека! А у этого до чего отвратительное рыло… Нет, это его сплетня – не может быть, чтобы Настя такой чуши нагородила! Не похоже это на нее… Или похоже? И она вот так со мной разделалась?..»
Открытие было такое внезапное, что Самоваров позабыл и про Юрочку, и про Альбинины гнусные предложения. Вовка уже отсмеялся, к нему возвращались понемногу и человеческий облик, и дружеское участие.
– Так ты в самом деле ничего не подозревал? Что тебя ловят? Что окрутили?
– Да ничего не окрутили! Просто я…
И Самоваров изложил совершенно безобидную историю знакомства с Настей, ее приезд в Ушуйск и внезапное сближение. Кульковский слушал с интересом и тоже недоумевал:
– Да, дело тут нечисто! Чего ей надо от тебя, а? Жена говорит, что девочка молоденькая и красивая, как картинка. Зачем бы ты ей? И говорит, что любит?
– Говорит, – уныло подтвердил Самоваров. – Вот скажи, положа руку на сердце, можно ли ни с того ни с сего в меня безумно влюбиться?
Кульковский послушно вынул из-под одеяла пухлую руку, возложил ее на круглый, как таз, живот и вгляделся в бледно-желтое лицо Самоварова. Он долго молчал.
– Не знаю я, – наконец заявил он. – Вроде нет. Не слишком ты видный. Я, правда, давно тебя знаю, и мне ты вполне миленьким кажешься. Но скажем прямо: красотой не поражаешь. Вот лет десять назад ты вроде бы получше был… Да и то… Не очень. Нет, вряд ли из-за красоты она тебя любит. Тогда почему? Ты не бизнесмен, вообще не денежный, и это ей, судя по всему, известно?
– Конечно, – сказал Самоваров. – Сам подумай: я ее год целый не видел, даже на улице не встречал, а она вдруг прилетает и… В старое время я бы заподозрил, что она институт кончает и не желает по распределению ехать – так сейчас же никуда не распределяют! И квартира у меня неважная, однокомнатная. Санузел совмещенный… Главное, девчонка не охальная, не из тех, кто из койки в койку прыгает…
– Слушай! – просиял вдруг Кульковский. – Может она беременная от кого, и на тебя повесить хочет? Знаешь, есть ведь такие: срок зашкалило – дурака надо искать…
– Что за глупости! – возмутился Самоваров, и бледное Настино личико укоризненно нарисовалось перед ним. Все-таки пошляк Кульковский!
– Не скажи, – не согласился Вовка. – Тихони-то как раз и залетают. Бывалые дело знают! Ты лучше присмотрись, может, рыбка с икрой? Сам ведь понимаешь: раз ловят тебя, значит, дело нечисто. Не мальчик, должен соображать. Присмотрись к ней! Титьки у них делаются такие, – Кульковский показал на себе, – живот еще… Жрут селедку, огурцы соленые… Да чего я тебя учу! Не маленький!
Самоваров с брезгливой гримасой отвернулся, но мысленно исследовал Настю. Нет, и грудь у нее маленькая и нежная, и живот обнадеживающе плоский… Правда, огурец соленый из рук Яцкевича приняла, но чего только трое из тараканьей квартирки не заставили принять самого Самоварова… Нет, врешь, Кульковский!
– Смотри, не влипни, – предостерегал тем временем Вовка. – Есть еще психологический прием: наболтай ей, что деток, мол, любишь, давно завести мечтаешь, да так, что сам бы родил, кабы мог. Тут она тебя и осчастливит: ваши мечты сбываются, мой Самоварчик. А ты ее – коленом под зад! Под зад!
– Прекрати! – не вынес Самоваров, вдруг представив, как он отвешивает пинки милой, изящной Насте. – Она совершенно не такая, как те халды, к каким ты привык!
– У всех у них устройство одинаковое, – мудро изрек Кульковский. – А ты раз влюблен, как цуцик – женись, и нечего тут оскорбленную невинность изображать. Разобиделся! Сидишь, губки узелком! Как будто я ее тебе подложил… Мнительный ты, как…
– Прикуси свой паршивый язык! – воскликнул вдруг Самоваров нетвердым, непривычным к воплям голосом. (Он разом вспомнил поползновения Юрочки и Альбины). Кульковский изумленно приподнялся в подушках.
– Ты меня идиотом каким-то ославил в этом паршивом городишке! Я и сыщик наемный, я из каталажек вызволяю, как Генри Резник! Я и взятки беру! Стоит якобы мне в Нетск звякнуть, как тут все в струнку вытянутся! Зачем ты все это придумал? Зачем разнес? – бушевал Самоваров. – Вот ходи теперь всюду и сам опровергай всю эту чушь! Я заставлю тебя отвечать за свои слова!
Кульковский понял, в чем дело, и облегченно возвратил голову в подушки.
– А, ты про это! Ну, чего кричишь? Это не я. Я был нем, как рыба. Я же к постели прикован! Тебе на меня наговорили.
В Вовкиных лазурных глазах светилась младенческая лживость. Самоваров махнул рукой, встал, но из дверей погрозил пальцем:
– Только пикни еще про меня – вот этой подушкой беленькой удушу!
– Ты не Отелло, а я не Таня Пермякова, – беззаботно оскалился Кульковский. – Вопи, душитель, поосторожней, не то повесят на тебя всех собак, какие сдохли в Ушуйске за последние шестнадцать лет. Таниного-то душителя так и не нашли. И не найдут!
– Ты почем знаешь? Карнаухова ведь задержали!
– Задержали. Но за насилие над следователем. В смысле, не изнасиловал он следователя, а чуть потряс. Этот и до смерти затрясет. Горячий юноша!
– Юноша? Ты про которого это Карнаухова?
– Про какого ж еще? Один у нас юноша, вечный Ромео – Геннадий Петрович.
– И Таню – он?
– Кто знает? Болтают все, что он – больно уж Дездемону свою бывшую поколачивал. Но это давно было. И улик нет. Нет отпечатков пальцев, плевков, следов кровавых ног. Ничего! Не нашли. Может, не особенно и искали. Следователь всех уверяет, что заезжий кто-то заехал, задушил и уехал. У нас в городе таких извергов нету!
– Как это ты, в своей постели лежа, все подробности знаешь? – удивился Самоваров.
– А город у нас небольшой, и я довольно давно тут живу, – самодовольно пояснил Вовка. – Мы все свои.
– Так вот, если и дальше тут жить хочешь, – сделал Самоваров строгое лицо, – обо мне больше ни слова. Даже правды не надо, не то чтобы врак. Смотри у меня!
Он показал кулак улыбке Кульковского и вышел на улицу. На душе его лежал теперь камень – еще безымянный, просто серый, просто тяжелый, но ясно было, что не все с ним, Самоваровым, ладно, и даже убитая Таня играет тут какую-то непонятную роль, и другие ушуйские странные лица тоже. Да нет же, дело в Насте! Он что, женат на ней? Или она в самом деле этого хочет? Не может быть. Это продукт шкодливого ума Кульковского. Лена не могла такого сказать – такая умная, такая проницательная во всем житейском. Но все, что Кульковский про него врет, не вполне вранье, а скорее дико вывороченная наизнанку правда, искаженная до полной неузнаваемости. Так неужто и про Настю правда, и он уже и влюблен, и женат? Спит же он с ней – да и влюблен отчасти… Как может тип, не поражающий красотой даже Кульковского, тип, которому катит-таки к сорока, не быть отчасти влюбленным в молодую и прелестную девочку, которая так странно и неожиданно далась ему в руки? А вдруг Вовка прав, и она от кого-то беременна? Некстати тут и вспомнились всяческие сластолюбивые бородатые физиономии, виданные им прежде вокруг Насти. Нет, вздор, сальные измышления Кульковского! Отчего бы ей и не влюбиться? Любовь зла. В конце концов, он далеко не так немолод, как Геннаша, а влюбилась же в того молодая Таня! Или не влюбилась? Просто хотела ролей? Верховодить хотела в этой дурацкой труппе? Водить на веревочке самого высокочтимого жеребца, как считает Альбина? Любила, видно, водить на веревочке, даже бедного Юрочку не брезговала с ума сводить, даже Кыштымова дразнила. Вот и доигралась, как говорит Мариночка, которая так ее ненавидела. А почему ненавидела? Потому что сама хотела бы всех водить на веревочке. А не выходило. Где замешлись женщины – ничего не понять…
Рассуждая так, Самоваров добрел по свежему душистому снежку до пузатоколонного здания театра. Смеркалось, сумерки щекотали душу, хотелось себя жалеть и получать подарки судьбы. Последнее в некотором роде осуществилось: неподалеку от театрального подъезда его тронул за рукав какой-то молодой человек. В полупотемках бесстрастно улыбнулось красивое, будто напудренное лицо.
– Господин Самоваров?
– Господин Самоваров.
Молодой человек протянул Самоварову визитную карточку. В свете слабенького, как болотный сполох, фонаря засияло золото, аккуратное и густое (такое бывает на дорогом фарфоре):
КУЧУМОВ
Андрей Андреевич
Предприниматель
Так значилось на карточке. Маленькие буковки, какой-то гербик – его нельзя было разобрать в потемках. С обратной стороны та же надпись, только по-английски. Поперек и наискосок этой красоты шло неловким мужским почерком: «Жду. Очень важно», а ниже – большая, кудрявая, неразборчивая подпись, похожая на спиральный провод, которым поиграл нервный мальчик.
Самоваров снова глянул на непроницаемого красавца-слугу (пудреность щек и шея гладиатора – кто он? лакей? телохранитель? порученец?) и медленно кивнул. «А почему бы не посмотреть в глаза тому, кто меня чуть не отравил? – решил Самоваров. – Любопытно. Никогда не видел водочных королей».
Слуга чуть отступил. Ого, какая огромная прислана за Самоваровым иномарка – неразличимого впотьмах цвета и неизвестной Самоварову модели – он не был силен в подобных вещах. Он понял только, что очень красивая машина, плавных линий, совершенная по форме, как обсосанная карамель. На крыше поблескивал тонкий слой бриллиантовой пороши. Ждал его красавец, раз даже снежком присыпало. «И повезут меня на роскошную виллу с золотыми унитазами, привяжут там к батарее, а в трубы дадут кипяток. Знаем, кина смотрим!» – весело подумал Самоваров и опустился в объятия автомобильного кресла.
Ехали они не на виллу и совсем недолго. Ресторан «Кучум» встретил их веселыми разноцветными огнями. У входа призывно-отталкивающе светилось сильно увеличенное изображение хана с водочной этикетки. Автор портрета вложил в него столько чувства, что можно было простить ему некоторые нелады с анатомией.
Дизайн зала тоже был очень симпатичный – кровавые потемки, на стенах рога и шкуры, на столиках что-то вроде коптилок. Танцовщица, вся в кусочках меха, кое-как связанных веревочками, стала как раз задорно кидаться на стриптизный столб – или как там у них эта штука называется? Самоваров до того засмотрелся на нее, что наткнулся на большой, умеренно твердый предмет и едва не вскрикнул: над ним скалилась пластмассовыми челюстями какая-то страшная черная морда. В рубиново-красных глазах морды застыла пуговичная невозмутимость. Это было чучело медведя, установленное дизайнером в центре зала для сгущения местного колорита. Самоварову повезло застать диковинку: чучело готовилось к реставрации. Бедный медведь сильно страдал от фамильярности посетителей, даже руки об него вытиравших. Было решено перенести его на сцену, и одна из девушек-стриптизерш стала репетировать с ним нечто волнующее.
Прекрасный слуга Кучума терпеливо подождал, пока Самоваров разобрался с медведем, приподнял на стене шкуру (за ней оказалась обыденная белая дверь) и по скромной лестнице свел куда-то наверх. Самоваров ожидал увидеть контору, кабинет, но они оказались в помещении, еще более экзотическом, чем все другие в «Кучуме». Периферийный ресторан имел, оказывается, второй ярус, что-то вроде той директорской ложи в театре, к которой так привык за последние дни Самоваров. Дизайнер еще гуще, чем прочие, увешал этот уютный уголок рогами и шкурами. Сверху отлично виден был весь зал. Танцовщица к этому времени уже скинула с себя часть меховых нашлепок и теперь пыталась довольно негигиенично защемить столб тренированными ягодицами, малиновыми от зловещего освещения. А в директорской ложе, за столом, на котором тускло горела фальшивая коптилка и поблескивали тарелки и бокалы, сидел сам Андрей Андреевич Кучумов.
Самоваров наивно полагал, что портрет звероподобного Кучума для водочной этикетки делался с хозяина предприятия. Тем приятней было вместо злобного и криворожего хана увидеть довольно приличного господина в хорошем костюме, с толстым носом и толстым, будто накладным, животом. Господин приветливо подвинул Самоварову стул. Пришлось засесть за тарелки.
– Вот захотелось с вами познакомиться, – начал Кучумов. – Я о вас много слышал.
«Неужто Кульковский, эта свинья в кружевах, со своими сплетнями и до таких лиц добирается?» – изумился Самоваров.
– Давайте-ка слегка покушаем и поговорим. Обычно я ужинаю позже, но сегодня новая программа, надо было глянуть. Я вижу, вам нравится? – улыбнулся Кучумов.
Самоваров спохватился и наконец отвернулся от стриптиза.
– У меня к вам маленькая просьба будет, – продолжал Кучумов, поднимая наполненную крохотную хрустальную стопочку и жестом приглашая гостя сделать то же самое. – Нет, не пугайтесь, ничего серьезного! Кушайте!
Самоваров махом, чтобы скорее избавиться, опрокинул в себя водку. Со страхом ожидал он мерзкого ощущения, какое испытывал всякий раз, когда имел дело с кучумовкой. Но сейчас, напротив, почувствовал только приятное тепло, легко растекавшееся в груди. Кучумов же, медленно выцедив содержимое стопки, подержал его во рту и, проглотив, удовлетворенно причмокнул.
Тепло переместилось уже в желудок, и Самоваров стал усердно поглощать какое-то темневшее перед ним на тарелке мясо (оказалось, это лосятина под брусничным соусом). Кучумов тоже жевал и поглядывал на Самоварова небольшими медленными глазками.
– Хорошая у вас здесь кухня. И интерьер красивый, – наконец решился Самоваров на светский комплимент, потому что с ужасом обнаружил: он съел все мясо! Ему несли уже что-то другое.
– Дизайнера из Москвы привозил, – самодовольно отметил Кучумов. – Думаете, у нас такая глушь, что на стенах известка, а подают в мятых мисках?
– Я сам не из столиц. Знаю, что глушь теперь понятие относительное. Где дело, там не глушь. Вот у вас жизнь кипит, водка варится.
– И превосходная водка! – нажал Кучумов. – Превосходная!
Самоваров не стал возражать, потому что мясо было отменное, да и водка, против ожидания, не вызывала в нем давешнего отвращения. Непонятно к тому же, что от него нужно этому винокуру.
Винокур несколько склонил широкую, ничуть не ýже головы, шею. «К делу переходит», – предвкусил Самоваров.
– Дело у меня к вам такое, – действительно начал без затей Андрей Андреевич. – Я слышал о вас как о человеке умном и не болтливом. Умеете вы в некоторых делах разобраться. Про банкира, про Семенова, знаю, про оленьковские штучки наслышан.
«О, это не Кульковского работа!» – понял Самоваров.
– Надо помочь одному человеку. Слегка помочь, – Кучумов покряхтел и позвякал вилкой по бутылке кучумовки. – Вы сейчас работаете в театре. А там нехорошее дело случилось, слыхали?
Самоваров кивнул с набитым ртом. «Перестань, быдло, жевать», – приказывал он себе, но не мог остановиться и совал в рот кусок за куском.
– Надо потихонечку там покопошиться, разузнать, что к чему. Потому что хороший человек пострадать может, – весомо проговорил Кучумов.
– Какой хороший?
– Карнаухов. Геннадий.
– Да, я слышал, его задержали, – снова закивал Самоваров.
– Выпустили уже! Он чего-то там в прокуратуре нашумел. Следователь – парень неглупый, понял: расстроен человек смертью жены. Они ведь женаты были с Таней, знаете?
– Угу.
– Но не в этом дело! То плохо, что алиби у него нету. Вернее, вообще неизвестно, где он той ночью был, что делал. Сам никому не говорит ничего. А почему – не знаю.
– Возможно, он и…
– Нет! – отрезал Кучумов. – Не он это. Я с ним виделся, и он сказал: «Не я». А мне он не соврет.
– Да-да. Я знаю, вас уважает творческая интеллигенция. Вы любите театр… – светски улыбался Самоваров, борясь с губительным ароматом следующего блюда.
– Плевая я на театр! Ты пойми: мы с Генкой со школы дружим. Оба ведь из Прокопьевска, и дома рядом были, и все такое прочее… Потом как-то разбрелись, разъехались. В восемьдесят восьмом я в Ушуйск приезжаю – а он тоже тут. Артист! Опять сошлись. Мужик он классный. Хороший мужик. Рыбак. Вот и стал я спонсором, только слово другое есть, на «мэ»…
– Меценатом?
«Так-так! Ну, понятно теперь, чего это Мумозин, гордый, как тетерев, терпит Геннашины трепки. Денежки-то отсюда! Царские шубы, гарнитур «Отелло»!» – позабавился Самоваров. Ему вдруг симпатичен стал толстошеий водочный хан, и сделалось интересно. Даже то, что Кучумов перешел с ним на «ты», не обижало. Видимо, ему так привычнее.
– А, собственно, я вам зачем? – спросил Самоваров. – Вы большой человек, все у вас здесь в руках. Стоит слово сказать, и – не знаю уж, приятно вам это слышать или из деликатности неприятно – все встанут навытяжку.
– Не могу я. Не то время.
Андрей Андреевич испустил шумный пневматический вздох, наполнил свою стопочку и, даже не предложив Самоварову, выпил залпом.
– Не могу я сейчас! Свои дела, свои заботы… Вот ты сейчас хорошо про глушь сказал. Этот город я из глуши вытащил! Я! Со спиртового заводика начинал, А как из грязи чуть заблестело, так и полезли нетские. Концерн «Водка Сибири». Может, слыхал? А еще пуще москвичи. Не суйся, мол, с ушуйским рылом в калашный ряд. Москвичи особенно народ бешеный. Мешаю я им, вот и гадят на всех уровнях. Пикеты нанимают, блеют каждый день по телевизору, что я природу сгубил. Налоговая, ментовка, пожарники, санэпидстанция – веришь – из ворот не выходят. А еще начали какую-то пакость с моей наклейкой подпускать – вот, мол, я не только мхи да лишайники потравил, но и народ извожу! А алкаши рады без ума – продают-то по дешевке!
– Да, да, да! – оживился Самоваров. – Мне как раз такая дрянь попадалась.
– Вот видишь! А где покупал?
– Соседи по квартире угощали. Я узнаю, где они берут.
– Узнай! Мои ребята разберутся. Война! Навоз мне в Пайду, в речку, откуда воду берем, по ночам спускают Народец больше теперь продажный, на все готов. Дело на меня «зеленые» открыли – иск от имени мхов и лишайников. Э-э-эх!
Андрей Андреевич снова вздохнул, опять налил и аккуратно сглотнул кучумовки. Пил он благородно, это Самоваров уже отметил, а мог бы, судя по комплекции, стаканами глушить.
– И вот особо суетиться насчет Генки мне сейчас не с руки. Конечно, есть у меня своя служба безопасности, и неплохая. Но ребята по нашим, по коммерческим делам специализируются. А тут театр! Это же дурдом – извини, если обидел. Нормальному человеку не подступиться. Да ты не волнуйся, ничего особенного мне не надо.
– Я не волнуюсь, просто не понимаю пока, чем могу быть полезен, – уточнил Самоваров.
– Дело нехитрое. Конечно, если до суда дойдет, дам адвоката хорошего – я уж и предлагал сегодня Генке. Но пока не надо. Главное вот что: не Генка это сделал. А кто? Театральные это делишки. Вечно у них страсти-мордасти. Ты сейчас там идишь, а изнутри видней – народ театральный болтливый. Может, кто что знает, кто видел чего, слышал. Мы-то не знаем даже, к кому подступиться. Следователю ни один ни фига не скажет, а своему человеку… Помышкуй! А я хорошо заплачу. Не в рублях, конечно.
Опять! У Самоварова от изумления грибок булыжником застрял в горле.
– Только намек дай, в чем там дело, и – главное, кто. Потом уж мы сами раскатаем, – гудел Кучумов. Он еще ниже пригнул шею и заговорил на полном, не терпящем возражений серьезе:
– На театр я плевал, Генку жалко! Да и мой интерес тут есть. Болтают, что у меня было что-то с ней, с Таней. Развозят теперь, что это я ее грохнул. У журналистов мозги тараканьи, чего только не наврут, если им заплатят. А сейчас желающих меня в дерьме утопить полно. И вот пожалуйста: пишут, что Таню по моему приказу убрали. Как Мерилин Монро. Вроде знала она много про мои якобы махинации да про дома на Лазурном берегу. Шантажировала она, видишь ли, меня. Вот я и велел ее загасить. Уже в двух газетенках это читал! Так и называется – «Ушуйская Мерилин Монро». И фото ее. И мое рядом! Сволочи!
Самоваров сочувственно вздохнул:
– Четвертая власть!.. Или пятая? Как-то так они себя называют.
– Давить их надо, – выдохнул Кучумов после очередной стопочки. – Вот ты и помышкуй. Не Генка это. И не я. Вот это точно известно. А кто? Найди его.
Самоваров тупо смотрел на вазочку с икрой. Ему вдруг невыносимо захотелось спать. Скверные впечатления последних дней и бессонные ночи с Настей вконец истомили его. Теперь, набив живот, в полутьме, под звуки музыки, которая не смолкала ни на минуту и поддавала глухими ударами откуда-то снизу, из зала, в пятки, он поплыл в нежную пустоту сна. Чтобы совсем в ней не утонуть, он откидывал назад голову и до предела округлял глаза в потолок. Это ненадолго помогало, и он включался в беседу. Вот и теперь он заметил довольно внятно:
– Что-то такое раскопали, раз статьи пишут. Только переврали, истолковали неверно…
– Да не было ничего! – проскрежетал Кучумов. – Вот деньги, доллары, что у нее нашли, – те точно мои. Приходила ко мне три дня назад: «Дядя Андрей, уезжать хочу, дайте на билет!» Я на радостях и отвалил ей эти три тысячи. Не деньги ведь! Больше бы дал – не взяла. И как обрадовался я, что она наконец куда-нибудь уберется отсюда! На Генку ведь смотреть невозможно. Уж молчу про Глебку. Он ведь каждый день тут у меня. Я приглядываю, чтоб все прилично было. Врач-нарколог здесь у меня дежурит – народ гуляет все уважаемый, если что… Укольчик, промывание… Домой – в лучшем виде. Так Сергей Иванович все Глебку лечиться уговаривает, а тот кричит: «Не хочу лечиться от жизни!» Да он что, он молодой, он отойдет. А Генка?
Андрей Андреевич горестно вскинул маленькие глазки.
– Да, не повезло Генке с Татьяной, – вздохнул он философски. – И Альбину жалко. Хорошая баба Альбина. Нет, я Генку не осуждаю, сам женат третьим браком на молоденькой. Но я-то свою в руках держу. Тряпки всякие, побрякушки – сколько угодно. Зато попробовала бы она у меня номера выкручивать!..
– Какие же такие номера Таня выкручивала? – полюбопытствовал Самоваров.
– Это и не рассказать нормальному человеку. Черт ее знает, – попытался ответить Андрей Андреевич. – Странная она была какая-то… Генке трудно пришлось. Он хотел, чтоб она вроде Альбины была, только свеженькая. Чтоб любила, чтоб щей тарелку налила, чтоб следила, как там у него пиджак, не в каше ли. Не знаешь чего по молодости – учись! Так нет, она все в театре торчит, домой не спешит, а мужичье вокруг нее так и вьется… Он, конечно, ее поколачивал. И Альбину бил (зря, я считаю, таких баб поискать!) – но Альбина понимала, Альбина и сама, бывало, так ему сковородником залепит, что он неделю косой ходит. Помирятся, и любовь слаще ему, косому. Татьяна – не то… Татьяна сразу за дверь – кричать, жаловаться. Все по знакомым бегала, по актерам, ночевала даже у них. Ухожу, Геннаше говорит, к такому-то от тебя… Ну, кто такое выдержит?