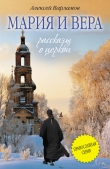Текст книги " Варламов"
Автор книги: Сократ Кара
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
ветствующую реплику), так вот как я тебе отвечу (следуют
слова по своей роли). Что ты на это скажешь? Ну, говори!
Спектакль продолжается...
«Если бы это был не «Через край», все провалилось бы. Но
для пьесы «Через край» это – спасение. Пустую и не очень
смешную пьесу Варламов сделал радостной и веселой... Это
была настоящая commedia dell’arte, которую в последний раз, мо¬
жет быть, только играли во времена Гоцци. И если в то время
играли так, как Варламов, то можно смело сказать, что публика
театра Гоцци умела смеяться от всей души», – так пишет участ¬
ник этого спектакля Б. А. Горин-Горяинов (дело было на гастро¬
лях в Малаховке).
Б. А. Горин-Горяинов вспоминает итальянскую комедию ма¬
сок, а наш современный театровед учинил бы длинное рассуж¬
дение об «эффекте очуждения», утверждаемом театром Бер¬
тольта Брехта, о том, как актер «выходит из образа, играет
отношение к нему и снова входит в образ»... И был бы прав,
будь что-то преднамеренное, обдуманное, умышленное в таком
сценическом поведении Варламова. А то ведь дело-то какое: на
варламовской свободе лицедейства никаких теорий не построишь,
не пускаясь в праздные домыслы.
Его по-детски безотчетное доверие к самому себе, к своему
творческому наитию было уместно 'и оправдано только в его
случае.
X
Весело жил на свете беспечный человек...
Любил вкусно поесть. И угощать страсть как любил. Семьи
не имел, но никогда не садился за стол один. Даже в самый
будний день обедало у него десять, а то и пятнадцать гостей.
Зазывал к себе всякого, с кем познакомится. И приходили.
И всякого встречал радушно, потчевал от всего сердца, до отвала,
наподобие того басенного Демьяна.
«В его доме,– пишет Ю. М. Юрьев в «Записках», – всегда
толпился народ и, надо сказать, самый разнокалиберный. Тут
можно было встретить и важного чиновника из министерства, и
видного генерала, и купца, и даже приказчика-гостинодворца,
священника и пр. Гостеприимство Варламова было «притчей во
языцех»; он приглашал к себе без разбора. Кроме того, к нему
можно было прийти просто, как говорится, на огонек, без всякого
приглашения... Константин Александрович часто и сам не знал,
кто у него в гостях».
Случалось, у себя же за обеденным столом спрашивает со¬
седа тихим шепотом:
– Не знаешь, кто вон тот господин в черной паре?
– Ну, что вы, Константин Александрович, – ухмыляясь го¬
ворит тот, – это князь...
И называет замысловатую двойную фамилию.
А Варламов сразу к гостю:
– Ешь, князенька, попробуй расстегаев.
Со всеми был на «ты».
– Налей себе, князенька, хересу.
– Пирога, князенька, пирога с черной смородиной.
Гость не выдерживает:
– Да что вы, Константин Александрович, все «князенька»
да «князенька»?!
– А как же?
– Так ведь актер я. Греков – моя фамилия, неужто запа¬
мятовали? В Одессе были у нас на гастролях, там и познакоми¬
лись, пригласили: «Будешь, мол, Греков, в Петербурге, милости
просим, заходи!»
– А-а-а, так, стало быть, Греков? Ну и спасибо тебе, Гре¬
ков, что не забыл. Ешь, голубчик, вон пирога попробуй со смо¬
родинкой! Хересу, Греков, хересу налей себе...
Другой раз кто-то из друзей спрашивает у самого:
*– Кто это у тебя в гостях, Костенька?
А он и не знает ни имени, ни фамилии.
– Хороший человек, – только и может сказать. – По лицу
видно, хороший человек. И ест с аппетитом...
Кто-то, вставая из-за стола после обильного ужина, сказал:
– Спасибо, Константин Александрович, это был прямо Лу¬
куллов пир!
– Лукулев? Это кто же такой, Лукулев? Купец? И повар
у него хорош? Нельзя ли сманить его? Удружи, голубчик,
смани...
А был и такой случай.
Подали к столу макароны. Варламов сразу засиял.
«– ...Мне книгу давали господина Дюма. В ней сказано, что
какой-то царь, чтобы уверить восставший народ, будто он на его
стороне, потребовал макароны и ел их при народе прямо ру¬
ками без ножа и вилки. Говорят, что в Италии макароны только
так и едят. Вертят по тарелке этаким вертуном, чтобы соус нс
успел сойти, и в рот!
– А какой же это царь?
– Не знаю, милый. Итальянский какой-то.
– А роман как называется?
– Не помню уж, дорогой. Был простужен, не велели выхо¬
дить и говорят: «Что ты все вяжешь да вышиваешь, ты бы кни¬
жечку почитал», —и дали книжечку. А как она называется,
право, не помню.
– Дядя Костя верен себе. И царя забыл, и книжечку забыл,
а что ели и как ели – помнит хорошо.
– Так ведь интересно. Все хотел сам так покушать, да слу¬
чая не было.
– А не попробовать ли сейчас, а?
Решили попробовать... Мы с завистью глядели, как Варла¬
мов запрокидывал голову, открывал свой большой рот и отправ¬
лял туда громадный пучок змеевидных макарон. Затем опускал
голову и втягивал в себя непослушные, разбегающиеся мака¬
роны. Они крутились, вертелись, становились все меньше и
исчезали. Это было похоже на волшебство». (Рассказано Б. А. Го-
риным-Горяиновым в книге «Кулисы».)
Самодовольно заявлял бывало:
– Едоков, равных мне, нет во всей России. Говорят, царь-
батюшка Александр третий был здоров на этот счет. Да ведь
деликатесы подавали ему всякие. Поди, не кашу гречневую
с топленьщ маслом...
Над необычайной тучностью своей охотно подтрунивал сам.
– Застегни-ка, дружок, пуговичку на моем жилете. Тебе
там ближе...
– Доктора наказывают мне кушать морковку, яблоки да
запивать все молоком... Дураки! Разве ж такую сумасшедшую
тушу накормишь морковкой?
Достаток свой не берег, как сквалыга. Тратиться – рука не
дрогнет, делиться – с готовностью. Годами поддерживал бедных
студентов, особенно медиков. С первого курса – до окончания
обучения. Говорил:
– Людям нужнее всех – лекари!
Из своего кармана выдавал ежегодные «пенсионы» сошед¬
шим со сцены одиноким старым актрисам.
– Мои подружки, – говорил о них, хотя с иными не был
знаком и никогда не играл на сцене.
Таков был дом, быт, внешний строй жизни Варламова.
И мало кто знал, что на душе у этого веселого, беспечного,
удачливого человека. Не склонен был открывать ее, не искал
случая и не пользовался им, когда выпадал повод говорить
о том, что тревожит, не дает покоя.
Только в письмах к А. И. Шуберт, «милой маменьке», иной
раз давал волю чувствам.
«Живу выше своих средств, кучу напропалую, по три ночи
не сплю и т. д. Все это, знаю, вам не понравится. Люди это на¬
зывают «веселой жизнью», а я называю «поденщиной», в стадо
попал, лай не лай, а хвостом виляй... Живу так: весь в людях,
а душой одинок...»
Не много сохранилось его писем к А. И. Шуберт (46 в Ба-
хрушинском музее и 5 в других архивах). И письма эти полны
хвастливых сообщений о громких успехах на сцене, о получен¬
ных от благодарных зрителей дорогих бенефисных подарках,
всего того, что А. И. Шуберт называла «бездумным актерским
легкожитием». Но нет-нет да и скажется в этих письмах неожи¬
данное, что-то непохожее на Варламова: осуждение, недоволь¬
ство собою, ролями, театром. Может статься, только тогда и са¬
дился писать «дорогой старушке» Александре Ивановне, когда
одолевало смутное беспокойство.
«Хорошо вы это сказали, моя умница: «актеры должны ра¬
зыгрывать пьесы, а не роли». Да не дошли мы до этого. Первый
Давыдов не понимает того, что вы так хорошо выразили, а за
ним Сазонов, Савина и прочие... Пьесы идут недурно, но многое
разыгрывают дрянно». (13 сентября 1893 г.)
«О театре многое нужно бы написать вам, но он так надоел
своими интригами и дрязгами, что просто нет охоты упоминать
о нем. Эти дрязги не касаются меня, и за это спасибо...
Но когда подолгу глядишь на букашки и микробы мира сего,
то делается так же противно, как сыр под микроскопом». (13
июня 1897 г.)
«Репертуар идет смешанный, неважный. Обстановка спек¬
таклей роскошная, а постановка плохая, режиссерская часть
хромает, особенно неудачно раздаются роли, ансамбля положи¬
тельно нет». (31 октября 1897 г.)
Свои письма к Шуберт он по-прежнему подписывает:
«Ваш сын Костя».
Даже когда пишет:
«На носу очки, а в пачпорте 51 год», – все равно:
«Ваш сын Костя».
В этих письмах Варламов все жалуется на свое нездоровье:
«совсем разучился спать», «тучнею и тучнею», «опять растол¬
стел», «горло болит, голос садится», «ноги болят»... Сетует на
свое «тоскливое одиночество»: «нет рядом родной души», «чего-
то не хватает в моей жизни».
Не хватало Варламову своей семьи. Еще в юности сердце его
больно ранила неразделенная любовь. Было это давно, но не
забылось. И другой любви не случилось в жизни Константина
Александровича, о женитьбе и не помышлял. А все-таки решил
создать свою семью... Взял к себе маленькую Анюту, дочь мно¬
годетных родителей, людей, как он писал, «пьяных, вздорных,
несносных». И удочерил ее как положено, по закону.
Так, появилась в конце 70-х годов в его доме девочка, кото¬
рую отныне зовут Анной Константиновной Варламовой. Нодом
этот, суматошный и безалаберный, не очень-то гожее место для
воспитания маленькой: днем – труба нетолченая гостей, вечные
ночные бдения... Да еще донимали родители Анюты, то и дело
являлся отец – «всегда пьяный, всегда бранится непристойно»
или мать – «крикунья и сплетница».
Варламов отдал Анюту на воспитание «в очень порядочную
бездетную семью», взяв на себя все материальные заботы о де¬
вочке. А их немало: не только хорошо кормить, красиво одевать,
но и постоянно лечить. Была Анюта слаба здоровьем, худа,
кашляла надсадно. Пришлось вывезти ее из холодного и сырого
Петербурга. Два года прожила Анюта в Аренсбурге у «доброй
Альмы Васильевны», которая, кстати, учила ее немецкому языку.
Потом он наймет еще и учителя французского языка, пригласит
преподавателя музыки. Анюта должна быть образованной де¬
вицей.
Константин Александрович неуклонно следит за воспитанием,
учением, лечением Анюты. Пишет письма ей, не забывает о своих
отцовских обязанностях даже в сутолоке гастрольных переез¬
дов. Но не много мудрости в его письмах, наставления «дорогой
деточке» – почти сплошь из расхожих словес и общих мест: «Не
ленись, учись прилежно, для твоего же добра говорю», «следи
за своим здоровьем, не пропускай часов приема лекарств», «от
души желаю тебе веселиться, но прошу еще раз – работай и
учись», «не ленись, потом каяться будешь, да поздно будет»,
«лечись усердно, старайся быть приятной для всех», «порадуй
меня прилежанием и благонравием», «уверен, что меня ты не
станешь огорчать, а будешь пай-девочкой»... Все в этом роде.
Делает замечания Анюте: «Я недоволен, что до сих пор ты
не выучилась даже понимать по-немецки», «русская грамота
тоже плоха, пишешь очень плохо, с ужасными ошибками»... При
этом – сам пишет с ужасными ошибками.
Часто шлет ей подарки, сопровождая их подробной описью:
кукла, календарь, шелк на платье, туфли, конфеты... Тратится
на нее, не жалея денег. Но тут же учит Анюту бережливости:
«Не транжирь по пустякам», «помни, что мне деньги очень тя¬
жело достаются», «на деньги не смотри, как на щепки, береги
их», «не будь мотовкой».
А случается, пишет о том, о чем, может быть, и вовсе не
следовало: «Видел твою маменьку, она неисправима, сплетничает
и врет по-старому»; или «родители твои здоровы, по-прежнему
несносны, много нам, Анюта, с тобою хлопот будет с ними, они
ужасно глупы оба».
И редко, чрезвычайно редко врываются в письма к Анюте
очень свои, выстраданные собственным опытом необщие слова:
«Я по себе знаю, как тяжело быть невеждой и как тяжело отзы¬
вается это в жизни».
И кажется, что письма эти пишутся главным образом ради
одной самой дорогой его сердцу строки, которую он и выводил-
то особенно четко и с очевидной радостью. Строка эта – подпись:
«Любящий тебя папа».
Или – с еще большим удовольствием:
«Твой папочка».
Для всех был другом – Костенькой, дядей Костей; для
Александры Ивановны – «ваш сын Костя». Для Анюты – «папа»,
«папочка»!
А стала ли Анюта родною душой в доме одинокого Варламова?
Не был ли «папа» еще одной ролью, которую он добровольно
взял на себя? Пожалуй, что так! И говорится это не в осужде¬
ние, нет! Как и всякую другую роль, исполнял и эту искренне,
с полной душевной отдачей. Но сама дочь не сыграла в его
жизни сколько-нибудь существенной, даже просто заметной
роли. Во всяком случае, друзья Варламова, те, кто были близки
к нему, посещали его дом, те, кто оставили воспоминания о нем,
ни словом не обмолвились об Анюте или Анне Константиновне,
будто и не было ее вовсе... Видно, не заняла она места в доме,
в жизни, в судьбе Варламова.
Он и сам, должно быть, понимал, чувствовал это. Как ни
любил хвастаться по каждому поводу, никогда не хвалился
своей дочерью. А ведь не преминул бы, будь на то основания.
Например, ни разу об Анюте в письмах к А. И. Шуберт, с кото¬
рой всегда делился всем. Наоборот, спустя и много лет после
удочерения Анюты, по-прежнему писал Александре Ивановне
о своем одиночестве, о том, что «стараюсь веселиться». И жирно
подчеркивал слово «стараюсь»...
Да, старался жить весело. И преуспевал в этом.
В великий пост, когда на целых семь недель по требованию
Синода закрывались двери театров, у Варламова – «капустники».
Эти веселые вечера назывались так из-за пирогов с капустой,
которые знаменито пеклись в его доме. Кто только не бывал
на «капустниках»... Гостей —со всех волостей! Конечно,
друзья – александрийцы, певцы и певички из Мариинского те¬
атра, писатели и художники, опереточные актеры и актрисы,
известные петербургские адвокаты и газетчики, заезжие провин¬
циальные артисты: люди всякого звания, – только чтоб нескуч¬
ные были.
Актриса Мария Ивановна Велизарий рассказывает (в книге
«Путь провинциальной актрисы»):
«Когда я в первый раз попала на такой капустник, я была
поражена. На лестнице, от первого до пятого этажа, стоял
страшный гул. Раздевались в швейцарской, где работало не¬
сколько человек под руководством театрального швейцара. Шуб
было навешано, как в театре.
Поднимаюсь по лестнице на пятый этаж – везде курящие
мужчины. Шум и смех все увеличиваются. Двери квартиры —
настежь. Сам Варламов стоит тут же и встречает гостей. Гро¬
мадная фигура, славное, улыбающееся лицо.
Я, маленькая, никому не известная актриса, вхожу с одним
небольшим актером Александрийского театра, – но у Варла¬
мова для всех одинаково радушный прием. Меня знакомят. Моя
рука тонет в его громадной ручище. Он меня уже запомнил и,
к моему удивлению, в продолжение вечера несколько раз подхо¬
дит ко мне, расспрашивает о моей работе, угощает, видимо,
заботится о том, чтобы мне не было скучно...
Кругом такие «имена», что глаза разбегаются: не знаешь, на
кого смотреть. Варламов и не присаживается... Он всех обходит,
не оставляя ни одного человека без внимания. Проходя, шутит,
говорит каждому что-нибудь приятное или забавное.
Чувствуешь себя как дома, точно много лет знаком с этим
милым, громадным человеком».
Подают пироги с капустой и цейлонский чай – особой «вар-
ламовской заварки». Начинает петь солист Мариинского театра
Александр Михайлович Давыдов. Поет под гитару, с большим
и захватывающим чувством, романсы А. Е. Варламова. А хо¬
зяин дома, дядя Костя, загодя запасся батистовым платком:
всегда плачет, если поют отцовское...
Потом – начинаются песни хоровые. Заводят веселые дере¬
венские частушки, сочиняют их тут же, высмеивая друг друга.
И как бы ни было зло – обижаться не положено. Пришел
к Варламову – понимай шутку!
Карт в доме не держат. Дядя Костя всю жизнь суеверно бо¬
ялся карточной игры, не мог позабыть, что отец умер за лом¬
берным столом. В лото – можно, это – пожалуйста. Но не на
деньги. Выигравшему – приз: варламовское рукоделие – кру¬
жева или вышивка.
«Капустники» кончаются танцами. Сам не танцевал, но лю¬
бил составлять пары: Савину со знаменитым златоустом
Н. П. Карабчевским, красавицу Медею Фигнер с художником
Ю. Ю. Клевером, опереточную диву (вся в бриллиантах!)
Л. И. Шувалову с острым на язычок фельетонистом Власом
Дорошевичем, всегда смирную в жизни Комиссаржевскую с за¬
пальчиво веселым Ходотовым... А сам, наконец, садился в уют¬
ный уголок с александринскими «старухами» В. В. Стрельской
и Е. Н. Жулевой разглядывать альбомы кружевных узоров и
рисунков для вышивок.
«Утром, – рассказывает М. И. Велизарий, – пришли поло¬
теры. Еще не ложившийся спать Варламов обходил комнаты.
В гостиной на диване спит какой-то человек. Варламов очень
вежливо будит его. Тот просыпается. Оба удивлены: они друг
друга совсем не знают. Оказывается, этот человек вечером шел
мимо дома, услышал голоса, которые неслись с пятого этажа по
лестнице, увидел интересную публику, мужчин, куривших на
этой лестнице, и зашел. Прекрасно провел вечер, поужинал,
даже попел в хоре и лег спать. Вот только жаль, с хозяином не
познакомился.
Такие случаи у милого Варламова бывали нередко».
Одного его гостя полиция арестовала при выходе из дома.
Потом Варламов рассказывал в театре:
– Приходит ко мне пристав. «У вас, говорит, злоумышлен¬
ник скрывался, царев супостат». Никакой, говорю ему, не су¬
постат, очень даже приличный господин, книжки, говорю, читал
мне вслух. А пристав за свое: «Какие книжки, крамольные?»
Не помню, говорю, как начнут мне читать вслух – так я засы¬
паю, с меня и спрос невелик. А господина того, говорю, выпу¬
сти, ваше степенство, не может он быть в чем виноват. Уж не
знаю, выпустит или нет, страх как суров обличьем пристав.
«Полную неделю, говорит, скрывали вы государственного пре¬
ступника». А я никого не скрывал, дом у меня сквозной, живет
человек и живет... Сказался приезжим: «родственников, мол,
в Питере не имею». Не гнать же вон?!
И, слушая Варламова, смеялись все.
Да вообще: где Варламов – там смеха не оберешься.
Сам же не без горечи рассказывал:
– Хоронил я свою старую няньку. Иду за гробом, а слезы
так и катятся из глаз. Очень любил я эту старуху, хорошая
была, добрая, жалостная. Померла... Иду, значит, за гробом и
плачу. А народ останавливается, глядит на меня и смеется.
Долго не замечал я этого, а потом гляжу: смеются. «Чего, думаю,
дураки, смеются?» Стал прислушиваться. И вот один, с виду
приказчик, толкает соседа локтем в бок и говорит: «Варламов-то
слезу пустил по-настоящему, а все равно смешно!» А другой от¬
вечает ему: «Ничего не по-настоящему. Притворяется... Артист!»
А ведь смеются и те, кто слушает этот невеселый рассказ!
А вот – Б. А. Горин-Горяинов:
«Вижу, что к дому, скосившись на один бок, подъезжают
дрожки. На дрожках сидит нечто огромное, толстое, увешанное
пакетами. Прохожие останавливаются и помогают Варламову
слезть с дрожек... Широко улыбаются, смеются. Но улыбаются
и смеются не над толщиной, не над тем, что дрожки скосились,
что лошаденка запарилась, а оттого, что рады видеть Варла¬
мова.
– Константин Александрович, позвольте вам помочь! Раз¬
решите освободить вас от багажа.
– Спасибо, родной мой...»
Директор императорских театров В. А. Теляковский пишет
в своих «Воспоминаниях» о том, как однажды Варламов сказался
больным, не явился на спектакль.
«Выходя, как всегда, утром гулять, я около И часов встретил
на Загородном Варламова. Он ехал в санях, в шубе с поднятым
воротником. Поровнявшись со мной, он отвернулся, но я громко
крикнул:
– Здравствуйте, Константин Александрович! Как здоровье
ваше?
Варламов обернулся и, остановив извозчика, поздоровался
со мной и сказал:
– Да как здоровье... Неважно: еду от доктора.
– Ну, что же доктор сказал? – продолжал я.
– Переутомление и нервы – рекомендовал покой.
– Вот видите, – возразил я, – вам доктор рекомендует по¬
кой, вам и лучше было бы вчера играть «Горячее сердце» в Пе¬
тербурге, а вы беспокоите себя поездкой на гастроли в Крон¬
штадт и теперь, вероятно, плохо выспались, возвращаетесь рано
домой. Едва ли ваш доктор поведение ваше одобрит.
Варламов стал смеяться. А кто знает, как мог смеяться Вар¬
ламов, тот может представить себе и происходившую сцену.
Смеялся я, смеялся извозчик, остановилось и несколько человек
прохожих, узнавших Варламова, – а кто его в Петербурге не
знал? Затем Варламов продолжал:
– Ах, Владимир Аркадьевич, кабы вы знали, какие назой¬
ливые люди эти благотворители, – ведь звонки в квартире
прямо оборвали... Долго ли слабому человеку, артисту, до гре¬
ха, – уговорили. Я прямо буду просить мне в квартиру какого-
нибудь сторожа поставить, чтобы не пускал ко мне.
– Нет, уж этого я не сделаю, – ответил я. – Вы и сторожа
нашего в Кронштадт увезете на гастроли»...
И опять все вокруг смеются. Что на улице, что в театре.
Ведь и в Александринку многие приходили «на Варламова».
У него была своя публика. И можно верно сказать, что она при¬
брала его к рукам. Невольно и неосознанно подчинялся ее веле¬
ниям, повиновался ей бездумно, старался угодить, оправдать ее
ожидания. Упивался тем, что его все любят. И эта всеобщая
любовь переполфвинила его необыкновенной широты талант.
Есть у писательницы Тэффи, постоянного автора дореволю¬
ционного русского юмористического журнала «Сатирикон», при¬
мечательный рассказ о комике Киньгрустине и профессоре Фер-
мопилове.
Оба они в один и тот же час должны были выступать в со¬
седних помещениях. По случайному недоразумению Киньгру-
стин появился в зале, где ждали ученой лекции. Он начал
с веселой шутки. Никто не засмеялся. И как ни старался, —
ничего не выходило. Слушатели недоуменно переглядывались...
Вдруг комик Киньгрустин услышал веселый смех из соседнего
зала.
Туда, оказывается, попал профессор Фермопилов. Начал
свою лекцию тяжеловесной ученой фразой – и слушатели пока¬
тились со смеху. Растерянный профессор потянулся за графи¬
ном с водой, руки у него дрожали от непривычного волнения.
А слушатели расхохотались пуще прежнего: «Хороню представ¬
ляет!» И что ни говорил бедняга Фермопилов, – все больше
смешил народ. Люди-то пришли на комика и настроились на
веселый лад. А профессор невольно становился все более комич¬
ным в потугах овладеть слушателями. В конце концов он уже
выглядел шутом гороховым: голос сорвался и пустил петуха,
жесты стали нелепыми...
Да, настроение зрительного зала всесильно. Не понимал
Варламов того, что сам идет на поводу, а не распоряжается
своими театральными подданными. Только однажды за всю жизнь
обмолвился горьким словом в беседе с сотрудником «Петербург¬
ской газеты»:
– Иногда прямо зло берет. Кажется, ничего смешного, а го¬
гочут. Взять хотя бы «Безумную» Лугового. Быть может, вы
помните место, где я отдаю распоряжение поставить у каждой
двери прислугу, чтобы Савина не убежала. Ну, скажите, пожа¬
луйста, что в этих словах смешного? Между тем, когда я их
сказал, сверху раздалось гоготанье. Уверяю вас, что я чуть
было не крикнул в галерку: «Да чему вы смеетесь?!» У меня
уж это было на языке. Тут, можно сказать, драма, а людям
смешно.
Но это – однажды. Чаще говорил другое:
– Я не видел полупустого, а тем паче – пустого зала. Та¬
кого при мне не случалось. Театр без публики, – как это можно?
Для нее ведь играем... Что до меня, то я ее, публику, люблю
так же, как она меня. Смеются– и на здоровье!
Любили его и товарищи по сцене. За всегдашнюю приветли¬
вость, благожелательство, доброе внимание ко всем, за открытую
чистоту чувств.
Вот сценка в театре: сбор труппы после летнего перерыва.
Вошел Варламов – и все к нему. Поздравляют с началом
сезона, жмут руки, целуют дядю Костю, словно день этот – его
именины. А он-то рад всем, улыбается во весь рот, смеется,
острит, шутит.
– Костенька у нас точно у Христа за пазухой, все-то его
любят, – говорит, радуясь, красивая даже в старости Екатерина
Николаевна Жулева.
*– Добрая душа – потому и любят!
Это Варвара Васильевна Стрельская, небольшого роста, се¬
денькая, вся кругленькая – общая любимица тетя Варя. Она
подходит к Варламову, обхватывает его шею короткими руками
и целует в лоб.
И все, кто пишет о Варламове, обязательно отмечают в нем
черту, «которая вообще редко встречается в театральном мире:
он не был завистлив ни к успехам старых товарищей, ни, тем
более, к молодым актерам. Последние часто прибегали к его по¬
кровительству.
– Похлопочите, дорогой Константин Александрович, чтобы
эту роль дали мне. Ведь вы знаете, что я ее сумею хорошо сы¬
грать.
И он шел к кому следует и добивался желаемого». (Так
пишет Н. В. Дризен.)
Одно время говорили, что театром правит троица – Савина,
Давыдов, Варламов.
Верно, долгие годы княжила за кулисами умная, языкатая,
ярко талантливая и тщеславная, своевольная, очаровательная
Савина. Многое делалось по ее хотению: выбор пьес, распределе¬
ние ролей. Непослушание никому не спускалось, инакомыслие
пресекалось. Терпеть не могла соперниц: не было уютно рядом
с ней ни П. А. Стрепетовой, ни потом – В. Ф. Комиссаржевской.
Смела сказать новому управляющему труппой П. П. Гнедичу
прямо в глаза:
– Я очень рада, что вы назначены в нашу губернию губер¬
натором, хотя знаю, что я как служила до вас, так буду слу¬
жить и после вас: на этом месте долго не засиживаются...
Немалым влиянием на театральное начальство и труппу
пользовался и Давыдов – актер великого дарования и человек
широкообразованный, умница и дипломат.
А Варламов... Нет, Варламов не входил ни в какие дела,
только и знал, что свои роли (и то не всегда твердо знал). Са¬
виной просто угодно было и выгодно числить Варламова в своих
союзниках. Если и решался вставить свое слово, разве только
в пользу молодых актеров и актрис. Хлопотал им хорошие роли.
Нет ни одного «александрийца» младшего поколения, кто не
вспоминал бы потом, как обласкал его, помог на первых порах
добрейший дядя Костя.
«Варламов вообще замечательно относился к молодежи – и
не на словах, а на деле. В «Вишневом саде» в эпизодической
роли почтового чиновника выступал молодой артист Д. X. Паш-
ковский. Он красочно создавал эту фигуру и очень типично тан¬
цевал на вечеринке. И я всегда видела, как Варламов специально
усаживался в кулисах смотреть эту сцену.
– Костенька, зачем вы здесь? – удивлялась я.
– Пашковского смотрю, хорошо сделал роль!
Нужно ли добавлять, как вдохновляло молодежь такое любов¬
ное и заботливое отношение старого мастера.
Варламова любил весь театр. За тридцать лет совместной
с ним работы я не слышала, чтобы кто-нибудь из актеров хоть
раз сказал о нем недоброе слово».
Это – из воспоминаний В. М. Мичуриной-Самойловой.
Ю. М. Юрьев описывает свой первый день в Александрий¬
ском театре, первую репетицию: он вводился на роль Милона
в «Недоросле».
«Я начал свою роль, едва владея собой. Дух захватывало,
когда я, шагнув вперед со сцены, произнес первые слова роли,
обращенные к Стародуму – Никольскому:
– Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего до¬
брого мнения, ваших ко мне милостей.
В ответ я ожидал фразу моего партнера Никольского, но
вместо его слов вдруг сзади, из-за кулис, раздался органный
голос Варламова:
– Удостоишься, миленький, удостоишься... Будет тебе это
счастье! Не беспокойся!..
В ответ на этот неожиданный «апарт» Варламова раздался
общий добродушный смех, и репетиция приостановилась. Только
тут я заметил, что все участники, не занятые в данной сцене,
стояли во всех дверях павильона, где происходила репетиция, и
с любопытством следили за дебютантом. Слова Варламова, выз¬
ванные, видимо, желанием ободрить меня, были сочувственно
приняты. Все нашли нечто знаменательное в словах, произнесен-
ных мною. Действительно, я «почел бы за счастье», если б удо¬
стоился их «доброго мнения»...»
Б. А. Горин-Горяинов тоже рассказывает о том, как был он,
молодой актер, ласково встречен Варламовым в первые же дни
после вступления в труппу Александрийского театра.
А вот и рассказ Я. О. Малютина (из книги «Актеры моего
поколения»):
«От момента зачисления меня в «артисты императорского
Александрийского театра» до осеннего сбора труппы, происхо¬
дившего, как правило, в августе, оставалось добрых пять меся¬
цев. Пять длинных месяцев ожидания! Мне казалось, что я лопну
от нетерпения, отсчитывая дни до начала сезона.
И вот тут-то мне опять необыкновенно повезло. Как раз
в это время один из артистов Александрийского театра... форми¬
ровал труппу для трехмесячных варламовских гастролей по юж¬
ным городам России. В числе избранников, приглашенных в эту
труппу, оказался и я. Надо сказать, что полученное мною при¬
глашение было само по себе в высшей степени лестным, но осо¬
бенно лестным оно было для меня потому, что исходило, как я
впоследствии узнал, непосредственно от Варламова... Я, конечно,
никак не думал, что он запомнил меня или тем более как-то
выделил из всей молодежи».
А Варламов внимательно следил за молодыми. Имел свой
взгляд на талант. Говорил:
– Талант надо угадать, он не сразу виден. Другое дело бес¬
таланность: она сразу бросается в глаза...
И, довольный своим открытием, смеялся.
Несколько раз ездил заграницу, главным образом в Герма¬
нию, – лечиться от своей непомерной тучности. Жил «на во¬
дах», в санаториях, которые почему-то называл «консистори¬
ями».
«Мариенбад. Вот где я лечусь... Хочется жить полегче,
а жир тянет к земле. Четвертый год езжу сюда, помогает хо¬
рошо, по пуду за пять недель сбавляю», – пишет он А. И. Шу¬
берт.
«Пользовать меня будет профессор Швейнгер, доктор Би¬
смарка и германского государя. Один я, как сыч, и по-немецки
ни слова».
И жалуется на скуку, на «зверский режим», «скотское жи¬
тие».
«Скучаю по родине неописуемо. О России ничего не знаю
здесь, слышу только ругань ей, а я ее обожаю, матушку нашу».
И в том же духе Анюте:
«Не умею, не могу передать той пытки, тоски и одиночества,
которые я здесь переживаю. Бывают минуты, когда все хочется
бросить и бежать без оглядки домой»... Но «за неделю сбросил
14 фунтов!» И недоуменный вопрос: «От лечения или от тоски и
голода?»
«Окончив Мариенбад, поехал по Рейну... Устал лечиться,
хочу домой, все пригляделось, и немцы надоели до ужаса».
Рассказ, записанный актрисой Н. Л. Тираспольской со слов
Варламова:
– У этого «гирша вайса» (санаторий «Белый олень» в Дрез¬
дене) морили меня голодом. Часами лежал не евши не пивши,
укутанный в одеяло, под навесом на воздухе. Оголодал совсем,
изнурился. Лечение называется... А вернулся домой – налег на
блинчики да пироги. И ничего – отошел, ожил. Снова, слава
богу, здоров.
Есть записи о заграничном житье Варламова в неопублико¬
ванных дневниках С. М. Смирновой-Сазоновой – жены актера
Александрийского театра Н. Ф. Сазонова (хранятся эти днев¬
ники в архиве Ленинградского института русской литературы —
в Пушкинском доме).
«Варламов жалуется, как его морили в санатории голодом...
– Голод и скука. Не с кем слово сказать.