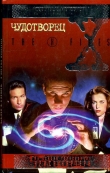Текст книги "Я люблю тьму (СИ)"
Автор книги: София Серебрянская
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Глава XLIX Белый сарафан, красный потолок
Я уже говорила, что обожаю кастинги? Нет? И не скажу никогда, даже под пытками. Терпеть это убожество не могу: сгонят человек десять–двадцать и заставляют дурью маяться. Песни там пой, стишки читай, разве что на стульчик не ставят. В нормальном–то состоянии бесит, а когда волнуешься, так вообще жесть полная. Вечная тема: вроде и нет Катеньки рядом, а всё равно жить мешает. А ещё как–то давно загадка сочинилась: знаете, в чём вы никогда не увидите приходящих на кастинги актрисок? Ответ: в адеквате. Нет, со времён, когда мне какая–то мамашка на платье «случайно» сок вылила, чтоб я не такой милой смотрелась рядом с её дочуркой, ни шиша не изменилось. Не девчонки, а корзина со змеями; вроде и не говорят ни о чём плохом, а чувствуется – злюки. Стелла сказала, что кастинг будет в Подмосковье, вроде там уже для съёмок всё обустраивают, а режиссёру ну очень хочется поглядеть на девчонок, так сказать, в декорациях. Она ещё – типа по секрету – сказала: там уже не просто так, а второй или третий круг отбора; меня, считай, по блату протащили. Про это я бабке, конечно, не сказала: пусть думает, что я сама. – Долго ещё ехать–то?! – простонала одна актриска, вроде Женя. Говорила она, правда, с жутким акцентом и требовала называть себя Джейн – мол, папаша английский граф. Знаем таких графов, на рынке хурмой торгуют. – Устала – обратно езжай! Кто сниматься хочет, тот потерпит. Правда, Станислав Аркадьевич? Станислав Аркадьевич – это режиссёр; а где мы – так в автобусе, дружно катим от станции к месту съёмки. Баба Света хотела с нами поехать, но не разрешили. Водитель, он тоже из киношников, так и сказал: – Согласие на участие в кастинге вы подписали, спасибо, конечно… Ваша девочка настолько несамостоятельная?.. Сама не разберётся, как и что? Все актриски, претендовавшие на ту же роль, расхихикались; молодец бабка, обеспечила рекламу. Хорошая ж из меня актриса будет, при такой–то дрессировке! Естественно, пришлось выруливать: – Вы её не слушайте, она пожилая, по поводу и без волнуется. Бабуля, дорогая, идите домой! Если что, я мобильник взяла. Глупой, бесполезной размазне Вике так с бабушкой разговаривать не положено: хамство и всё такое. А будущей актрисе, которой осталось только режиссёра заколдовать, чтоб правильно выбирал, всё можно. Оправдала ожидания и денежные вложения, по нужной дорожке пошла и прочее бла–бла. Ради того, чтоб мной хвастаться, бабка меня и на Луну бы отпустила. И вот катимся, с виду все радостные, а на деле – как подушечки для иголок, все утыканные. А я ёжик, мне иголки наружу – дело привычное; правда, нет–нет, да и кольнёт, как будто кто–то то и дело не различает среди подушечек ежа. Чего волнуюсь, спрашивается? Что снимают в Подмосковье – так нормально, и в замкадье жизнь водится; а что вокруг девчонки по–настоящему актрисы – ха! Тоже мне, проблема. Они–то кем угодно могут быть, хоть папой Римским, а я всё равно круче могу. Ведьма я или где?.. – Ой, слушай, а тебя я вроде по телику видела! – прочирикала наша английская графиня. – Ты в рекламе туалетной бумаги снималась, да? Это она ещё одной претендентке, самой молчаливой, зато и самой высокой. Провокаторша, сразу видно. Сейчас ко всем цепляться будет, чтоб кто–нибудь не выдержал, скандалить начал. Смотрите, мол, Станислав Аркадьевич, какие девочки неуравновешенные! Всего–то спросила, подумаешь, мелочи какие. А я – нежная лилия, вся в белом. Кстати о белом. Чего это все девчонки такие одинаковые? В смысле, на ком куртка, конечно, на ком пальто, но у всех из–под верха торчат одинаковые белые подолы. И как они, бедные, до станции–то доехали? Это в Москве, где даже снег время экономит и сразу коричнево–чёрным выпадает. А я в брюках… блин, неловко, знаете ли! Может, про дресс–код заранее сказать стоило?! Но тут по телу пробежал холодок, и я посмотрела вниз. Юбка. Белая. Стелла, улучив момент, подмигнула и задиристо шепнула: – Что–то подсказывает, что в твоём гардеробе всё равно с сарафанами не густо, тем более с белыми. Права она, конечно. Не водится у меня такое в шкафах. Только старый школьный валяется, и то серый. Да и в него уже без мыла не влезешь – я ж первоклашкой в этом добре рассекала. И всё равно колет что–то. Бывает похожее, когда в школьной столовке обедаешь: вроде прилично всё, а так и ждёшь, что рванёт. Тьфу ты. – Чего молчишь? Ой, ты глухая! Извини, не знала… – продолжала щебетать на заднем плане Женя. А высокая девчонка–то не дура, понимает, что подначивают. Молчит, в окно смотрит… тоже, что ли, попялиться? Да было б на что – то развалины, то лес. Непременно пошутила бы, что нас расчленять и по кускам прятать везут, да только, учитывая присутствие Стеллы, не актуально. Она–то, со своей наглостью, любого маньяка на куски разберёт и обратно, как конструктор «Лего». Тухлый пейзажик, аж зевать тянет: раздолбанный амбар, дорожный знак опрокинутый. Флора стандартная, грязно–осенняя, а из фауны только летящая за автобусом сова… Чего?! Что за дела? Крыша у меня, что ли, поехала? Но нет, глаза потёрла, поморгала – а она на месте. Сова. Днём. Сама догадывайся, с экологией чего не так или с твоей башкой, называется. Тут сова уставилась на меня круглыми жёлтыми глазищами – и за деревья! Как почуяла, зараза. Интересно, что там по поводу сов говорят дурные приметы? Вроде как сова – птица мудрая, все дела. А всё равно – ночная. Плевать на приметы! Если что–то странное происходит, это автоматом не к добру. Постепенно и другие изменения наметились в пейзаже: зелень появилась. Ноябрь, зима скоро – откуда листья? Облететь всё должно было раз двести. А нифига, вот вам, получите и распишитесь: цветочки–лепесточки. И жарче стало как будто, словно не поздняя осень снаружи, а самое всамделишное лето. Другие девчонки вроде тоже удивляются, пусть и строят, как одна, понимающе–пафосные рожи. Подумаешь, лето, чего я там не видала! Стелла посмотрела на меня – и подмигнула. Не удивляйся, мол, я тут поработала слегка. Я догадалась, или уже тоже мысли понемногу умудряюсь читать? Тут же в голове прозвучало: – Умудряешься, умудряешься. Ты только не увлекайся. Ух ты! А я и не пыталась даже. Значит, это непроизвольно происходит? Вроде и не задумываешься, и не хочешь, а всё равно слышишь, как будто рядом с тобой всё это вслух проговаривают. Погодите, а Вовка? Он же говорил – без разрешения никак. А значит, чтоб мысли не читать, напрягаться приходится? Тьфу, башка трескается! Автобус остановился, и Станислав Аркадьевич – мелкий такой мужичок в очках – встал во весь рост и даже слегка приподнялся, кажется: – На выход! – Мы чего, на дороге снимать будем? – фыркнула наша английская графиня, но как–то неубедительно у неё вышло, почти испуганно. Чего боится, дура? Тем, кто спрашивал, давно сказали, где съёмка проходить будет. Простое какое–то название, мыльное. В смысле, из головы выскальзывает на раз–два. – Зачем на дороге? Тут пешком всего ничего, а автобус не проедет. Легковушка если только… – Станислав Аркадьевич уныло покосился на лес: палится ведь, что самому не нравится по грязи чапать. Женя сморщила носик и хотела уже возмутиться, но вспомнила золотое правило любого кастинга: строй из себя лапочку. Это потом, когда половину материала с твоей рожей отснимут, можно звезду зажигать: слишком много бабок вбухано, а другую в кадр уже не сунешь. Другой вопрос, сколько таких скандалисток потом ещё хоть куда–то пристраивается, а не удостаивается слов вроде: «Милая, катись колбаской, в другие проекты кого посговорчивей и поскромнее возьмём». – Убивать нас, что ли, будете? Вы смотрите, у меня тётя прокурор! – хохотнула до того молчавшая девчонка. Понятно теперь, чего молчала: голосок–то у неё хриплый, низкий. Эдакий прокуренный басок. Такую только в главные героини, что сказать! Хотя напрасно смеюсь: вдруг выяснится, что играть надо, к примеру, какую–нибудь девчонку, которая парнем прикидывается, тогда голос только в плюс, да и рост, как ни крути. – Юмор?.. Чудно, чудно, – проворчал Станислав Аркадьевич, выпихивая наружу водителя. – А убивать тут никому никого не рекомендую. Тут Трёхселище рядом совсем, а там и люди, и цивилизация… кажется только, что глухое место. – Ух ты! – с чего–то вдруг нервозность в голосе молчаливой сменилась восторгом. – Это ж тут развалины рядом, да? А вы возле них снимать будете, нет? Как прорвало её! Хотя, в какой–то детской сказке говорилось, будто можно сосчитать все слова, которые человек в жизни говорил и скажет, да и украсть можно; мне, когда такое читала, представлялся эдакий мешок, набитый словами. По ходу, этот мешочек продырявило. – Время покажет, покажет… – бормотнул себе под нос Станислав Аркадьевич. – Но, в принципе, планируется пара сцен неподалёку. Что не значит, что можно туда лезть! Среди вас несовершеннолетних полно, под мою ответственность… А ну как кирпичом по голове – кто отвечать будет? И собак тут полно, м-да… Вы уж поближе держитесь! Он говорил, мы всей кучкой шли через лес, а я думала: вот куда жажда наживы–то заводит! Понятно, бюджет – штука ограниченная, чем дешевле, тем лучше. Но не до такой же степени, ёжики зелёные! Куда меня Стелла пристроить решила?! С другой стороны, а не без разницы ли? Может, сериал и не сильно крутой планируется, зато роль главная. А я уж постараюсь, вытяну. Интересно, через камеры можно народ заколдовать? Чтоб смотрели – и сразу я всем нравлюсь. Можно, наверное, иначе как Стелла со своими заморочками на самую верхушку вылезла? – А там красиво… – тоскливо вздохнула молчаливая. – Я ездила как–то, поглядеть. Вокзал там старый, и пионерлагерь ещё. Мозаика у входа – загляденье! Как новая. И потолок крутой – хоть красили давно, а не облетело, красный–красный, и в сосульках как будто… – Фи! – демонстративно сморщилась Женя. – Я вот думаю, глупо это – по развалинам шататься. И опасно к тому же! Кругом шелестели деревья, летние почти что, и дул тёплый ветерок, прямо захотелось стянуть куртку. Две, шесть, десять – двенадцать девчонок. И я. Все одинаковые, все в белом. Тихо всё, и совы больше не видать. Всё равно колет, как иголками, то в спину, то в кончики пальцев. Белый сарафан. Красный потолок. Где я это уже видела?..
Глава L: Оглянись!
– Значит так! Да вы поближе встаньте, чего вы где–то там топчетесь, чтобы все слышали… Не люблю, знаете ли, дважды объяснять. Сколько не припоминаю кастингов, а везде народ нервный. В смысле, не претендентки, с ними–то всё понятно, а сами киношники. Побочный эффект творческой натуры, что ли. Все, кому перед камерами не крутиться, из стороны в сторону мечутся – кто аппаратуру проверяет, кто просто места себе не находит. Станислав Аркадьевич, как видно, режиссёр начинающий: ходит туда–сюда, губы кусает, и глаза – серьёзные–серьёзные. Так на людей не смотрят; на материал какой–нибудь, на глину – ближе будет. Он словно бы немного злился: на меня, на актрисок, на парочку снующих рабочих с камерами и проводами, даже слегка – на Стеллу. И постоянно на часы косился. Занятой, наверное. Уговариваешь себя, уговариваешь, а по сторонам зыркаешь: вдруг притаилась где летевшая за автобусом сова. Нечисть, она такая, коварная, где угодно сныкаться может. – У нас, так сказать, планируется большой проект! Спонсирует наша дорогая, уважаемая… – Вы меня в краску вгоняете! – захихикала Стелла. И не сказали вслух, кто спонсор, а дураку всё понятно. Блин, непруха! В титрах же напишут, кому благодарности, ещё решит бабка, что я не за талант пролезла, а чисто мне одолжение сделали… – Итак! Вы играете Настю, это девушка–школьница. У неё проблемы в семье: отец пьёт и избивает её, мать ударилась в религию… Глубокий образ, драматический, м-да. Она находит языческую святыню и обращается к чёрной магии… Он там что–то ещё порол про святыни, но слушать стало неинтересно. Всё–таки русские сериалы есть сериалы: либо сюжета нет вообще, либо берётся упрощённая версия чего–нибудь зарубежного. Того самого зарубежного, где сюжет – смотри пункт один. Ладно, мне не лекции о сценариях читать, мне сосредоточиться. – … Суть сцены: Настя проводит ритуал, чтобы изменить свою жизнь, но она пока не знает, сколь катастрофичными будут последствия… – Нравится сценарий? Моё, родимое! – прозвучало в голове. Может, не такая она сволочь, эта Стелла? Роль как для меня писали: тут вам и магия, и внезапный страх делов наворотить… Разве что папаши–алкоголика и православнутой мамы у меня нет, но это стандартные образы для кино, без них типа нереалистично. – Текста немного, сами видите… Мне важен язык тела, хотя без голоса, конечно, тоже не обойтись… М-да. Закашлялся, снова на часы посмотрел. Да чего он ждёт–то?! То ли лицо у меня перекосилось слишком, то ли Стелле самой ждать надоело, а только она почти сразу надула губки: – Мы начнём сегодня, или нет? Время–то не ждёт! Станислав Аркадьевич посмотрел на неё почти злобно: глядишь, кинется! Но почти сразу его глаза вновь потухли, видно, досчитал мысленно до десяти, повторил про себя нечто вроде: «У кого пиастры, тот и командир». Вскоре один из снующих киношников сунул нам бумажки с текстом под аккомпанемент бормотания режиссёра: – Вот, ознакомьтесь, так сказать… Вслух попрошу не читать – помешаете другим готовиться. Помните, непосредственная реакция – самая ценная, м-да… Так распинается, будто артхаус какой мутит, а не идиотскую поделку на вечерок–другой. Чего стараться, и так ясно: меня выберут. Стелла же всё решает! Скажет этот мужичок: «Не возьму твою девчонку, никакая», – а она ему: «Тогда на свои бабки снимай». Хотя и так справлюсь, невелика наука – покривляться. Реально сыграть, чтоб за душу брало, искусство, конечно: а вы видели, чтоб в сериалах реально играли? Мне не довелось как–то. «Выйду на крыльцо, простоволосою, не помолясь; поворочусь от лика Хорса ко тьме кромешной»… И пометки всякие, в стиле «Настя снимает крест, кладёт в траву, поворачивается лицом к Камню». Как тут на мистическую жуть настроиться?! Интересно, крест хоть дадут? Реквизит, как–никак. Декорации, хоть и плохонькие, да в тему. Представьте: поляна посреди леса, и деревья над этой поляной сплетаются, так, что полумрак кругом. А в центре торчит камень, тот самый, который в сценарии с большой буквы указан. Настоящий, видно, не имитация. Сразу видно, куда бюджет девали. «…Неси, Семаргл быстроскрылый, весть мою: от Даждьбога, прародителя моего – отрекаюсь…» Холодок по коже побежал – и не в ветре дело. Я не язычница, конечно, но кой–чего читала. Нет, оно понятно, в киношных заговорах так обычно и происходит: чем больше настоящего, тем достовернее. Как рассуждают: язычников у нас немного, а те, что есть, ребята не обидчивые. Огляделась: другим вроде нормально, читают себе, бормочут… Чувство–то какое противное! Вроде того, как если бы кто–то левый предложил разрисовать парочку икон, типа, тебе ничего за такие дела не будет. Не в том же дело, будет или нет! Как выкину такие речёвки к чертям собачьим… Ага, а потом бабка меня выкинет. И будет у нас с выдуманной Настей полное духовное единство. – Да чего вы там возитесь? Сказали же вам – непосредственная реакция! Почитали? Посмотрели? Ну и ладушки! Давайте, сначала с текстом, потом вызубрите! – Стелла хлопнула в ладоши и вдруг ухватила за руку меня. Чего? Куда? Уже?! – Ну, действуй, Рогнеда – хихикнула как–то странно, и руку подняла, будто вот–вот по носу щёлкнет. Я отшатнулась, естественно – не маленькая! – Девочки, девочки, разойдитесь как–нибудь… По краям поляны пристройтесь, что ли! Обзор закрываете, м-да. И куртки снимите, а то что как принцессы, будто минус двадцать… – торопливо, слишком. Актриски пошушукаться–то не успели, как их распихали вокруг камня. И вот стало тихо. – Мотор! С меня куртку, естественно, тоже стянули, и оттого всё стало ещё нереальнее – ноябрь, а не холодно. Магия кино, скажете? Да не, тут без кино, просто магия; все звуки уплыли куда–то, будто выключили голоса, и остались в целом мире я и Камень. Который не бел–горюч, а очень даже сер, как будто мхом даже порос. Слова по горлу карабкались как–то уныло, без энтузиазма, и тут же, у самого рта, срывались обратно. Давай, Рогнеда, не тормози. Кому тут дело до твоих мурашек! – Выйду на крыльцо, простоволосою, не помолясь… – крест на шее из ниоткуда взялся, видать, тоже Стелла постаралась. Крест и крест, подумаешь, чего в нём такого: христианское ж добро, для выдуманной Насти вряд ли значимое. А может, она знает всё–таки? И про то, что вертикальная полоса – мировое древо, а черта в верхней части – мир Прави… – … Поворочусь от лика Хорса ко тьме кромешной… – крестик я в итоге не положила, а уронила, со стороны – будто даже бросила. Ничего, Насте это в самый раз. Так и не найдя за ветками, где солнце, я повернулась к Камню. Мне кажется, или правда темнее стало?.. Наверное, невидимое солнце за тучу зашло… – Неси, Семаргл быстроскрылый, весть мою: от Даждьбога, прародителя моего, – отрекаюсь! Нервно выходит, слишком, и руки трясутся; Станислав Аркадьевич, краем глаза вижу, чуть голову склоняет: нравится ему! Ещё бы, Настя и по сцене должна бояться. Если в потусторонщину не веришь, и то испугаешься, а если веришь… без комментариев. – От Перуна, громовержца, – отрекаюсь! Зубы стучат, и коленки трясутся; чего, казалось бы, такого? Как в темноте оказалась: знаешь, что нет тут чудовищ, а поди ж ты – вглядываешься, боишься, шевельнётся кто. – От Стрибога, ветра несущего, – отрекаюсь! Оглянись… Будто сам ветер слова принёс, грустно, будто вздыхает, жалеет. Воображение?.. – И не видать Мокоши пряжи моей, ибо от неё, как от прочих, – отрекаюсь! И тут я замолчала, хотя заговор ещё не кончился. Почему так темно? День ещё, а не видно ни зги; только листок с текстом как будто светится, взгляд притягивает… Оглянись. – … Правду–истинную знаю, и наперёд принимаю… «Как от богов, от плоти своей отрекаюсь, от дыхания своего, от имени»… Закончить, это же просто! Ведь не я клятву приношу, а выдуманная Настя… Но язык будто примёрз; всё темнее, темнее, и уже в самом деле не видать ничего, кроме Камня. Будто выстроился между мной и Камнем короткий коридор, и не Камень это вовсе – ворота, а за ними ждёт… кто? Оглянись! И, повинуясь голосу в голове, я обернулась. Отступила немного тьма, и дала разглядеть: кружится вокруг поляны хоровод самой разной нечисти. Нет камер, и киношники – уродливые, заросшие шерстью твари; вместо проводов сверкает в траве змеиная чешуя. Не изменились только девочки–актрисы: они настоящие, живые, только смотрят странно. Блестят глаза – и чудятся стеклянные взгляды чучельных сов. Как во сне. Рядом, всё там же стоит Стелла; но что с ней такое? Молодость с лица стекла, как краска. Женщина осталась, черноглазая, светловолосая, но сразу видно: хорошо за сорок, и вовсе не красавица. Обычная. Но не удивительно почему–то: она всегда такая была. Просто я не так видела. Среди веток затерялась та самая сова, только теперь отросли у неё женские космы, и скрюченные руки тянулись то ко мне, то к девчонкам–актрисам; если б не давний сон, не признала бы Маланью. Страшилище, жуткое, но ей так и положено: не Ара она вовсе, а Мара, самая настоящая. Стисни зубы, Вика. Ты знаешь, что увидишь сейчас. На другом конце тёмного коридора, будто отрезая путь к отступлению, стоял вовсе не Станислав Аркадьевич; не уверена даже, что существует такой человек. На меня смотрели знакомые, раздражённо пожелтевшие глаза. На ум шли слова, сами; только не написанные на бумажке – другие, будто всплывавшие из глубин памяти. Моей ли?.. Может, их знала не я, другой кто–то, но сейчас он подсказывал мне, шептал на ухо: – … Ко тьме кромешной поворочусь, и у того, кто сокрыт в ней, спрошу ответа. Правдою многое нарекали, истину же сокрыли. Слова мои яда полны, и потому отрекаюсь от них, покуда не прозвучит ответ. Светозар нахмурился, и клубящихся теней стало больше. Они не тронут, не тронут, пока не произнесена клятва, пока не окончен ритуал. Больше клятв на ум не шло, не шло и вопросов, и потому я закричала, так, что сова-Маланья чуть не рухнула с дерева: – … Так прежде, чем прозвучат слова, скажи мне правду!
Глава LI Скажи мне правду
Пусть собирались тени, а среди дня наступила ночь, Светозар медлил: как прежде, он прохаживался туда–сюда, не выходя за границу освещённого коридора, и глаза, холодные, бесцветные вовсе, сверкали во мраке. Прежде я видела там тепло – оттого, что хотела видеть. – Ты требуешь ответа, Рогнеда? – улыбка, кажется беспомощной, но это очередная маска, шелуха; дунь – слетит. – Быть может, сначала задашь вопрос? Холоднее, всё холоднее; то ли взгляд морозит, то ли проглядывает сквозь ненастоящее лето вполне реальный ноябрь. Не бойся, Вика, это как в школе: тебя не станут бить, пока не испугаешься, пока не заплачешь. – Кто ты? – Светозар, сын Белослава. Я прислушалась к оберегающим голосам, но они молчали: нет, не солгал. Имя… с ним сродняешься, привыкаешь. Откажешься от имени – откажешься от себя. Оно – такая же личина, такая же маска. Никогда религиозной не была, но второй вопрос сам собой вырвался: – Ты Дьявол?.. Смех – это не ответ, конечно, но прежде прозвучал именно он. Светозар смеялся, но не так, как это сделал бы скромный молодой учёный, пусть даже маг: – Владимир, суемудр, так бы и сказал. Видно, что–то на лице отразилось, потому что он передёрнулся: – Не мальчишка; не о нём речь. О другом Владимире, о Святославовиче. Мысли путаются, и голова кружится от мельтешения нечисти. Но новый вопрос должен прозвучать. Замолчишь – и темнота сомкнётся. Откуда знаю?.. Будто шёпот в голове. Голоса. Множество девичьих голосов. – О… князе?.. Абсурдно, глупо, нелепо; но воспоминания кружатся, и книжки по истории всплывают, одна за одной. Новгород, крещение Руси, просвещение и грамотность… Рогнеда. – Ты просила ответа, хотела знать, кто я; что же, договор терпит невысказанное, но не терпит лжи. Я был советником Рогволода, полоцкого князя. Думаю, ты оценишь иронию: другие желали власти, а я вовсе не жаждал её. Но я, и никто иной, стоял в тени за его плечом; прочие смотрели со стороны. Отступает уверенность, отступают голоса, и холод переполняет, до самого сердца; он говорил обычными словами, в которых пугала даже не суть. Нет, пугало другое: не получалось усомниться. Я смотрела – и видела выцветшие до белизны глаза древнего старца; морщины – глубокие, будто кожа растрескалась насквозь, до самого мяса. Она была гордой, и не видела тех, кого считала ниже себя, и однажды горько поплатилась за свою гордыню. Как могла бы поплатиться я. – Забавно, – усмехнулся старик, – ты не знала, не могла знать Рогнеду, но судишь очень уверенно; но ты угадала, вы в самом деле похожи. Разумеется, княжеская дочь не могла самовольно говорить с мужчинами, не принадлежащими к её роду. Но мне… мне Рогволод верил, и потому я видел её, час за часом, день за днём. Бесцветные глаза, бесцветный и голос. Он словно забыл, что я должна спрашивать, и давал ответы прежде, чем звучал вопрос: – Ты думаешь о любви. Да, я любил Рогнеду, быть может, один из немногих; но куда мне до княжеской дочери! И не в Рогволоде, и не в её братьях было дело: пожелай она бежать, ничто бы нас не остановило. Но до конца меня никогда не отвергали. Я мог – и она знала – разделить с ней истинную силу. Колдовство забавляло её, точно игра. Мне всегда казалось: в древности люди были другие. Чем дальше в глубь веков, тем меньше человеческого. Но как складно ложилась история! Роза Родионова… не было никакой Розы, это Рогнеда пожелала призвать зиму среди лета и, смеясь, скользила по тонкому льду; она выпархивала на встречи с отцовским советником из окна горницы и лихо отстригала мешающую косу, чтобы после хватался за сердце отец. Ничего не изменилось. – Она отказала Владимиру – и снова я предложил ей бежать. Я сказал: князья могут принести тебе золото и славу, но принесут ли они то, что могу дать я? Рогнеда не давала ответа; лишь когда донеслась до неё весть, что на Полоцк идёт новгородская дружина, она согласилась. Мы должны были встретиться, встретиться у реки… Почти по–настоящему предстала перед глазами мозаика, всё яснее, всё ярче выстраивающаяся – кусочек за кусочком. Безумный бег по лесу, обледеневшая река – каждый глупый и пустой кошмар вдруг обрастал смыслом, обретал плоть. Теперь понятно. – Дружинники Владимира нашли её раньше меня; но и тогда я пошёл за ней. Как прежде из–за плеча её отца, смотрел я теперь из–за спины новгородского князя; я назвался другим именем, притворился священником, христианином. Я шёл за ней, шёл, как раньше, но всё так же оставался позади. Бессильная злоба, многолетняя горечь… Я представляла их, мысленно добавляла в монотонный рассказ, не затем даже, чтобы ощутить сочувствие. Просто тогда будет не так страшно; тогда не будет слышаться за внешне равнодушными словами уставший, давным–давно омертвевший изнутри человек. Так будет проще. И вовсе не трясутся руки. – Можешь не притворяться, что жалеешь меня, что понимаешь… не понимаешь, не можешь даже представить. Я ждал, надеясь однажды назвать её своей; но лишь на смертном одре Рогнеда призвала меня к себе. Сожаление… вот и всё. Она сказала: жаль, что я не бежала с тобой вместе. И тогда я поклялся. Поклялся, что когда–нибудь я подарю ей то, чего не смог бы ни один из живущих: новую жизнь, придя в которую, она встанет рука об руку со мной. А голоса вдруг стали громче, отчаяннее; теперь они заглушали всё кругом. Я вдохнула, прислушалась – и они, не я, заговорили моими губами: – Ты искал девушек, принявших её имя. Я должна была отречься от себя, чтобы ты смог призвать её душу снова. – И ты отречёшься, – вместо старика передо мной вновь стоял знакомый молодой мужчина, – посмотри сама! Кем ты была до того, как встретилась со мной? Хочешь правду, так получай до конца: ты была ничтожеством, никем! Даже твоя семья с радостью отреклась бы от тебя. Мелькнуло в круговороте нечисти знакомое лицо: баба Света! Она–то здесь откуда? Но именно бабушка выплыла из темноты, замерла у границы коридора. Она поджимала трясущиеся губы, замахивалась унизанной перстнями рукой: – Не годится, никуда не годится! Я тебя кормила, воспитывала… где благодарность, а?! Была бы хоть талантливая, а так… И по лицу, точно нагадившую псину. Бабушка подходила всё ближе, хмуря брови; один за другим, она раздирала на куски и выбрасывала в темноту старые рисунки, мои. – Вся в мать пошла! Говорила Алёше, надо было на Марише жениться, и дочка была бы – загляденье, красивая, как куколка… В носу закололо, и внутри что–то сжалось. Как руку под рёбра сунули и стиснули сердце. Сильно ухватили, даже больно; я отшатнулась – и натолкнулась на маму. Спаси меня, защити, разве ты не видишь, как мне плохо?! Но мама пожала плечами, сказала что–то по–немецки – и вдруг сделалась прозрачной, как дым, и я никак не могла взять её за руку. Подожди, пожалуйста, подожди. Помнишь, я потерялась в супермаркете? Знаю, я плохая девочка, не должна была отходить; но как я без тебя выйду? Высокие потолки, много чужих людей. Я плакала, кричала. Помнишь, помнишь, там был отдел с игрушками? Мне показалось, что там, в коробках, такие же маленькие девочки. Ты же не дашь засунуть меня в коробку? Не дашь продать какой–нибудь чужой маме, другому папе?.. Повинуясь воспоминаниям, появился и папа; но не настоящий, а марионеточный, кукольный. Нитки тянулись к рукам Светозара; вот они оборвались. Вместо папы – безвольная куча какой–то рухляди. – Смотрите, смотрите, ревёт! – заржало из темноты голосом Костяна; и сразу – новые смешки, со всех сторон; ещё шаг назад – и вдруг спину обожгло. Слишком, слишком близко светящийся Камень. «Настя кладёт руки на камень и заканчивает клятву. Конец сцены». – Что будет, если я соглашусь?.. Он улыбается, улыбается. Как будто не услышал «если». – Уступишь место Рогнеде. Ты не почувствуешь боли, не почувствуешь ничего; просто со временем её память, её сущность сменит твою. Но до того у тебя будет время на счастье. Ты же хочешь быть счастливой?.. Сквозь темноту проступила наша кухня. У плиты стояла баба Света – потолстевшая, в платочке. Запахло пирожками – так, что рот наполнился слюной. За столом сидели мама с папой, и изредка смотрели друг на друга – по–особенному, видно, что друг другу не чужие. Сосредоточенно мурлыкала Руська. Одно место пустовало. На мгновение вся счастливая семья посмотрела на меня с ласковыми улыбками; а ведь на меня и раньше так смотрели, просто я уже забыла, так давно это было… Может, и правда ещё не поздно? Наверное, так и должно быть. Может, мне просто привиделась вся эта ерунда – с исчезновениями, с разводами, со строгой бабкой; и тогда я – ненастоящая, а настоящие они. Когда на рисунке неправильная линия, её стирают… – Решай, – голос Светозара заполнял всё кругом, давил, точно душное облако. – Откажешься – и я заберу всё, что дал. Отца, любовь семьи, магию… Кем ты останешься без всего этого?! – Викторией Романовой. Всё правильно: рисунки шлифуют, доводят до идеала. Но я – не рисунок, а человек. И мама с папой, и бабка, и даже идиот-Костян – люди. А людей, по–настоящему злых, не бывает. Даже Светозар, сколько бы лет назад он ни утратил человечность – не воплощённая тьма. – Что?! – думает, что ослышался; ну–ка, подумает ли, что и глаза обманывают?! Потому что я иду – иду, оттолкнув с пути скалящуюся бабку, не оглядываясь на исчезающую маму. Уж извините, что не держусь за ручку. Девочка выросла. Сама найдёт дорогу. Ближе, ближе к Светозару, и ярче свет; щупальца темноты отступают, и нечисть, до того кружившаяся, скулит и ёжится на крохотном её клочке. Так разбегаются тараканы, стоит включить лампочку. Больно… да что такое больно! Проблемы, они как ветрянка: будешь болячки расчёсывать – на всю жизнь останутся, перетерпишь зуд – сойдут. И будет гладкая, белая кожа; будет гладкая жизнь. – От сказанных ранее слов, от клятв, данных в минуту сомнения – отрекаюсь! – в лицо, в глаза, без страха. Показалось, или на мгновение даже древний колдун дрогнул, и вместо досады промелькнуло в его лице нечто иное?.. Неважно. Потому что выбор сделан. Потому что любовь и семью не клянчат, как петушка на палочке. Потому что я – это я, а не Рогнеда. – Что ж, ты сама выбрала этот путь. – Светозар не говорил громких слов; не позволил себе даже досады. Просто слегка поморщился, будто всадил занозу. Наверное, когда тебе много сотен лет, чувствовать просто устаёшь. А мне пока рано уставать от жизни. Он посторонился; коридор теперь пролегал дальше, сквозь темноту. Страшно шагнуть туда, за грань, но нужно; и ободряющий шёпот за спиной сушит слёзы, будто не ветер вытирает их, а чья–то ласковая рука. Я должна исправить ошибки. Шаг – и я дома, в гостиной; за ноутбуком сидит Алёшка, уже слегка бородатый. Но чуть присмотришься – и видишь пустоту, пыль, паутину. У Виктории Романовой нет отца; исчез, умер – не так важно. Лично мне нравится думать, что он сбежал на Тибет и стал монахом. – Ёжик, ты чего? Если закрыть глаза – наверное, будет легче. Я протянула руки к фальшивому папе – и сложила его пополам, точно лист бумаги, точно старую, давно пылящуюся в альбоме фотографию. Он для меня и есть – фотография. Которую я сложу втрое, вчетверо, и спрячу как можно дальше; а лучше – сложу из неё самолётик. Пошире форточку; пахнет морозом и бензином. Туда, в бензиновую ночь – лети! Тебя не вспомнит баба Света, не вспомнит мама. Магия, может, штука и странная, но следы за собой заметать умеет. Шаг – и незнакомая больница с надписями на немецком. Переговаривается врач с медсестрой; я плохо язык учила, но откуда–то знаю – говорят про маминого мужа, говорят, он ни с того ни с сего свалился с осложнениями после гриппа, и лекарства отчего–то не помогают. Отчего? Потому что я ошиблась. Потому что думала – не будет чужого немецкого дядьки, и мама вернётся домой. Пусть он выздоровеет. Пожалуйста. Шаг – и в подвале, среди труб, шипит Руська. Вредный, жирный пушистый ком! Хотя уже не жирный и не ком – похудела, отощала даже. Но меня узнала сразу – подбежала, трётся об ноги, мяукает. Прости, кусок кошатины. Сразу додуматься надо было: нечисть животных боится, вот и убирает от себя подальше. Иди домой. Шаг – стройка, промзона. Внизу, в вырытой под фундамент яме, Катенька, вся в грязи; пытается вылезти, скребёт ноготками стены – и снова вниз. А хвасталась ведь, что в горы с мамой ездила, скалолазанию училась. Смешно – соврала, похоже, наша бравая пионерка. Я над ней посмеюсь, не раз ещё. Но руку протяну. Коридор распался; снова вокруг – поляна, самая простецкая, ноябрьская: облетевшая листва, морозец в редких лужицах. Ни Светозара, ни Стеллы, ни нечисти, только актриски, кажется, очень удивлённые. – Куда все ушли?! Ничего не помню! – пусть пищат, пусть разоряются. Сообразят рано или поздно, что кастинг не состоится. Ну–ка, где мой мобильник? В пару нажатий – знакомый номер: – Ба, привет. Сказали – я не подхожу. Баба Света разорялась, кричала в трубку, а я глупо улыбалась. Рука на сердце разжалась, и оно вдруг стало большим и тёплым. Растёт больше, больше – во всю грудь волна тепла: – Ба, я тебя люблю, ты в курсе? Просто… просто хотела сказать.