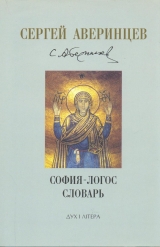
Текст книги "София-логос словарь"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 71 (всего у книги 71 страниц)
Я думаю, что большевистская вера существовала, пока была какая-то, пусть не простая, связь между будоражащими словами и жизненной реальностью. Это как ставки в «Пиковой даме», когда одна выигрывает, вторая – совершенно неправдоподобно – выигрывает, а третья проигрывает. Ленин делал ставку на немецкую революцию, но чтобы русским большевикам не оказаться на задворках и чтобы Роза Люксембург не читала Ленину морали, нужно было на пять минут раньше устроить все это в Петрограде. И эта ставка на Петроград выиграла. А потом – в Красной Баварии ничего не вышло, поляки остановили красных на Висле – проигрыш. Такая игра создала возможность победы сталинизма. Сталин выиграл потому, что у него хватило холодного цинизма сказать себе то, что люди склада Ленина, Троцкого или Дзержинского не сказали бы даже самим себе: «Ничего из этого не вышло, но мы еще в этой, отдельно взятой поцарствуем. Это кончится, но на наш век хватит».
Как человеку мне повезло, но не повезло как мыслителю, пытающемуся понять свое время: начальный период моей жизни прошел в обществе людей исключительно старорежимных, в окружении книг больше с ятями, чем без ятей... Повезло мне и в том, что я по болезни поступил сразу в пятый класс, да и туда мало ходил. Тогда очень не просто было взять разрешение сдавать экстерном, но у меня получился как бы полуэкстерн. Так вот, может, в детских садах и школах заставляли петь советские песни, но я не знаю такого советского дома, где бы люди добровольно, в час досуга разговаривали или распевали бы песни о Сталине. Думаю, что, кроме всего прочего, еще и страх должен был удерживать людей от чего-то подобного.
Очень важно, что советский тоталитаризм отличался от, например, немецкого. Сейчас мне странна реакция советских либералов на фильм «Обыкновенный фашизм»: «Как похоже!» Я же, когда вижу кадры с выступлениями Гитлера, поражаюсь, насколько это непохоже на нас. Гитлер при всех своих особенностях был западным человеком, демагогом в отличие от восточного тирана, сила которого – в молчании, в этих страшных молчаливых паузах. Гитлер – паяц, который выкладывается, страшно жестикулирует, кричит, заходится. Когда Сталин делал что-нибудь подобное? С этим связано то, что вообще для сталинизма важно в разных отношениях: дистанция. Или, скажем, в Германии называли сыновей Адольфами, а у нас Иосифами – никого.
Или вот еще характерное отличие. По отношению к гитлеризму легко ответить на вопрос, кто кого уничтожал: немцы – евреев, цыган, еще какие-то определенные категории населения. А кто кого уничтожал у нас? Кто уничтожал – это роковой вопрос, но ведь и кого уничтожали тоже невозможно понять. Да, конечно, представителей старых классов но пожалуйста, на видном месте обязательно останется какой-нибудь, граф Алексей Толстой. Или такой недобиток, как писатель Булгаков. И можно демонстрировать, что вот, не всех уничтожили... То же c верующими, с этническими меньшинствами. В разгар антисемитской кампании некоторые евреи остаются на видных местах, и пожалуйста – бедный Эренбург едет на всемирный конгресс. Какой клеветник скажет что притесняют евреев?
В эту сталинскую стилистику входило то, что некоторых людей, от-природы смелых и прямых, хоть они и жили трудно, в бедности, никогда не арестовывали. Например, Мария Вениаминовна Юдина, человек, который никогда не стыдился говорить о своей вере и высказывать свои мнения. Или вот неведомая никому, кроме тех, кто в наше время а Москве изучал классическую филологию, праведница Жюстиня Севериновна Покровская. У Симона Маркиша только что расстреляли отца, он уже знает, что готовится его арест (его ожидала высылка, слава Богу, ненадолго, ибо на дворе – 52-й год). Но пока ему еще нужно посещать университет, где все стараются его не замечать. А Жюстина Севериновна подходит к нему и, не понижая голоса, почти выкрикивает: «Это что же такое делается?! Это похлеще, чем дело Бейлиса!» И ее, Божьей милостью, не посадили. Такое впечатление, что им была интересно брать тех, кто их боится и принимает всякие меры предосторожности, чтобы можно было уличать и изобличать. А такая просто стоит и говорит. С ней неинтересно.
Глупый Гитлер не понимал, что ему было бы выгодно, если бы евреи могли надеяться лично на него, что он их спасет. А у нас каждый преследуемый мог надеяться, что вмешательством Сталина все изменится.
В этой связи есть такая забавная байка. Один литературный функционер по фамилии Храпченко еще в молодости сделал хорошую карьеру. Его не арестовывали, но все свои чины он потерял в какие– нибудь 10 минут. Каким образом? Будучи на приеме у Сталина в разгар антисемитской кампании, он позволил себе покритиковать космополитов и неуважительно отозвался о каком-то эстрадном певце еврейского происхождения. Но такая инициатива уже не допускалась сталинским стилем: никто не должен был его опережать. Сталин останавливается перед Храпченко (во время беседы он прогуливался мимо собеседника) и спрашивает: «Ты про кого этого говоришь?» Тот называет фамилию. «Врешь, ты говоришь это про народного артиста...» – и перечисляет все его звания. «А ты кто такой?» – продолжает вождь. Храпченко решил, что его призывают к формально-бюрократическому способу представления себя и начинает перечислять свои чины. «Врешь, ты – просто Храпченко».
...Нам нужно как-то найти способ избежать того моралистического диссидентского искусства, которое имело смысл в известное время, а ныне стало лишь искусством махать кулаками после драки. Избежать тотальной характеристики тоталитаризма, когда всю литературу того времени, даже Пастернака, объявляют тоталитаристской.
Я думаю, что одна из наших задач – сохранить этическую перспективу, свободную от поверхностной морализации. Конечно, даже те вещи, которые мы можем принять и защищать с чистой совестью, существуют в такой связи, которую называют (хоть это совсем не мой язык) кармической. Скажем, одним из самых несносных свойств тоталитарной идеологии была ее претензия всех судить, распекать и устраивать выволочку всей истории и всему миру. Увы, современная демократическая идеология тоже к этому склонна.
Пока поведение человека в существенной степени определяется принадлежностью его к некоторому сословию или совокупностью не связанных с его личностью обязанностей, люди вряд ли будут от него в восторге. Это же касается и церковной иерархии. Какой-нибудь придворный еще может для своей карьеры притворяться, что он лично расположен к монарху. Но от солдата или крестьянина этого не требуется. Это можно видеть в литературе: насколько модальность, в которой Ломоносов воспевал Елизавету, нравственно чище модальности, в которой Державин воспевал Фелицу? Елизавета = просто символ государственности, цивилизации; она не претендует на личное отношение к себе Ломоносова, который остается лояльным подданным этого цивилизационно-государственного порядка, и он воспевает его, ни в какой мере не делая вид, что это его личное, непреодолимое движение сердца.
– А что из современной философской литературы привлекает сегодня Ваше внимание?
– Когда я был мальчишкой – в сталинском и послесталинском Советском Союзе, – я знал, по крайней мере, понаслышке, что я современник таких-то и таких-то великих композиторов, художников, писателей, а вскоре узнал и о великих современных философах... Незадолго до смерти Германа Гессе я носился с идеей послать ему из Москвы письмо... И вот – боги поуходили один за другим, и сейчас, когда я разъезжаю по свету и могу посмотреть в библиотеке любую книжку, я в гораздо меньшей степени понимаю, чей я современник. Таково, видимо, наше время. Я не участвую в разговорах о конце философии, поэзии и всего остального – не участвую также и в том смысле, чтобы утверждать, будто этот конец не состоится. Я просто не знаю. Безусловно, мы должны, каждый человек должен знать и каждую минуту помнить, что он умрет. Но он должен также делать свое дело так, как если бы исходил из дерзновенного допущения, что его жизнь будет продолжаться. В определенном смысле он должен быть готов каждую секунду уйти, а в определенном смысле – что, может быть, не легче – он должен быть готов существенно, всерьез, с какой-то наивной уверенностью оставаться, продолжать дело. И я полагаю, таким же должно быть наше отношение к жизни упомянутых универсалий.
1 сентября 1998 г. Киево-Могилянская Академия
Примечания
[1] Беседу записали в редакции издательства и журнала «Дух и Литера» В. Вронский и М. Рябчук, в беседе также принимали участие о. Н. Макар, 3. Антоиюк, И. Белецкая, Ю. Вестель, Н. Кочан, В. Малахов, С. Сеник, В. Скуратовский, К. Сигов, Л. Финберг и др.
[2] Ганс Кюнг – современный немецкий богослов (директор Тюбингенского института экуменических исследований), широко известный своими модернистскими взглядами, в частности, призывом к смене «богословской парадигмы». См. о нем статью А. Григорьева и две его статьи в журнале «Путь», № 2,1992.
[3] Маркион – гностик II столетия, который противопоставлял Новый Завет как откровение доброго Бога Ветхому Завету как откровению злого бога и предлагал исключить Ветхий Завет (и ряд книг Нового, тесно с ним связанных) из состава Священного Писания. Его учение осуждено Церковью.
[4] Симона Вейль – выдающийся французский философ XX века, автор переведенных на русский язык книг «Укоренение» и «Письмо клирику» (Киев, Дух и Литера, 2000).
Архипелаг Аверинцева
Мир Аверинцева опровергает мизантропическое обобщение, с которым, по версии Бродского, современный Одиссей обращается к сыну: «Телемах, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь» Сегодня странствие по статьям Аверинцева удивляет не только редкостным и для более гостеприимных эпох разнообразием, но помимо всех собственных качеств – впечатляющим отсутствием малейших следов в его текстах той всепроникающей атмосферы убийственно монотонной, безобразной «прозы» партийно-государственных речей, задававших тон и открывавших все диссертации и словари, любой «научный аппарат». Не верится, но только опечатка, типографский ляпсус (красноречивая замена одной лишь литеры: вместо «патристический» – «патриотический») напоминает о специфике цензуры второй половины 60-х годов, времени создания ключевой аверинцевской работы о Св. Софии Киевской. В нелегком споре с «духом времени» сотни статей Аверинцева открывают новые горизонты этого неисчерпаемого мира.
Основы христианской культуры в форме энциклопедического словаря – веская альтернатива «лжи в алфавитном порядке», наполнявшей советские энциклопедии. Словарь С. С. Аверинцева дарит читателю как универсальную сумму знаний от А до Я, так и энергию осмысленного личного выбора между узким путем «отца веры» Авраама и широким путем постатеистического «Язычества». Высокооцененные специалистами статьи – украшение «Философской энциклопедии» и «Новой философской энциклопедии», «Краткой литературной энциклопедии», «Мифов народов мира», «Христианства» и др. – впервые собраны вместе в этой книге.
Синтез словаря Аверинцева выявляет особые качества входящих в него элементов, которые раньше «скрадывал» разрыв общего контекста, изолировал друг от друга плотный туман идеологии. Читатель испытывал настоящий шок, когда среди пустопорожних вод «Большой советской энциклопедии» натыкался на скалу аверинцевской статьи «Логос» или «Любовь». Незабываемые встречи: среди морока полуправд в океане полузнаний статьи Мастера всегда отчетливо выделялись как высокие и надежные острова особой горной породы, особой кристаллически ясной мысли. Охватывая теперь эти острова единым взглядом, мы читаем на карте эпохи: Архипелаг Аверинцева.
В статьях, которые наряду со «Словарем» составили книгу «София-Логос», аверинцевский этос продолжает историческую тяжбу с рабскими навыками мысли и речи, с безликим «беспределом» архипелага ГУЛаг, который до сих пор коверкает нашу речь от парламента и прессы до семьи и школы. Энциклопедические работы Аверинцева не только входят в золотой запас академических знаний: они значительно расширяют исторический опыт преодоления тоталитарной идеократии.
«Лично мне кажется невозможным произносить имя города Киева без мысли о его святейшем Палладиуме, зовущемся собором Святой Софии», – сказал С. С. Аверинцев в торжественной лекции, посвященной концепции Софии, прочитанной 1 сентября 1998 г. в связи с присвоением ученому звания Почетного Профессора Киево-Могилянской Академии. Новая страница в мировой традиции мысли о «начале Премудрости» – фундаментальные исследования Аверинцева о Софии в контексте войн и катастроф XX столетия, одного из наиболее «антисофийных» в мировой истории.
В стиле мастера вспомним этимологию слова «архипелаг». Исходное значение – не «группа островов», а «море», более того – «главное море» (от греческого arche – начало, голова, pelagos – море, иначе говоря, «море морей», а поначалу просто – Эгейское море). Для нашей темы важно двойное значение слова, объединяющего в себе и «море», и «острова». Этот символ указывает на глубинный лейтмотив философии Аверинцева – преодоление различных форм изоляционизма: этнического, классового, национального, конфессионального, культурного, языкового, исторического («хронологический провинциализм») и т. д. и т. п. Изучая природу современной поросли изоля-циоиизмов, ученый выявляет их метаисторический корень – отсюда глубина его суждения о тайных очагах болезни и переход от клинических симптомов «закрытых обществ» к настоящему диагнозу.
Разбору подлежит широкий диапазон протеично переменчивых форм болезни, не исключая ни сложных ее случаев, ни простых; своя, адекватная мера суждения тут найдена как для теоретико-идеологического изоляционизма «культурных типов» в духе Шпенглера или Лосева, так и для военно-политического изоляционизма «систем» в духе сталинского или брежневского режимов.
Анализируя «дух времени», «тенденцию века», в котором стали возможны «железный занавес» и «берлинская стена», Аверинцев касается i фоблемы, как правило, не упоминаемой специалистами по холодной войне. «С чем связана эта тенденция века? – ставит вопрос Аверинцев. – Проще всего сказать: гедонизм, консумеризм. В основе лежит, скорее, некий метафизический изоляционизм, желающий отделить Творца от творения, творение от Творца, а нас – от Творца, от космоса и друг от друга...» («Софиология и мариология...», с. 593). Выделение проблемы «метафизического изоляционизма» как ключевой для эпохи, переживаемой нами, напоминает и об исходном «физическом» корне этого понятия: isola – «остров» по-итальянски (island – по-английски, ile – по-французски) от латинского insula. Итак, изолироваться (буквально – «представить себя островом») – тупиковая утопия для отдельного человека, каким бы «отделенным» он себя ни представлял. Да и для человечества в целом; заглавие одной из работ Аверинцева напоминает: «Человечество – не остров» («L'humanite n'est pas un ile», «No man is an Island»).
Эксцессы «островной психологии» и приобретенные рефлексы группового изоляционизма отрезают человеку пути к общению, к возможности слушать и быть услышанным. Три формы изоляционизма характерны для нашей эпохи. Легкая форма состоит в претензии своего «острова» на исключительный статус среди прочих фрагментов мира. Тяжелая форма переходит к отвержению «архипелага» – исторически данного пространства общения между «островами». Метафизическая форма изоляционизма отвергает богочеловеческую стихию Премудрости – софийной связи между вещами и их именами.
Сопротивление изоляционизму принимает в аверинцевских трудах позитивное направление: сосредоточенное усилие восстановить слово как средство общения и связующее начало предельно атомизированного общества.
Философия посткоммунизма? Точнее будет сказать – первый глубокий анализ «постатеистической ситуации». СССР был заявкой на победу, условно говоря, «атеизма сверху»: его диктовали не только ЦК КПСС и вся лестница партячеек, но и такие «учителя подозрения», как Маркс, Ницше, позитивизм и т. д.1
Другая угроза, опять-таки условно обозначая, – «атеизм снизу», не государственный, не научный, не интеллектуальный: ползучее недоверие к смыслу как таковому, к слову и с большой, и с малой литеры, к внятной и светлой открытости как реальной альтернативе «кошмару тотальной невнятности».
В работах «Будущее христианства в Европе» и «Слово Божие и слово человеческое» дан поразительно точный анализ нашей «постатеистической ситуации». «В настоящее время вере в Откровение противостоит совсем новый вызов, пришедший на смену умершему атеизму: неверие в слово как таковое, вражда к Логосу:» (с. 827). На смену старым революционным претензиям изолировать землю от неба пришло недоверие к какой-либо связи между оставшимися на этой голой земле. Если браки по непроверенным, но настойчивым слухам больше не заключаются на небесах, то большой вопрос, где же они тогда совершаются, где человек находит способность абсолютно всерьез принять эту максиму брака: «вне Другого нет спасения» («Брак и семья», с. 800). Подозрительность к другому, страх обязывающего контакта с другим – страх данного слова, которое свяжет меня и другого.
В разрушении слова Аверинцев осознает, почти ощущает разлагающую волю небытия. Ведь первоопределение бытия – его «словесность», его исходная сродиость общению. Общение – не исключительная привилегия социума, оно онтологично. «Творец приводил творение в бытие тем, что окликал вещи, обращался к ним, дерзнем сказать – разговаривал, заговаривал с ними; и они начинали быть, потому что бытие – это пребывание внутри разговора, внутри общения» («Слово Божие и слово человеческое», с. 816). Сужение онтологии общения фиксируется уже заменой Слова (зовущего отклик) на Текст (ожидающий интерпретации).
Сначала слово как деяние, потом текст – такой вектор герменевтики Аверинцева2 скрещивается с вектором герменевтики Поля Рикёра, одну из своих книг озаглавившего: «От текста – к действию»3. Но при всем различии отправных точек мысли Аверинцева и Рикёра, важно указать на плодотворность их сопоставления. Обоих ученых объединяет сопротивление фундаментализму, фетишизации буквы (или «языка») в ущерб трем другим смыслам старинной экзегезы – этическому, символическому и «анагогическому». Уместно вспомнить, что в этом общем русле сопротивления изоляции «буквального» значения развивалась мысль Дмитрия Ивановича Чижевского, напоминавшего о важности для Григория Сковороды мысли Оригена: «Буквальный смысл часто имеет неверное, бестолковое, противоречивое, невозможное, бесполезное значение, из которого проистекает тьма ошибок», а также Григория Нисского: «Не надо быть настолько недалеким», чтобы «понимать Писание буквально»4. (Отметим в скобках: привлечение герменевтики Чижевского оказывает в нашем контексте двойную услугу, указывая на близкие и далекие связи работ Аверинцева и освобождая их от чуждого им по сути оттенка «экзотичности» на фоне советских штудий.) «Литера – светильник, а Дух – свет»; восстановление общих мест здравого смысла служит у Чижевского, Аверинцева и Рикёра началом пути освобождения герменевтики от наклонной плоскости фундаментализма. На этом пути, во-первых, утверждается примат слова в стихии общения над изолированным концептом текста, а во-вторых, проясняется метод и роль современной герменевтики как некоего koine – речи общения между удаляющимися друг от друга дискурсами наук о человеке.
Три конкурирующие тенденции в современной гуманитарной науке выделяет такой корифей англосаксонского академического мира, как А. Макинтаир; в стихии эклектичной всеядности они радуют определенностью своих имен: Энциклопедия, Генеалогия, Традиция3. Первая тенденция от новеньких учебников и энциклопедий на всех языках планеты восходит к французским авторам Энциклопедии и другим интеллектуальным отцам Эпохи Просвещения и Нового Времени. Вторая тенденция представляет во многом критическую реакцию на первую со стороны поклонников «Генеалогии морали» Ф. Ницше или «Археологии знания» М. Фуко. Третья тенденция, учитывая опыт первой и второй, но не абсолютизируя их аксиом, обращается к классическому наследию античности и христианства (Аристотель и неотомизм у А. Макинтаира, «неопатристический синтез» у X. Яннараса и др.).
Словарь Аверинцева – самый серьезный корректив к такой типологии в современной гуманитарной науке. Аверинцевский словарь неожиданно тесно сопрягает последнюю тенденцию с первой: Традицию с Энциклопедией. Сила аверинцевского тезиса сказалась в решительной перемене привычных, закрепленных школьной рутиной, знаков: отбросив старую альтернативу «Энциклопедия против Традиции», Аверинцев указал на практическую осуществимость формулы «Традиция через Энциклопедию», на плодотворность передачи сокровищ предания в энциклопедической форме. Богатство выводов из этого оригинального методологического открытия читатель может сам проследить в деталях всей суммы Словаря. Да и в исследовательских статьях, тоже «словарных», в силу их лаконической насыщенности, беспристрастной интонации, направленности на сверхличный синтез. «Ученый– энциклопедист» – это стертое понятие приобретает особую полноту и точность в отношении Аверинцева.
Отметим также как важную характеристику словаря Аверинцева его принципиальную открытость, отсутствие «жанровой» претензии на тотальный охват материала.
Особо, пожалуй, следует отметить качество и размах переводческой работы Аверинцева (несомненно, повлиявшей на его философскую культуру), пожалуй, не имеющие аналогов на панораме мысли XX столетия (стоить сравнить раздел «Переводы» в его библиографии с другими, пускай отдаленно сопоставимыми, библиографиями).
Давние читатели уже не однажды убеждались, что, условно говоря, «Аверинцев как метод» верен. Новому читателю попавшая в руки книга послужит, быть может, чем-то вроде компаса в непроглядной постсоветской одиссее.
Как в нашем зажатом и загнанном мире возможен свободный и просторный мир Аверинцева?
Работа над составлением книги, отражающей «млечный путь» этой вселенной, проходила в точном соответствии с формулой, завершающей словарную статью «Чудо»: «не только милость, оказанная немногим, но знак, поданный всем» (с. 501). При выходе из «египетского рабства» этого века к простору нового тысячелетия так важно и так естественно, что именно эта, открытая «большому времени» книга – знак, «поданный всем».
Что делает мир Аверинцева настоящим, невыдуманным миром, в котором можно жить, восстанавливая дыхание и прямохождение, прояснять свой собственный путь, всматриваясь в непоглощенную мглою «сферу неподвижных звезд»? На какую «реальность» ориентирован его мир? Ответ на этот вопрос со всей определенностью сформулирован в Киево-Могилянской лекции: «Реальность, которую можно назвать софийной в наиболее точном смысле этого слова, т. е. ни чисто Божественная, ни чисто человеческая, ни Трансцендентность, ни имманентность сами по себе, но, если воспользоваться высказыванием великого английского поэта Уильяма Блейка, «человеческий божественный образ»« (с. 545).
Студенты – народ практичный, ими давно перефразировано: «страницу Аверинцева прочесть – горло прочистить, статью прочитать – глаза протереть, открыть объемное виденье своего предмета». Медленное чтение мерной, «логосной» аверинцевской прозы как будто впрямь способно лечить от невежества и косноязычия (в том числе эрудированного). По этим классическим страницам учились и еще долго будут учиться писать и аспиранты, и академики. А главное – мыслить свой предмет в отчетливых категориях, ни на минуту не отгораживаясь ни фальшивым пафосом, ни иллюзорным глубокомыслием от взыскательного суда читателя.
В конце концов, новое издание Аверинцева – логичный контраргумент в ответ на его собственное горькое наблюдение: «Пока мы ставим мосты над реками невежества, они меняют свое русло, и новое поколение входит в мир вообще без иерархических априорностей». Опять-таки, чаще упоминаемое, чем всерьез обдумываемое преодоление разрыва между поколениями, между «отцами» и «детьми» увидено Аверинцевым в широком контексте нашей эпохи: «Тоталитаризм XX века сам по себе имел и имеет шансы лишь в контексте глубокого культурного и, шире, антропологического кризиса, проявляющегося и там, где тоталитарные силы не смогли добиться политической победы. Кризис этот затрагивает прежде всего связь отцов и детей, преемственность поколений, психологическую возможность для родителей – практиковать свой авторитет, а для наследников – принимать предлагаемые этим авторитетом ценности» («Христианство в XX веке», с. 649).
Сосредоточенное неотрывное внимание к рвущимся нитям истории (в период внушения «широким массам» одинокой гамлетовской догадки о «порвавшейся связи времен») приоткрывает общую перспективу и надличный смысл аверинцевского, подчеркнуто личного исповедания веры: «Дело в том, что для меня, каков я есмь, вопрос о пережитом и переживаемом мною опыте отношения к моим покойным родителям, к моей жене, к моим детям – слишком неразрывно связан с иным вопросом – почему, собственно, я верю в Бога? Этот опыт для меня – пожалуй, наиболее веское доказательство бытия Божия» («Брак и семья», с. 796)
Свидетельство об уникальных, абсолютно ничем и никем не заместимых отношениях между людьми здесь, впервые за века и века, с такой определенностью занимает место старых «доказательств» (онтологических, космологических, схоластических, эстетических и прочих). До опыта последних трех поколений XX века едва ли была представима эта поистине контрастная отчетливость разделяемого нами «наиболее веского доказательства» – по ту сторону руин атеологии.
Вопреки хаосу в головах и учебниках книга Аверинцева напоминает о незыблемой шкале ценностей, о «Нерушимой Стене» – Оранте. Учителю и ученику здесь подарены все три значения слова СОФИЯ: мастерство – знание – мудрость.
Константин Сигов Октябрь 1999 года, Киев
Примечания
[1] См. Alasdair Maclntyre, Paul Ricoeur. The Religious Significance of Atheism, New York, Columbia University Press, 1969.
[2] Герменевтический метод Аверинцева уже стал предметом детального и выверенного анализа. См. созданный М.Л.Гаспаровым «мозаичный» портрет-характеристику стиля Аверинцева, составленную из его же афоризмов, глубокое исследование О. А.Седаковой «Рассуждение о методе» («Новое литературное обозрение», № 27. – М, 1997) и новый «методологический» анализ ВЛ.Скуратовского «Мастер и его метод» («Дух и Литера» № 3-4, Киев, 1998). Дополним высказанные наблюдения о ярком своеобразии стиля Аверинцева попыткой первого приближения к плодотворным в будущем сопоставительным характеристикам.
[3] Paul Ricouer, Du texte a ['action, Seuil, Paris, 1986, p. 412.
[4] Д.Чижевский. Философия Г.Сковороды. Варшава, 1934. С. 55.
[5] Alasdair Maclntyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopaedia, Genealogy and Tradition. Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1990, pp. X, 241.
P. S. Риск приближения к Laudatio (похвальному слову) был задан контекстом статьи 1999 года: незадолго перед тем Сергей Сергеевич Аверинцев оказал честь нашему университету и открыл своей лекцией академический год, приняв мантию профессора honoris causa. Продолжением праздника стало составление книги «София-Логос. Словарь». С теми событиями связана праздничная интонация слова на пире, которая тогда диктовалась самим порядком вещей, а сегодня может кому-то показаться неуместной. Отчего же я не вычеркиваю эти неуместные теперь слова из послесловия к книге? Сказанные в иную эпоху, они нарушают тот современный предрассудок, о котором в своём «Laudatio» Карлу Ясперсу сказала Ханна Арендт: «Рабы современных предрассудков, мы считаем, что публике принадлежит только "объективное произведение", отдельное от лица; что стоящее за ним лицо и его жизнь – частное дело и что относящиеся к этим "субъективным вещам" чувства утратят подлинность и превратятся в сентиментальность, если их выставить на всеобщее обозрение». Сказанное в другом контексте рискнём отнести к миру Аверинцева: «Никто лучше, чем он, не поможет нам преодолеть наше недоверие к этой публичной сфере, почувствовать, какая это честь и радость – во всеуслышание хвалить того, кого мы любим» (X. Арендт, «Люди в тёмные времена», М., 2003).
Событием, которое в буквальном смысле «лишило дара речи», стала смерть Сергея Сергеевича 21 февраля 2004 года. Здесь не место говорить о боли личной утраты. Речь о том горизонте общей потери, на который пушкинское поколение указывало словами Мирабо: «Son silence est une calamite publique» («Его молчание – общественное бедствие»). Слышен ли сегодня глубокий смысл этих слов и этого молчания? Сквозь нашу глухоту и разобщенность этот вопрос обращен к тем, кому имя Аверинцева помогает преодолевать недоверие к пространству «между нами», где слово может встретить отклик. Проще говоря, помогает узнавать и слышать друг друга.
К. С.
2005 г.








