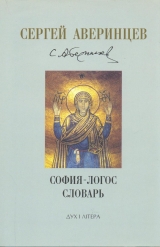
Текст книги "София-логос словарь"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 64 (всего у книги 71 страниц)
Но что правда, то правда: именно тогда был сделан решающий шаг в сторону опаснейшей двусмысленности. Да, война вернула людей к простейшим реальностям жизни и смерти, к «архетипам» народного самосознания, и разгулявшаяся бесовщина принуждена была войти в берега. Но в берегах она, конечно, чувствовала себя совершенно уверенно, и еще большой вопрос, что хуже, – буйный разлив злой силы, или ее «упорядоченное», но зато как бы само собой разумеющееся присутствие. Что получалось? Епископ в самых узких, скупо отмеренных пределах своей «резервации», да еще иод неусыпным надзором специального чиновника безбожной власти делает свое дело; атеистический лектор-пропагандист на просторах шестой части света невозбранно делает свое дело; а оба они вместе, что же, делают некое общее дело? Из теории всеобщего «морально-политического единства» получалось именно так. А раз дело – общее, какие могут быть принципиальные возражения, скажем, против доверительной открытости по отношению к сотрудникам КГБ – одни патриоты Отечества беседуют с другими патриотами Отечества, просто идиллия! Думать об этом больнее, нежели о слабостях и компромиссах тех или иных персон. Не будь войны, формула из так называемой Декларации митрополита Сергия от 29 июля 1927 г. о том, что у советской власти и Церкви общие радости и неудачи, наверное, так и осталась бы словесной завитушкой. Но в годы войны вправду были общие горести и общие радости, ничего не скажешь. А после от иллюзий уже ничего не осталось, но слишком много было создано опасных прецедентов, и трудно было выбраться из тупика, в который сами зашли на предполагаемом пути к возрождению Руси.
Как бы ни было больно, невыносимо больно читать словеса о «Богоизбранном вожде», все же мне кажется, что главная ошибка, ошибка, которой вполне можно было бы избегнуть, оказалась совершенной не в страшные годы сталинщины, также и не в пору набравшей новую ярость антирелигиозной кампании Хрущева, – а позже, при Брежневе и его преемниках. В 70-е годы общественное мнение интеллигентских кругов, но также и так называемых масс резко изменилось, став несравнимо более благоприятным в отношении религии. Сдвиг в сознании намного опередил «перестройку». Интеллигенты, и не они одни, стали отыскивать возвратный путь в Церковь; обращения тех лет были, как правило, более серьезными, более выстраданными, чем это подчас имеет место сегодня. Беззвучно изменилось соотношение сил. Вот маленькая бытовая сценка из середины 70-х годов: к моей жене подходит на улице незнакомая старушка и спрашивает: «Ты, доченька, молодая, так ты, конечно, знаешь – когда в этом году Великий Пост начинается?» Для всех предшествовавших советских десятилетий сама мысль, что старушка может спрашивать у молодой, городской женщины интеллигентского вида о сроках Великого Поста, была бы сущим бредом; начиная с 70-х это – обыденная реальность. Иерархия, за немногими исключениями, в общем продолжала вести себя так, словно ничего не замечает. Мне вспоминается из тех лет еще одна сценка: праздник Введения во Храм в одном из наиболее популярных среди столичной интеллигенции приходов в самом центре Москвы, чуть не половина молящихся – молодые люди, немало еврейских лиц, но и прочие по большей части явно пришли к вере сами, во взрослом возрасте; и перед такими-то слушателями влиятельный иерарх толкует в хорошо построенной проповеди, что-де все вы, братья и сестры, были принесены во храм в должный день после рождения вашими благочестивыми родителями... Поскольку проповедующий никак не был человеком тупым, такую проповедь невозможно понять иначе, как совершенно сознательный отказ от реальности в пользу условного, искусственного мира. Он словно бы говорил нам: не вижу вас, не хочу вас видеть, обращаюсь к совсем другой, воображаемой пастве – а вы не нужны мне и, главное, не нужны Церкви. Сейчас, задним числом, поздно высчитывать, что могло быть и чего не могло быть сделано для народившейся тогда и подвергавшейся гонениям новой христианской общественности; но нет сомнения, что самый факт ее бытия мог быть учтен Московской Патриархией в несравнимо большей степени, чем это имело место. И тот модус поведения, который для 40-х годов язык не поворачивается критиковать, для 70-х годов был уже, кроме всего прочего, грубым анахронизмом.
После страшного света кровавых зарниц – серые будни, мелкий дождик... Кто бы мог ждать – именно этого? Да, это великое чудо, что на нашей земле вообще выжила вера. Но как может быть, что это чудо не обжигает сердец? Один потомок русской эмиграции первого, героического поколения, побывав в московских храмах, негромко спросил меня: «Почему в ваших Богослужениях так мало огня? И это – после всего, что было?» Укоризненный вопрос – ко всем нам.
ВМЕСТО ИТОГОВ
Не будем, однако, кончать на такой унылой ноте. Еще и еще раз вспомним эти дивные слова апостола Павла о «надежде сверх надежды» (Рим. 4:18).
У меня нет ни священнической, ни пророческой власти – учить, показывать путь. У меня нет ничего, кроме нескольких предостережений, очень простых, заурядных, скучно-здравомысленных.
Наши новые православные, околоправославные, сочувствующие, то есть «широкая публика», кажутся мне уж слишком похожими на детей. Позавчера они вовсе не думали на церковные темы; вчера каждый осанистый архиерей казался им ангелом или святым, только что сошедшим с иконы; сегодня они зачитываются газетными разоблачениями про Священный Синод как филиал КГБ... Так подросток, узнавший нехорошую подробность о своем обожаемом кумире, торопится зачислить его в изверги рода человеческого. Но на то он и подросток. Не будем спрашивать, что хуже – умильное легковерие или школьнический пыл разоблачительства; одно стоит другого, ибо то и другое чуждо чувству ответственности. В Писании сказано: «Не будьте детьми умом» (1 Кор. 14:20). Вернемся, однако, к сюжетам серьезным. Боюсь, что моя позиция заранее обречена на непопулярность; она – серединная, увлекательные крайние суждения для меня неприемлемы.
С одной стороны, я по совести не могу считать так называемую Декларацию митрополита Сергия – отрадным фактом в истории моей Церкви. Простое сравнение ее текста с текстом обращения к Правительству СССР православных епископов, находившихся в Соловках (май 1927 г., за 2 месяца до Декларации), является для нее уничтожающим. А ведь Соловецкое Послание тоже приемлет закон об отделении Церкви от государства, более того, гарантирует «устранение Церкви от вмешательства в политическую жизнь», то есть признает новый порядок вещей как данность и держится принципа гражданской лояльности. Но с какой правдивостью, с каким достоинством это было там высказано! И какими глазами после этого читать тот пассаж Декларации, где выражена благодарность советской власти за ее особое «внимание к духовным нуждам Православного населения»? Я не вижу ни необходимости, ни даже возможности вместе с о. Иннокентием Павловым («Независимая Газета» 29.07.92) рассматривать Декларацию – как говорит о. Иннокентий, полемически заостряя свой тезис, наравне с текстами св. мученика Иустииа, – в качестве связывающей и обязывающей нас части чтимого церковного Предания; для того, чтобы войти в состав Предания, она должна была быть принята соборной полнотой Церкви,– а разве это произошло? (Вспомним массовое ее отвержение церковными приходами в том же 1927 г., засвидетельствованное архимандритом Иоанном Снычевым и упоминаемое в труде Льва Регельсона «Трагедия Русской Церкви»). Не каждый факт истории Церкви есть ео ipso компонент Предания в вероучительном смысле слова.
Но совсем иной вопрос: возможно ли рассматривать Декларацию и вместе с нею всю совокупность огорчительных заявлений и действий самого Сергия, его окружения и его преемников, как вероотступничество, лишающее иерархов – сана, таинства – благодатной силы, духовенство и паству в юрисдикции Московской Патриархии – их идентичности как Церкви Православной, Церкви Христовой?
Это – серьезный вопрос, и ответ на него может быть однозначно утвердительным или однозначно отрицательным. Никакой середины здесь быть не может**.
Так как же – приступая к таинствам в храме Московской Патриархии, получает верующий разрешение от грехов и Св. Причастие или не получает? Логика возбраняет ответить, что он их отчасти получает, отчасти же нет. Совесть же возбраняет оставить его в недоумении относительно вопроса, который есть воистину вопрос жизни и смерти – вечной жизни и вечной смерти.
Для церковно мыслящего человека не остается и возможности уклониться от этого вопроса, отмахнуться от него, сославшись, скажем, на то, что слушаться надо не архиереев, а старцев. Кто принял Православие, принял иерархическое устроение Церкви, о духовной важности которого выразительнейшие слова сказаны еще св. Игнатием Богоносцем в самом начале II в.; мы – не квакеры, у которых каждая община вольна по своему вдохновению решать все дисциплинарные и доктринальные вопросы. Авторитет харизматического духовного наставника, старца, – разумеется, при строжайшем условии, что харизма его не иллюзорна, – дополняет, но никоим образом не заменяет и не подменяет авторитета епископского. Так в Ветхом Завете служение пророков, имевших власть от Бога обличать любых носителей институционального авторитета, не могло, однако, сделать ненужным служение священников и первосвященников. В соответствии с принципом церковной свободы, о котором с такой силой говорил А. С. Хомяков, почтение к сану не должно переходить известной черты, за которой оно вырождается в некое саддукейство, в клерикализм и попросту низкопоклонство; нужно, чтобы полнота церковного народа сохранила право эффективно предъявлять требования к чистоте жизни и учительства своих епископов, а в самых серьезных случаях ставить перед церковным судом вопрос о недостоинстве того или иного лица. Но если епископы будут действительно епископы, хотя бы и подающие повод к серьезным укорам, даже в укорах должна быть соблюдаема определенная мера. Вспомним, как апостол Павел выразил сожаление о своем резком ответе иудейскому первосвященнику Анании, человеку, несомненно, недостойному и только что проявившему крайнюю грубость относительно самого апостола. «Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: "начальствующего в народе твоем не злословь"» (Деян. 23:5, срв. Исх. 22:28). А говоря по-житейскому, требование здравого смысла, также вмененного нам Господом в обязанность (Мф. 10:16), – ясно сознавать различие между двумя родами критики. Если критика всерьез имеет целью помочь критикуемой личности или корпорации вести себя в будущем лучше и помешать вести себя хуже, она должна давать реальный шанс услышать и принять себя, для чего в свою очередь принять права этой личности или этой корпорации, таким образом сделав себя хотя и совсем не приятной, но принципиально приемлемой. В таком случае критикуемые должны знать, что не только любой их одиозный поступок, но и любое доброкачественное движение будет замечено и вызовет адекватную реакцию. Совсем иное дело – критика, направленная на безоговорочное моральное уничтожение своего объекта. Пророк Нафан очень нелицеприятно обличал царя Давида, но нет надобности объяснять отличие его позиции от позиции пророка Елисея в отношении царя – вчера Охозии и царицы Иезавели. Какое-либо смешение этих позиций недопустимо. Или – или. Перед нами жесткая дилемма: либо «начальствующие» Московской Патриархии суть действительно, правомочно «начальствующие», которых мы можем, и порой должны обличать, но не смеем «злословить», признавая как законную власть; либо они своими личными и корпоративными грехами, своими контактами с безбожным режимом, своими малодушными компромиссами вывели себя сами за пределы Православия и перестали быть «начальствующими». Если бы это было так, мы все должны были бы, незамедлительно и всенародно, переходить в иную юрисдикцию; ибо без епископов, без послушания и почтения к епископскому сану Православная Церковь не может прожить ни часа. По счастью, это не так.
Я очень рад, что при обсуждении самого грозного вопроса имею возможность и даже обязанность ничего не говорить от себя, покинуть почву человеческих мнений, суждений, эмоций, оценок. Сама Церковь, Вселенская Церковь святоотеческих времен уже обсуждала именно этот вопрос – и вынесла по нему определенный, однозначный вердикт, на все времена имеющий силу для тех, кто признает Предание. Как уже догадался читатель, я говорю о соборных определениях, касающихся донатизма.
Есть ситуации, которые имеют свойство повторяться. Во время Диолектиановых гонений, пришедших на земли Северной Африки в 303-304 гг., различные духовные лица вели себя по-разному. Мнения о том, где проходит граница, отделяющая дозволенную осторожность от трусливого предательства Церкви, и другая граница, отделяющая святую готовность к мученичеству от ревности не по разуму, тоже расходились. Были епископы и священники, которые демонстрировали покорность приказу государственной власти выдать для уничтожения священные книги (подчас хитря при этом, припрятывая Писание и подсовывая несмысленным язычникам что-нибудь совершенно иное – уж мы-то знаем, как это делается). Были и клирики, и миряне, которые безоговорочно осуждали таких, называя их «traditores» (по-латыни игра слов – буквально «выдавшие», но также «предатели»). Дворы карфагенских тюрем, в которых претерпевали заточение и пытки или дожидались казни жертвы гонений, были до отказа переполнены возбужденной христианской толпой. Верующих вел туда самый похвальный порыв – посетить узников, ободрить их, облобызать их оковы и раны, а возможно, и разделить их участь. Ситуация, однако, показалась епископу Карфагена чересчур взрывчатой, и он послал своего диакона Цецилиана, чтобы тот – надо сознаться, довольно грубо – принудил энтузиастов разойтись по домам и соблюдать спокойствие. Вполне возможно, что при этом иерарх совершил грех, за который ответит в Судный День. Когда, однако, в 311 г. сам Цецилиан был избран очередным епископом Карфагенским, оппозиция, объединившаяся вокруг некоего Доната и от него получившая свое имя, не ограничилась осуждением тех или иных поступков, совершенных теми или иными лицами, но оспорила благодатность самого таинства рукоположения – на том основании, что его совершал иерарх, обвиняемый в малодушии перед лицом гонений. И в связи с этим донатистами был выдвинут общий принцип, согласно которому критерием подлинности Церкви является личная безупречность каждого ее члена, начиная, разумеется, с клира. Истинная Церковь – Церковь Святых, и ей противостоит лже-Церковь грешников. Таинства могут быть только в Церкви Святых. Донатисты были люди последовательные, они даже перекрещивали тех, кто к ним приходил, – какое же крещение может преподать находящийся в общении с грешниками?
Величайший из исторических оппонентов донатизма, Блаженный Августин, напоминал о евангельской притче: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедши же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13:24-30).
До конца времен плевелы будут расти на широком поле Церкви вперемежку с пшеницей. Очень понятное желание немедленно увидеть на земле безукоризненное Собрание Святых в незапятнанных белых ризах порождает утопию, гибельную как всякая утопия, и вдвойне гибельную как «духовная прелесть». Страшная расплата за мечтательность – экклезиологическая паника: да в настоящей ли я Церкви, или уже в Антихристовой? Эта паника столько раз гнала живые, ревностные, духовно чуткие, но недостаточно трезвые души: из Церкви – в схизму, из единства – в разделение, порождая все новые и новые «деноминации» и «юрисдикции». Как показывает в равной мере история русского Раскола и протестантского сектантства, дробление, раз начавшись, не может остановиться, паника не утихает: ибо везде беглецы находят на новом месте то же (предсказанное Господом) присутствие плевелов, от которого бежали. И еще не измерена, не изучена, не оценена роль экклезиологической паники в подготовке массового безразличия к вере. Можно понять вводимого в соблазн простого человека: те ему говорят, что грех ходить в эту церковь, эти – что в ту; так уж он лучше дома останется.
Единственное противоядие от паники – истина, сформулированная Церковью в споре с донатизмом: носитель сана может иметь на себе очень тяжелые грехи (за которые ему будет много труднее отвечать на Суде Божием, чем нам, мирянам), – но все таинства, совершенные его недостойными руками до его законного извержения из сана, мы принимаем от Самого Господа и без малейшего сомнения.
Такова догматическая сторона дела. Что до моральной, я хотел бы в заключение ограничиться двумя трюизмами.
Во-первых, бесполезно спрашивать, состояли ли наши иерархи в негласных контактах с институциями, с которыми было бы лучше не иметь никаких контактов. Мы знаем, что такое тоталитарный режим. Но можно и должно спрашивать, как вел себя каждый епископ внутри двусмысленной ситуации такого контакта. Пытался ли он неприметно добиться чего-то для Церкви – или думал о своей выгоде и о вреде для своих коллег? Помогал ли он беззащитным хоть исподволь, хоть исподтишка – или холодно ставил их под удар? Должна быть, по моему убеждению, создана какая-то инстанция, включающая морально авторитетных лиц из духовенства и мирян, которая была бы способна без демагогии, но и нелицеприятно рассматривать подобные вопросы.
Во-вторых, если русская пословица гласит: «Каков поп, таков и приход»,– то ведь до некоторой степени верно и обратное. Каждый народ имеет такую власть, какую заслуживает; в том числе и духовную. Постараемся заслужить (и вымолить) для нашей земли епископов, из-за которых имя Божие не будет, как говорил апостол Павел, хулимо у язычников (Рим. 2:24).
Будущее христианства в европе
Опыт ориентации
Воистину, «я не пророк и не сын пророка» (Ам. 7:14), и задача моя трудна для меня. Более всего хотелось бы мне уберечься от двух симметрически противолежащих родов глупости: от Сциллы оптимизма и от Харибды пессимизма.
Пессимистами нам, христианам, непозволительно быть постольку, поскольку мы из опыта знаем, что наш Бог, вопреки всем идеологам и даже теологам «смерти Бога», есть Бог живой и Бог живых; что против общности тех, кто остаются верными до конца, врата адовы вправду бессильны; наконец, что Провидение и сегодня, как всегда, находит путь, наиболее неожиданный, более того, непредставимый и для человеков, и для бесов. Тактика Бога такова: как история, так и пережитое каждым из нас лично учат нас, что она всех застает врасплох. Не это ли свойство Провидения, посрамляющее все расчеты прогнозистов, описывают загадочные слова псалма о смехе Бога над замыслами царей земли? «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им» (Пс. 2:4).
Поскольку вышесказанное – вне спора, пессимизм есть бессмыслица. Поскольку же все, все остальное в высшей степени проблематично, оптимизм есть ложь. Человек, по Шиллеру, обречен сбиваться с пути, «пока он верит в золотое время, когда победит доброе и благородное: доброе и благородное ведет вековечную тяжбу, и противник никогда ему не уступит».
Подлинная христианская надежда, надежда как «теологическая добродетель», воспетая Шарлем Пеги «la deuxieme vertue», «надежда сверх надежды», по слову апостола Павла (Рим. 4:18), невозможная, единственная, которая еще никого не обманула, – она-то но самой своей сути глубоко чужда и оптимизму, и пессимизму. Христианин, достойный этого имени, способен радостно идти навстречу неизвестности, навстречу крушению любых темных надежд, не ожидая от мира сего никаких гарантий. Будущее надежды – иное, чем будущее футурологов. Мысли Божий, учит нас Писание, – не наши мысли.
Некогда такой романтический мыслитель, как Новалис, мог озаглавить свой знаменитый фрагмент: «Христианский мир, или Европа» («Christenheit, oder Europa»). Разумеется, и тогда, в 1799 г., как раз на исходе столетия Вольтера и Руссо, после опыта якобинской политики «дехристианизации», неведомого со времен Диоклетиана, заглавие это уже отдавало стариной, как оно и приличествует романтикам. И все же оно оставалось в пределах возможного. С тех пор не успело еще пройти второе столетие, – но где мы сегодня?
Архиевропейское, всеевропейское понятие «христианского мира» – лат. christianitas, англ. Christendom, нем. Christenheit, франц. chretiente, – засвидетельствованное, как известно, уже в «Песни о Роланде» и т. д., – это ключевое понятие, созданное средневековым образом мысли, все еще значимое для реальности раннего Нового времени, стало для нас таким далеким, таким призрачным.
Сегодня по всему миру, на всех континентах, в самых разнообразных и экзотических регионах можно сыскать христиан; подчас вера наших новообращенных братьев кажется более свежей, более живой, чем у их единоверцев в старой Европе. Да, христиане есть повсюду – но по большей части на правах меньшинства; достаточно часто – меньшинства угрожаемого, подставленного под удар; такое уже пришлось повидать и европейским странам. В старых городах Запада над базиликами, чтимыми из рода в род, горделиво возносятся корпуса деловых строений, а иногда – новенькие мечети. На улицах моей родной Москвы, православной столицы былых времен, на этих улицах, на которых вчера громогласно звучали мелодии советского официоза, сегодня слышатся напевы «Харе Кришна»; они до того прочно засели в памяти у сегодняшнего москвича, что уже подают основу для обыгрывания в пасквильных стишках на политические темы. Отпрыски многих поколений христианских предков, продолжая оставаться номинальными христианами, принадлежащими к тому или иному вероисповеданию, или, напротив, именуясь агностиками либо атеистами, на деле с равным рвением служат культу радикально-секуляристского Духа Времени, чьи главные ценности – «efficiency», «fitness» и вседозволенность, а эрзац для тайны – возможно, астрология или еще что-нибудь в этом роде; или, устав от секуляризма, они обращаются в какую-либо «экзотическую» религию, порой, и притом вес чаще, в ислам, – не говоря уже о неведомых демонах «молодежной» субкультуры, т. н. «New Age», что называется, «не нашего Бога чертях».
А там, где мы встречаем подлинное, живое и творческое христианство, оно все реже и реже оказывается унаследованным от родителей, обусловленным семейными традициями или хотя бы национальной принадлежностью. Вспомним для примера имена ведущих деятелей католической культуры в нашем столетии: процент лиц, «обратившихся» в католичество, «пришедших» к нему, очень высок. Предки Г. К. Честертона были пуританами – крайними антагонистами католической веры. Жак Маритен родился гугенотом, его жена Раиса – украинской еврейкой. К старому гугенотскому роду, переселившемуся в Германию (и давшему России знаменитого Петрова сподвижника, Ф. Лефорта), принадлежала Гертруда фон Ле Форт, которой удалось создать нечто вроде немецкого аналога религиозной лирики Клоделя. Кардинал Люстиже – по рождению польский еврей. Что касается ведущих православных мыслителей, ограничимся тем, что назовем Оливье Клемана, который равным образом пришел на свет как отпрыск гугенотских предков и атеистических родителей, чтобы обратиться к вере под воздействием примера интеллигентов из круга русской эмиграции.
Снова верно то, что было верно во времена Тертуллиана: «Христианами не рождаются, но становятся» – «Fiunt, non nascuntur Christian!». Все чаще происходит обмен привычных ролей: христианам т. н. третьего мира отнюдь не чужда мысль – идти миссионерствовать в Европу (подобно тому, как у нас потомок еврейских предков о. Александр Мень миссионерствовал на земле, когда-то бывшей Святою Русью). Положим, наша многолюбимая Европа еще может в каком-то контексте быть названа «первородной дочерью Церкви» (как некогда именовалась Франция); впрочем, если понимать вопрос о «возрасте» совсем буквально, приходится вспомнить, например, о христианстве коптском или сирийском, – но дело даже не в этом. Само собою приходит на ум отрезвляющее воспоминание о том, сколь часто в Библии первородство отнимается у одного и передается но Божией воле другому, а равно и о непохвальной роли, каковую Старший Брат играет в евангельской притче о Блудном Сыне. На редкость актуально сегодня увещание Иоанна Крестителя: «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3:9). Я-то сам должен сознаться, что эмоционально останусь до конца дней своих, в соответствии с воспитавшей меня русской интеллигентской традицией, чем-то вроде европейского шовиниста. «Страна святых чудес» – сказано о Европе не у кого-нибудь, а у славянофила Хомякова. А уж что говорил Версилов у Достоевского, помнят все. «О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес». От прочих цитат воздержусь... Но что делать: когда речь идет о самых важных вещах на свете, имеет силу не голос эмоции, но голос совести. Христианское первородство Европы проблематичнее, чем когда бы то ни было.
В определенном смысле позволительно сказать, что вернулись времена «Послания к Диогиету» – незабываемого литературного памятника раннехристианской поры (II в.). В нем мы читаем:
«Ни земля, ни язык, ни обычаи не отличают христиан от прочих людей. Они исполняют обязанности наравне с гражданами, однако подвергаются гонениям наравне с чужаками. Каждая чужбина – для них отчизна, и каждая отчизна – чужбина».
Это написано еще до становления средневековой институциональной системы, которая, единожды возникнув, из рода в род, из века в век воспринималась как само собой разумеющаяся данность; до рождения «христианского мира». И снова, как тогда, у нас христианство без «христианского мира», вера без внешней защиты, жизнь, в которой ничто не разумеется само собой.
Один из самых радикальных вариантов этой ситуации был испытан верующими России в большевистские времена. Все, решительно все в составе христианской традиции, христианской культуры, что в принципе поддается разрушению, разрушалось абсолютно бесцеремонно, планомерно, с величайшим размахом, – и выжить могла только нагая вера, предоставленная самой себе. До чего вера становится убедительной, когда она живет вопреки всему своей собственной внутренней силой, когда последняя пядь земли у нее отнята и огненным языкам Духа Святого остается место лишь в воздухе, над головами верных! Как писал языческий поэт, «Omnia possideat, non possidet aera Minos».2 Нынче время гонений миновало, и нам грозит, скорее, противоположная опасность некоей неумелой пародии на православный истэблишмент в позднецарнстском вкусе, – но как раз неловкость, несообразность этой пародии напоминает нам об истине, которая слишком дорого оплачена муками верных, чтобы о ней позабыть. Я убежден, что опыт «пограничной ситуации» веры в ленинско-сталинские годы еще пригодится в будущем, и не только нам самим. Князь мира сего, чей лик, лик апокалиптического Зверя, нам довелось однажды увидеть без всякой личины и разглядеть с мучащей отчетливостью, остается и сегодня тем же; и его сущность не зависит от географических обстоятельств, равно как и от времени. Меняет он только свои приемы, но не свои цели. Убедительно прошу не понимать моих слов в духе некоей псевдоэсхатологической паники, каковую столь часто приходится наблюдать в кругах «интегристских» и попросту сектантских. Было бы, однако, до крайности жаль, если этика сопротивления, одновременно мирного и непримиримого, выработанная противостоянием тоталитарным режимам, оказалась бы утраченной христианством завтрашнего дня. Ибо сопротивление при всех условиях остается христианским императивом, христианской жизненной нормой: сопротивление князю мира сего – и тогда, когда оно лишь косвенно относится или вовсе не относится к сфере политики. «Не сообразуйтесь веку сему», – учил нас апостол Павел (Рим. 12:2): наша душа, наш дух не должны угодливо подлаживаться к духу времени, к наличному – и преходящему – состоянию мира. Это подлаживание, которое мы именуем конформизмом, абсолютно воспрещено христианину: слова апостола по-латыни звучат – nolite conformari! Если другие духовные истины мы уже не в состоянии увидеть так ясно, с такой непосредственностью, как их видели наши предшественники в классические времена «христианского мира», – эта истина предстает нам столь неотразимой, какой со времен первых христиан, «первой любви» (Откр. 2:4) она представала лишь избранным: конформистское христианство – не более чем логическая ошибка, contradictio in adiecto. Недаром Господь наш назван «знамением пререкаемым» (Лк. 2:34). Но политический конформизм – лишь одна из возможностей зла; в определенные времена и в определенных условиях куда опаснее конформизм стиля жизни, конформизм моды, конформизм духа времени. Христианин, который не готов к тому, что на него будут косо смотреть, а то и смеяться ему в лицо за то, что он, как-никак, живет иначе, чем живут чада мира сего и чем требует «современный вкус», – не заслуживает того, чтобы именоваться христианином.
Я вынужден еще раз предупредить против ложного понимания моих слов; у меня нет ни малейшего сочувствия ни «рвению не по разуму» современных зилотов, одновременно столь экзальтированных и столь бесчеловечных, ни фарисейству, готовому и сегодня, как во времена Господа нашего, возлагать на верующих «бремена неудобоно-симые», ни мечтам о реставрации ушедших исторических условий. Все ненужные конфликты с реальностью нашего времени, в которой Бог определил нам жить, должны быть избегаемы. Я не имею принципиальных возражений против замысла католического «аджорнамеито», даже если в деталях выполнения этого замысла я с огорчением примечаю то, что мне представляется несообразностями. Что касается православия, в частности, православия русского, то я, вопреки мнению многих моих друзей, вопреки моему собственному, неисправимо консервативному вкусу, не могу не видеть неизбежности ряда перемен и способен лишь пожелать, чтобы перемены эти были разумно проведены в жизнь, так, чтобы вызвать минимум потерь и максимум приобретений. «Обновленцы» раннесоветской эпохи надолго скомпрометировали у нас любой разговор об обновлении; однако из того, что лидеры «обновленчества» – отнюдь не все шедшие за ними верующие, а именно лидеры, – опозорили себя комплотом с безбожной властью и прямым предательством законной иерархии, даже из того, что затеваемые ими реформы слишком часто противоречили канонам, вкусу и здравому смыслу, отнюдь не следует, будто проблем, каковые они пытались решать в неподходящее время и недолжиым образом, вовсе не существует. Как все живое, церковная практика в своих внешних формах менялась на всем протяжении истории христианства, с древних времен и доныне. Но если христианство, сохраняя верность трезвому реализму, столь характерному уже для апостола Павла, может и должно считаться с действительностью времени, оно обязано оказывать сопротивление «духу времени», т. е. тем идеологическим фантомам, которые паразитируют на этой действительности. Отличить одно от другого отнюдь не легко, но совершенно необходимо. Граница между действительностью времени и тем, как время истолковывает себя и оправдывает себя, тем, как оно само хотело бы себя видеть, – это предел, далее которого не может идти никакое здравое «аджорнаменто», никакое позволительное «обновление». «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки» (Евр. 13:8). Обстоятельства меняются, и это надо видеть, чтобы говорить о вековечном благовестии – реальным, а не выдуманным людям. Но ни при каких обстоятельствах «дух времени» не должен становиться последней инстанцией для христианского вероучения и христианской совести.








