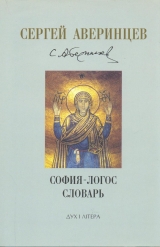
Текст книги "София-логос словарь"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 71 страниц)
А кто из нас может сказать, что все наше сердце, и вся наша сила, и все наши мысли отданы любви к Богу? А ближний? В другом месте Евангелия мы читаем, как Иисус разъяснил, что есть ближний: это каждый, кто в нас нуждается, пусть даже, как для милосердного самарянина, враг. Самаряне и иудеи были этническими врагами.
Полюбить ближнего не как-нибудь, а как самого себя. Что это значит? Да, мы ко многим людям, прости нас Господи, испытываем недобрые чувства, раздражительные, злобные. Но как мы любим и тех, кого мы любим? Не любим ли мы в них слишком часто свою любовь к ним, то, что нам в них нравится, то, чем они нам могут угодить, быть полезны и приятны, или же, в случае любви восторженной, не делаем ли мы из них кумиров и не любим ли мы вместо живого, реального человека со всеми его недостатками создание нашей фантазии, и не закрываем ли мы глаз для того, чтобы любить, для того, чтобы сохранить любовь, на те свойства этого человека, которые нам не нравятся, не стараемся ли мы в случае сентиментальной восторженности чего-то об этом человеке не знать? Но ведь и о себе мы знаем очень много дурного. У одного русского поэта есть стихи, которые начинаются с цитаты из древнего языческого греческого стихотворения: «Мило только прекрасное, а непрекрасное – не мило». И затем говорится: «Но непрекрасного себя живу стыдясь, а все ж любя».
Любить другого, как себя самого, то есть видеть его жизнь, его бытие не в своей перспективе, не со своей, как мы говорим, точки зрения, а в его перспективе, в связном контексте его жизни. Делаем ли мы это даже по отношению к тем людям, которых мы любим с сентиментальной нежностью, восторженным почитанием?
И это заставляет нас задуматься вот о чем: почему в молитве Господней Господь научил нас молиться: «... И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»? Не проще ли было бы сказать: «Прости нам нашу вину, наши грехи, как мы прощаем виновному перед нами его вину?» Но понятие прощаемых долгов шире, чем конкретная вина, конкретный грех. У каждого из нас есть каждодневная вина, есть грехи, которые мы обязаны исповедовать перед священником и в лице его – перед Богом и просить за них прощения. Но помимо того, что ясно осознается как вина, нарушение простых нравственных законов, остается – даже при поведении, по-человечески говоря, безупречном – то, что мы все еще остаемся должны вот это: любить Бога всем нашим сердцем, всей нашей душой, всеми нашими мыслями, всей нашей силой – и любить ближнего. Не просто быть порядочным человеком по отношению к ближнему, – увы, мы не всегда умеем и это, – не то, чтобы быть к другому человеку ласковым, приветливым и дарить ему то, что нам хочется ему подарить, а всегда то, что ему сейчас нужнее всего. Это не умещается в понятие непосредственной, несколько рассудочно понимаемой вины, но это долг, ибо мы так и остаемся в неоплатном долгу.
И теперь подумаем о ближних. Кроме случаев, когда нам нанесена уж очень жестокая обида, – так бывает, – но не чаще ли мы сердимся на других людей и отказываем им в нашей любви даже не за то, что они нам сделали, – то, что сделали, легче простить, – а вот за что: зачем он не такой, зачем в нем так много мелочности, так много низости, действительной или кажущейся нам, потому что мы ведь на него смотрим с нашей точки зрения, нашими глазами.
Слова Господни заставляют вспомнить слова блаженного Августина: «Люби – и делай что хочешь». Это легко понять как какое-то слово, чересчур внушающее нам чуть ли не смягченное понятие о наших обязанностях. На самом деле кто смеет сказать, что он любит, любит Бога и любит ближних так, как надо? А если он имеет эту любовь, все, что он сделает, будет правильно. Но не в воображении. Нет ничего более противоположного, чем любовь истинная и любовь воображаемая, любовь к реальному ближнему и к Богу, Каков Он есть, – и к воображаемому нами ближнему и к Богу, Которого тоже можно вообразить, и это будет кумир.
А затем в Евангелии мы слышим беседу об отношении между ожидаемой, чаемой принадлежностью Мессии, Христа, к Давидовой династии и, этим самым, в понимании фарисеев, включенностью Мессии в политическую историю избранного Божьего народа, – и тем, какова реальность Божьего действия в истории. Все не так просто. Четвероевангелие начинается, как мы все помним, с родословия. И в родословии Господь наш именуется Сыном Авраамовым и Сыном Давидовым. Но это не заставляет нас подумать, каким сильным было искушение для народа, действительно единственного избранного народа Ветхого Завета, отождествить святыню Божью, без остатка отождествить ее со своим политическим народным бытием, хотя бы и видя эту святыню как самое средоточие народного бытия, самое главное, самое важное, но все-таки часть целого. Ведь то, что мы слышали сегодня, рассказано в Евангелии от Матфея, в Евангелии, написанном, по-видимому, и по церковному преданию, и по научным соображениям, для христиан из иудеев, и иудеев палестинских.
Как начинается Евангелие от Матфея? Идет родословие, и родословие по-гречески будет «Pi|3Xoq yevfecjecoQ» – «книга происхождения». И потом, когда это родословие завершается, говорится буквально вот что: что же до Иисуса Христа, то Его происхождение было таким – и дальше повествуется о том, как Ангел возвещает девственное зачатие. К сожалению, в переводах, и традиционных, и новых, во втором случае вместо «происхождение» стоит слово «рождество», или «рождение» в новейших переводах. Но в самых древних рукописях содержится слово «геиесис», «yfeveon;», и оно повторяет слово, которое в первом стихе. То есть врата, устрояемые человеческой и, разумеется, Священной историей для прихода Обетованного и Чаемого должны быть выстроены, они должны быть, таков замысел Божий, но приход Чаемого происходит иначе, чем ожидают люди.
Человеческие чаяния превзойдены, трансцендированы Божьей волей. Так же, как затем мы читаем о волхвах. Все происходит так, как ожидали, и не так, потому что естественно было ожидать, что рождение Мессии, как событие важное для народа, для избранного народа, священного Божьего народа, будет прежде всего возвещено первосвященнику и вообще духовным властям, мирским властям, царю, и действительно это происходит, только этот царь – Ирод, и он получает весть от волхвов.
И как подробно, как неспешно рассказывает об этом Евангелие от Матфея! Происходит то, что вроде бы должно было происходить, событие объявлено законным властям избранного народа, и затем – это сказано очень коротко – Ангел велит волхвам возвращаться другим путем, чтобы избегнуть действий Ирода.
Вы понимаете, мы никак не можем легко судить о соблазне, существовавшем для избранного народа, понять чисто, ну как бы это сказать, патриотически Божье дело, Священную историю, если уже после земной жизни Христа и после Пятидесятницы, после рождения Вселенской Церкви, христианские народы снова и снова подпадали искушению понять веру как самый священный, может быть, но все-таки только символ своей национальной идентичности.
И первый, и второй эпизоды сегодняшнего Евангелия учат нас, насколько Божье превосходит человеческое и все человеческие мысли о Божеском.
Да будет нам дано хотя бы постоянно помнить об этом и прилагать усилия к тому, чтобы видеть дело Божье не со своей точки зрения, и ближнего видеть так, как мы видим себя!
Да дарует нам Божья милость смирение, которое выражается не в смиренноглаголании, не в смиренных жестах, а в расположении сердца, отказывающегося от своеволия и принимающего Божье!
По ту сторону изоляционизма
Мы часто слышим, что рядовой русский, в последние 10 лет впервые пользующийся свободой совести и веры, сегодня обходит Церковь стороной...
– Рядовой человек, некое статистическое существо, в частности «рядовой русский», – в вопросах веры случай безнадежный. Ибо веру обретает конкретный человек. Кто-то однажды сказал, что Христос говорил со всеми: с грешниками, простыми, необразованными, даже темными людьми, – но никогда не говорил с толпой. Даже когда Он стоял перед охлосом – как в греческом тексте Евангелия называется толпа, – Он обращался к личностям, к конкретным существам.
В 80-е годы у нас был религиозный бум, мода на православие. Бум окончился, и я вовсе не уверен, что для Церкви это плохо. «Эпоха позднего Горбачева» обладала своей сентиментальной атмосферой: люди стремились в прежде запретную Церковь и на каждого бородатого архиерея глядели, как на Бога с иконы. Вскоре наступили иные времена, и все принялись, краснея от стыда, читать о сотрудничестве архиереев с КГБ. Кстати говоря, священники и вообще духовенство – единственная группа, которую публично обвинили в сотрудничестве с КГБ. Никто не распространялся о писателях, связанных с «оргнами», ни в одной газете не писали, кто был их сотрудником в Союзе писателей или в Академии наук.
Что же касается религиозного обращения людей – не тех обезличенных статистических единиц, а живых людей, то, как говорит польский поэт Роман Брандштеттер: «Да будут благословенны все пути, / Прямые, кривые и кружные, / Если они ведут к Тебе...» Да, это правда, пути к Богу бывают разнообразными, даже кружными. Недавно я познакомился в Москве со стариком, который только что крестился. Я часто встречаю его в церкви и вижу, что вера сделала его радостным. Как ребенок. Может, его путь к вере был как раз кривым, кружным?
Человек нуждается в Боге, ищет его. Каково наше православие? Статистика не поможет нам найти ответ. Мы, христиане, веруем, что только в час Последнего Суда Христос рассудит, истинными ли были наше обращение и наша вера. Все испытания и искушения, которым подвергает нас жизнь, в том числе и отсутствие свободы совести и свободы вероисповедания, – это изменчивые обстоятельства. Они создают для верующего опасности, но и возможности. Человек – слишком часто существо слабое и боязливое, а в прошлом само по себе признание Христа и вступление в Церковь оплачивались сеьезным риском – это необходимо понимать и чувствовать. Тогда было по большей части просто не до того, чтобы предъявлять претензии к архиереям. Кто не скрывал, что верует и ходит в церковь, тот сознательно выбирал принадлежность к гонимым, и никто ему поблажек не гарантировал. Сегодня пропорции вещей сдвинулись. Может быть, прийти к вере было легче в позднесоветскую пору, когда совсем уж ужасающие гонения кончились, но за веру всегда надо было чем-то платить. Тогда человек задумывался, идти ли в церковь, а уж если приходил – выбор был серьезным. А под конец перестроечного времени слишком часто действовало любопытство и мода...
– Сегодня любопытство толкает людей к кришнаитам или в секты типа «Белого братства». Но что это – заурядное любопытство или же признак религиозной жажды, которую Церковь не может удовлетворить?
– Думаю, что за выбором христианского, парахристианского или внехристианского сектантства чаще всего стоит жажда почувствовать себя в общине. В приходе человек зачастую в достаточной степени не ощущает солидарности и братских уз. Несчастьем представляется мне то, что в Церкви нередко крестят взрослых без подготовки, без серьезного разговора, без катехизации. Позднее человек не чувствует, что стал членом прихода, и для других прихожан остается чужаком. По-моему, священники, которые не позволяют таких стихийных шагов и больше заботятся о катехизации и интеграции новокрещенных в приходскую общину, чем о радостном возрастании числа прихожан – достойны величайшего уважения.
Крещение должно совершаться в литургическом контексте, в нем должны участвовать все присутствующие в храме прихожане. Так происходит в приходе о. Георгия Кочеткова. Для этого московского прихода характерен усердный труд по катехизации, соединяющийся с постоянной молитвой общины за готовящихся к крещению. Крещение, как в раннем христианстве, должно соединяться с большим церковным праздником, оно должно быть праздником всей общины.
Люди, которые после крещения не испытали чувства вступления в общину, могут ощутить себя в Церкви чужаками, могут разочароваться. А любая секта дает им ощущение участия в малом микрокосме, где все друг друга знают и все солидарны. На мой взгляд, секты – проявление низкой религиозной культуры, но надо ли при этом говорить об одном только православии, об одной только Русской Церкви?
Я часто задумываюсь над тем, чем отличается современный человек от человека прошлого. И прихожу к выводу, что современный человек совершенно не имеет чувства меры. Если в былые времена существовало хоть какое-то тривиальное, мещанское или «буржуазное» чувство меры, а также приличий, и чрезвычайный вес этой банальной добродетели гарантировал ощущение безопасности (Цветаева, например, описывала это словами: «Только не передать», «Не пере-через-край!» – «Крысолов»), то современный человек не наделен этой чертой и даже не думает сказать себе: «Только не слишком». Зато он требует, чтобы все было позволено. Но когда все позволено, а никто не предостережет человека от опасности, которую несет с собой вседозволенность, то он в конце концов становится беззащитным. Таким беззащитным, что если какой-нибудь безумец потребует, чтобы он пошел на самоубийство, то – раз все позволено... Иначе люди не шли бы в большевики, не вступали бы в штурмовые отряды – ведь это не только готовность убивать, но и воля принести себя в жертву.
Ложно направленная готовность к самоубийству, потребность принести себя в жертву – всеобщая проблема, но в России эта потребность разрастается до неслыханных размеров. Свою роль тут играют сознание и культура, созданные за 70 лет коммунизма. Нельзя также пренебречь некоторыми специфическими чертами национальной психологии, хотя психология нации – это всегда сложный вопрос. Как сказал бы Вяч. Иванов: славяне – дионисийские, а не апполонические... Впрочем, вы меня спрашивали о сектах, а я забрел в какие-то отдаленные отступления...
– Это отступление не было чересчур отдаленным: секты начинают ассоциироваться именно с массовым безумием, иногда приводящим к групповым самоубийствам,. Но я хотел бы вернуться к сотрудничеству духовенства с КГБ, о котором вы упомянули. Я знаю, что о. Глеб Якунин добивается, чтобы об этом была сказана вся правда. Как по-вашему: следовало бы провести разоблачение священников, сотрудничавших с КГБ, или лучше опустить над этим завесу молчания и милосердия?
– В одной из своих статей я предложил создать комиссию, в состав которой вошли бы люди с высочайшим нравственным авторитетом, чтобы заняться этим жгучим вопросом. Думаю, что было не так уж много случаев предательства, отступничества. В конце концов КГБ был советским учреждением, а советское учреждение характерно тем, что всегда обманывало начальство: они всегда трудились как титаны (особенно в отчетах). Я не сторонник замалчивания вопроса о сотрудничестве с КГБ, но рассматривать его надо осторожно и проницательно, чтобы не обвинять ложно.
Прошлое было страшным как для народа, так и для духовенства. В 1939 г. на воле осталось всего четверо архиереев, и если бы их не стало, советское общество особо этим бы не обеспокоилось. В сталинские времена Церковь подчинилась государству. Я не сторонник того, чтобы всю вину за это возлагать на митрополита Сергия. Кроме того, если даже не каждый архиерей был предателем в строгом смысле слова, то все равно большинство из них было сломлено и унижено, у них отняли достоинство и привычку мыслить. КГБ сознательно заботился о том, чтобы важнейшие посты поручать людям скомпрометированным – по советским, а не общечеловеческим критериям, – это было неизменной практикой в советской действительности. В сталинские времена сам факт, что кто-то находился на оккупированной территории, мог считаться преступлением, и КГБ мог это использовать. Я не герой, как о. Глеб Якунин, и у меня нет ни права, ни желания укорять иерархию за ее поведение в сталинские времена. Мне легче судить об их упущениях, относящихся уже к позднебрежневской поре.
Церковь имеет не только мистические, но и социологические измерения: самосознание, самоощущение русского духовенства в значительной мере обусловлено его социокультурной изоляцией, действовавшей еще в императорскую, петербургскую эпоху. Вспомним, к примеру, что в русских университетах с самого начала не было теологических факультетов; вспомним, что принадлежность к духовенству была в императорской России почти всегда наследственной и это наследственное «духовное сословие» практически не включало ни выходцев из аристократических родов, ни выходцев из крестьянства. Попы были сами по себе, отдельно от всех, социально-психологически изолированы, среди них ни барии, ни мужик не видел, хотя бы в возможности, одного из своих сыновей. Среди них не могло быть какого-нибудь русского Сапеги [польский кардинал из древнего аристократического рода, предшественник Кароля Войтылы на краковском митрополичьем престоле. – Пер.). (Политика Екатерины II, все отдавшей дворянству, все отнявшей у всех остальных, нанесла последний удар попыткам епископата в лице ростовского митрополита Арсения Мациевича вести себя на равных со светскими носителями власти). А студенты университетов не оказывались товарищами студентов, изучавших богословие, – те были в своих семинариях и академиях, в своем гетто. Самая невыгодная социальная позиция, которая может быть: всем чужие среди мирян собственной же конфессии! Архиереям кланялись в ноги публично, а потом наедине любой чиновник говорил с ними без всякого уважения. В императорской России люди, как будто бы уважавшие православие, не уважали епископов: почитайте у историка Погодина, с каким одобрением он рассказывает, как царь Алексей Михайлович, поссорясь с Патриархом Никоном, выдрессировал своего пса, чтобы тот передразнивал жест патриаршего благословения, – в глазах монархиста Погодина абсолютно дозволенная шутка батюшки-царя, и только непонятно, как это Патриарх посмел ее не одобрить; или обер-прокурор Святейшего Синода благочестивейший Константин Победоносцев – как ему откровенно хотелось «уберечь» церковные дела от епископов, чтобы ими занимались чиновники!
Такова была предыстория. После этого еще удивительнее, с каким достоинством вел себя Патриарх Тихон. Но он скоро умер; может быть, ему помогли умереть.
Сейчас мы узнаем, что в позднесоветское время находились епископы (я говорю о Московской Патриархии, не о каких-нибудь там «катакомбах»), которые отваживались, например, тайно поставлять священников вопреки запрету «уполномоченного». Да, конечно, таких случаев было слишком мало; и слишком много совсем иных. И все же еще раз напомню, ничего не приукрашивая, и то часто забываемое обстоятельство, что православное духовенство – единственная категория советского общества, о сотрудничестве которого с одиозными инстанциями в постсоветский период вообще шла речь. Ни о ком больше, начиная, скажем, с официозных фигур московского раввината, очень интересных для КГБ, с официозных фигур, репрезентировавших в советское время ислам, до агентуры КГБ в Академии наук или Союзе писателей, никогда в печати ни единого слова не говорилось. Что ни говорите, а это создает несколько несимметричную, не совсем объективную картину: как будто проблема нашего прошлого – только недолжные контакты православных епископов, а не залезание КГБ во все структуры общественной и культурной жизни. Осквернено все подряд, а священникам и епископам отведена роль козлов отпущения – это тоже один из аспектов реальной ситуации. Разумеется, моральная ответственность духовенства особенно велика, но ведь моральная ответственность писателей и ученых – тоже не мала. Речь должна идти вместе – о наших православных епископах и о нас самих, о нашей совести. Этого требует не сентиментальное благодушие, а, напротив, реальный взгляд на вещи.
– В какой мере российская христианская интеллигенция проявляет интерес к примирительным начинаниям Ватикана по отношению к православию?
– Среди нашей интеллигенции, отнюдь не только католической, серьезный интерес привлекает к себе мысль Иоанна Павла II, особенно его энциклика «Да будут едино» и апостольское послание «С Востока свет» («Orientale lumen»). На французском языке готовится книга, посвященная откликам на эти документы; участвовать в ее подготовке пригласили и православных русских. Мне досталась почетная обязанность писать для этой книги о послании «Orientale lumen».
– В заключение скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, составляет опасность для веры в России?
– Думаю, что эта опасность состоит прежде всего в намерениях старой и вопреки всем переменам сохраняющей власть номенклатуре – как это называется по-советски, «взять на вооружение» религию, главным образом православную, для построения нового официозного изоляционизма. Те, кто еще вчера присматривал за нами, блюдя устои советского безбожия, сегодня спрашивают нас, достаточно ли мы православны... Вот конкретный случай – история одной моей хорошей знакомой из Петербурга. В коммунистические десятилетия она сохраняла верность вере и была, как это называется на западных языках, «практикующей» православной, что навлекало на нее постоянные проблемы в том институте, где она преподавала. В новые времена она, между прочим, устроила в Петербурге выставку, посвященную тому бельгийскому аббатству Шевтонь, которое еще в «дособорные» времена доказало свою преданность идее диалога с православной традицией. И вот совсем недавно ее старый начальник, некогда начальник коммунистический, а ныне просто начальник, задает ей в начальственном тоне вопрос: «Достаточно ли вы православны?» Моя знакомая отвечает: «Почему именно вы меня об этом спрашиваете? Вы-то хотя бы крещены?» – «Крещен я или не крещен, – отвечает тот, – не имеет никакого значения. Отвечайте на мой вопрос: достаточно ли вы православны?»








