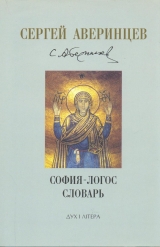
Текст книги "София-логос словарь"
Автор книги: Сергей Аверинцев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 71 страниц)
Его сочинения появляются впервые в связи с религиозным собеседованием между православными и моиофиситами, которое имело место в Константинополе в 533 г. В их число входят четыре трактата – «О божественных именах», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О таинственном богословии» – и десять посланий. Все эти тексты написаны от лица Дионисия Ареопагита, современника апостолов, образованного и высокопоставленного афинянина I в., обращенного в христианство проповедью апостола Павла на холме Ареопага (см.: Деян. 17:34). Однако отчасти их фразеология и стилистика, тем более церковно-бытовые реалии, упоминаемые в контексте символических истолкований, и особенно следы прямого использования конкретных текстов Прокла Диадоха, выявленные в конце прошлого столетия И. Стиглмайром и Г. Кохом15, – все это в совокупности не позволяет датировать «ареопагитический корпус», как его принято называть в науке, временем более ранним, нежели вторая половина V в.; некоторые дополнительные данные указывают на сирийско-палестинскую среду на рубеже V и VI вв.[16] Советский исследователь Ш. И. Нуцубидзе и (независимо от него) бельгийский византинист Э. Хонигман предложили отождествить Псевдо-Дионисия Ареопагита с монофиситским церковным деятелем и мыслителем Петром Ивером, уроженцем Иверии (грузинская земля к востоку от Колхиды) и епископом города Маюмы близ Газы17; выдвигались и другие идентификации (например, с монофиситскнми иерархами Севером Антио-хийским18 или Петром Сукновалом19), ни одна из которых, однако, не приобрела общего признания. Возможно, приходится ожидать новых данных от публикации неизданных текстов Сергия Решайны, первого переводчика «ареопагитического корпуса» на сирийский язык.20
Как бы то ни было, новозаветный псевдоним явно полон для автора смысла и выбран неспроста. Автор хочет быть именно «ареопагитом», афинянином из афинян, наследником традиции эллинства, – но только крещеным эллином. Необычайно широко применяет он к «таинствам» христианской веры и христианского культа специальную терминологию языческих мистерий: «мист», «мистагогия», «телесиургия», «эпопт», – этими и подобными словами его тексты буквально пестрят. Дионисий Ареопагит, вероятно, стал христианином под действием проповеди апостола Павла о «неведомом Боге». Это хорошо подходит к неоплатонической акцентировке абсолютной трансцендентности, непостижимости и неизъяснимости Единого, применительно к которому световые метафоры, также очень употребительные у неоплатоников, должны быть, как указывает наш автор, дополнены метафорами «божественного мрака».
В приподнятом, восторженном, цветистом стиле Псевдо-Дионисия Ареопагита, как и в тонком замысле избранного им псевдонима, ощущается художнический, эстетический склад личности, сказывающийся и в его абстрактной мысли. Недаром он, играя греческими словами к&Хкос, – «красота» – и косА,еш – «зову», так прочувствованно говорит о божественной красоте как влекущем зове. Грозящая искусственностью, но дающая новые возможности языковых нюансов смелость словообразований, плотность и сгущенность мысли на пространстве минимальных отрывков текста, странно соединяющаяся с изобилием многословных повторов и тавтологий, – все это напоминает стилистику Прокла; но Прокл, сочинявший по ночам стихи, в своей прозе педантичнее Псевдо-Дионисия, ему недостает порыва, движения. Понятно, почему «ареопагитический корпус» оказал широкое влияние не только на философскую мысль средних веков, но и на всю средневековую культуру в целом, в особенности на ее художественные аспекты.
Мы видели, что Бог есть для Псевдо-Дионисия запредельное тождество избыточного света и непроницаемого мрака. В этом христианский неоплатоник недалеко отходит от своих языческих сотоварищей. Но, усвоив и развив неоплатонические представления о безусловной неопределимости Бога в Себе Самом («апофатическое», или «отрицательное» богословие) и об условной возможности восходить к богопознанию по лестнице аналогий, символов, «божественных имен» («катафатическое», или «утвердительное» богословие), Псевдо-Дионисий сделал то, чего не мог сделать ни один языческий неоплатоник: в очень прямой, четкой и притом развернутой форме связал онтологию неоплатонизма и порожденное этой онтологией учение о символе с проблематикой человеческого сообщества, понятого как Церковь. Уже не отрешенная душа одинокого мыслителя совершает бегство уединенного к «Уединенному», о котором говорится в последних словах «Эннеад» Плотина, но люди и Ангелы принимают от непостижимого Бога норму своего совместного бытия, реализовать которую и тем самым подняться к Богу они смогут только сообща, восполняя друг друга, помогая друг другу, передавая друг другу свет по закону иерархии.
«Иерархия» – ключевое слово в текстах Псевдо-Дионисия. Его онтология – учение о «небесной иерархии»; его, условно говоря, социология («социософия») – учение о «церковной иерархии»; вторая непосредственно продолжает у него первую. Но что такое для него иерархия? Он очень явственно слышит в этом слове греческий корень «архэ», «начало»; иерархия – сообразность всего онтологически вторичного своему началу, принятие им «подобия» началу. Постольку, однако, поскольку «подобие» это реализуется для Псевдо-Дионисия в отношениях авторитета и послушания, снисхождения высшего к низшему и покорности низшего высшему, слово «иерархия» отнюдь не чуждо тому смыслу, который оно приобрело в современном языке.
Сам Псевдо-Дионисий раскрывает понятие иерархии, характерным для себя образом описывая Бога как «красоту», а в иерархическом процессе подчеркивая имманентизацию трансцендентного21.
Этого у Прокла не было22. Но мы сейчас же обязаны отметить, чего нет у самого Псевдо-Дионисия: его мистическая философия общества не включает в себя какого бы то ни было осмысления истории – и это сближает его с Проклом. Одна и та же эпоха дала средневековью памятники христианской мысли, выразившие в предельно обобщенном виде идеологические основания этой эпохи. Но один из этих памятников – латинский, другой – греческий; различие между ними как бы символизирует различие между трагическим опытом рушащейся государственности Запада и бюрократическим порядком Византии. Тема трактата Августина «О граде Божием», написанного под впечатлением от разгрома Рима ордами Алариха в 410 г., – мир как история, причем история (разумеется, «Священная история») понята как острый спор противоположностей и как путь, ведущий от одной диалектической ступени к другой. Временное начало принято у Августина всерьез. Тема «ареопагитического корпуса» – мир как порядок, как структура, как законосообразное соподчинение чувственного и сверхчувственного, как «иерархия», неизменно пребывающая во вневременной вечности. И Августин, и Псевдо-Дионисий исходят из неоплатонической онтологии и христианской идеи Церкви. Но для Августина Церковь – это «странствующий по земле», бездомный и страннический «град», находящийся в драматическом противоречии с «земным градом» и в драматическом нетождестве своему же собственному зримому облику (потому что многие его враги внешне принадлежат к нему). Для Псевдо-Дионисия Церковь – это иерархия Ангелов и непосредственно продолжающая ее иерархия людей, это отражение чистого света в «весьма ясных и незамутненных» зеркалах, это стройный распорядок «таинств»; о драматизме, о проблемах, о противоречиях не приходится и говорить23.
II
Начало тысячелетней истории Византии – это импонирующее зрелище одновременного расцвета неоплатонических философских школ, то языческих, как в Афинах, то религиозно нейтральных, как в Александрии, и спорившей с ними, но и учившейся у них христианской патристики. Мы вправе усматривать и там черты упадка; но невозможно отрицать, что культура мысли была очень развитой, а напряжение умственной работы – высоким. Это не продлилось долго. Та хрупкая утонченность, которая дает себя ощущать в филигранной диалектике Прокла и Дамаскня или в одухотворенном экстазе Псевдо-Дионисия Ареопагита, не смогла пережить крутой ломки форм жизни. Уже блестящая эпоха Юстиниана I не была благоприятна для философии. Император закрыл в 529 г. Афинскую школу и этим ускорил естественный процесс вымирания языческого неоплатонизма; он же подверг в 553 г. безоговорочному проклятию наследие Оригена и этим отрезал христианскую мысль от ее истоков, еще в IV в. питавших творчество каппадокийского кружка. Столетие спустя Византии, переживавшей острый общественный кризис и защищавшей свое существование от натиска арабов, было просто не до философии.
На фоне этого дичающего времени одиноко возвышается фигура Максима Исповедника, оригинального философа и богослова, в последний раз воплотившего в себе нечто от мыслительной смелости Оригена, тонкости Григория Нисского, системосозидательской широты Псевдо-Дионисия. В 662 г. Максим умер на пути в кавказскую ссылку, перед этим подвергшись урезанию языка и правой руки за то, что вразрез с очередным поворотом императорской церковной политики учил о реальности человеческой воли Иисуса Христа, в личностном выборе навсегда подчинившего Себя божественной воле, но не растворившегося в ней24. С его смертью окончательно завершилась эпоха патристики. Позднее его точка зрения в богословском споре восторжествовала, он был признан святым Византийской Церкви, «исповедником» истины (отсюда прозвище)25, но равных по величине последователей у него не было.
В центре философских интересов Максима стоит проблема человека и его высокого предназначения. Он перенимает учение Григория Нисского о «плероме душ» как некоей сверхличности, имплицитно заключенной в душе первочеловека Адама и раскрывающейся во всем множестве человеческих душ всех времен, которые вместе составляют органическое целое. Христос пришел, чтобы спасти все это целое, так что осуждение грешников не мыслится окончательным; правда, это тайна, которую должно «чтить молчанием» (PG. Т. 90. Col. 1172 Д). История мира разделена на период подготовки вочеловечения Бога, завершившийся с рождением Христа, и период подготовки «обожения» (Фёсоак; – обожествления26) человека. Когда человек осуществит свою задачу, переборет обусловленное грехопадением самоотчужденис, преодолеет в самом себе расколотость на духовное и плотское, горнее и дольнее, даже противоположность мужского и женского, – тогда весь космос будет спасен и творение воссоединится с Творцом. Активность человека, выступающего спасителем всей твари, как Христос выступил спасителем самого человека, акцентирована с такой силой, какую очень редко можно встретить в истории средневековой мысли. Основные события жизни Христа поняты не только как фактические, моральные и мистические события в истории человечества, но одновременно как символы космических процессов (PG. Т. 90. COL. 1108 АВ).
Эта доктрина Максима Исповедника оказала влияние на самого дерзновенного мыслителя раннего западного средневековья – Иоанна Скота Эриугену27. В Византии Максима помнили как авторитетного богослова, своим учением о двух волях Богочеловека завершившего христологические споры, как аскета и моралиста, автора афоризмов о духовной любви, наконец, как интерпретатора трудных мест из Григория Богослова и Псевдо-Дионисия и толкователя богослужебной символики, основавшего целое направление в религиозной литературе своей «Мнстагогией». Его оригинальные философские концепции почти не находили отклика28. Когда-то христианские платоники так называемого каипадокнйского кружка, еще всецело укорененные в живой культуре своего времени, заботились об изящном словесном наряде своих произведений, занимались популяризацией результатов собственной интеллектуальной работы – достаточно вспомнить риторику «Богословских речей» Григория Назпанзина. Напротив, Максим совершенно безразличен к слову, к литературной форме, он разговаривает как будто с самим собою, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы сделать свою мысль более понятной. Интонация живой беседы, обращенной к слушателям, которая так характерна для античной философии и еще живет в патристике, сменилась интонацией отшельника, которого, может быть, услышит другой отшельник.
И все же Максим, этот законный наследник Оригена, мыслитель с очень своеобычным обликом, еще принадлежит христианской античности едва ли не больше, чем средневековью. Чистое средневековье приносит с собой иной тип философа: тип кодификатора ученой традиции, ставящего ее под контроль стабилизировавшейся как раз к этому времени церковной доктрины, а в остальном выше всего ценящего школьную «правильность» понятий и тезисов, их обязательную четкость, их выверенность с оглядкой не только на логику, но и на авторитеты, их внешний порядок, – и при этом почти полностью элиминирующего свою собственную индивидуальность как мыслителя. Иначе говоря, это тип схоласта. К торжеству такого типа дело шло давно. Он был предвосхищен еще у языческих неоплатоников в постепенном повышении роли логической формализации и одновременно – веры в авторитет и магпко-теургических мотивов: Ямвлих ближе к этому типу, чем Платон, Прокл – ближе, чем Ямвлих29. Он был предвосхищен еще очевиднее у некоторых эпигонов патристики, например у Леонтия Византийского, в первой половине VI в. отрабатывавшего аристотелевский инструментарий логических расчленений для нужд богословской полемики. Но с полной, образцовой определенностью средневековый тип мышления проявился в деятельности Иоанна Дамаскина10.
Иоанн родился во второй половине VII в. в Дамаске, тогда – столице халифата Омейядов; его отец был казначеем халифа, сын унаследовал положение при дворе, но затем оставил Дамаск, чтобы стать монахом в обители св. Саввы близ Иерусалима еще до конца VII в.; там он умер в середине следующего столетия. Таким образом, самый нормативный из учителей Византийской Церкви родился, прожил всю жизнь и окончил ее за пределами Византийской империи, на территории халифата. Источники сохранили арабское имя или прозвище Иоанна -Майсур; однако весьма сомнительно, знал ли Иоанн что-либо об арабской литературе31, помимо необходимых ему как христианскому полемисту сведений о Коране32. Его культура остается всецело эллинистической в своих основах. Бывший администратор халифа как систематизатор греческой логики и византийской теологии – парадоксальное явление, характерное для той неповторимой ситуации, когда политическая карта Ближнего Востока в корне изменилась из-за стремительной экспансии ислама, но в сфере культуры соотношение сил еще было прежним.
Историческим фоном философско-богословской работы Иоанна явились иконоборческие споры. При этом важно иметь в виду, что иконоборцы перевели спор в плоскость философской абстракции, обосновывая свою попытку секуляризации византийской жизни и культуры на языке неоплатонически окрашенного спиритуализма: икона, а в логическом пределе – материальный культ как таковой33, есть с точки зрения этого спиритуализма оскорбление духовной святыни «бесславным и мертвенным веществом»34. Нежелательность изображения Христа и святых обосновывалась в принципе так же, как Плотин в свое время, по рассказу Порфирия (Porph. Vita Plot. I), обосновывал нежелательность изображения себя самого: духовное все равно неизобразнмо через материальное, а материальное не стоит того, чтобы его изображали30. Защитники почитания икон на Востоке – в отличие от Запада, где вопрос был сведен к утилитарному аспекту педагогической, учительной функции икон как «Писания для неграмотных»36 и спущен с высот умозрения на землю, – приняли условия игры; им пришлось разрабатывать теологию материи и философию культа. Эта задача в большой мере легла на плечи Иоанна Дамаскина, интеллектуального вождя иконопочитателей, который из-за пределов Византийской империи имел тем большую возможность вдохновлять своих единомышленников и намечать для них стратегию аргументации.
Для своего времени Иоанн был прежде всего философом культа. Казалось бы, для истории философии он интересен не в таком качестве; но это неотъемлемая черта всего его умственного облика, ощутительная и тогда, когда он говорит отнюдь не об иконе, а о вещах совсем иного рода, – например о логике. Взаимодополнение, даже взаимопроникновение двух контрастирующих начал – аристотелианской культуры рассудочных дефиниций и культовой мистики – определяет его характерность как поворотной фигуры в истории мысли. Философы культа были и до Иоанна: достаточно вспомнить языческих неоплатоников типа Ямвлиха и христианских неоплатоников типа Псевдо-Дионисия. Но у Иоанна совершенно отсутствует не только привкус оккультистской загадочности, без которого немыслим Ямвлих, но и тон восторженной возбужденности, сопровождающий изложение мыслей Псевдо-Дионисия. В каждой фразе Дамаскина есть суховатая трезвость и ясность, соединенная с истовостью, а порой и декоративностью обрядового жеста. Единство рассудочности и мистики могло бы заставить нас вспомнить о Прокле Диадохе, но Иоанн несравнимо проще, доступнее, понятнее Прокла. Его учительство – не для узкого кружка посвященных, а для книжных и попросту грамотных людей всего христианского средневековья. Действительно, прямое воздействие его текстов в оригинале и переводах, и тем более косвенное, опосредованное их влияние на умственную жизнь было уникальным по своей широте37.
Ни от школьного учителя, ни от школьного учебника не требуют оригинальности в обычном смысле слова. От него требуется иное: излагать материал, почерпнутый откуда угодно, в систематическом порядке, и притом именно в таком порядке, который максимально отвечал бы реальным запросам и реальным возможностям его учеников. Сила, если угодно, оригинальность Иоанна Дамаскина лежит здесь. «Я не скажу ничего своего, – заявляет сам он не без смиренного преувеличения своей зависимости от источников, – но по мере сил соберу воедино и представлю в сжатом изложении то, что было разработано испытанными наставниками» (Jo. Dam. Schriften. I. S. 53, prooem. 60-63; Тж. 55, 2.9-11). Цитаты, нормально не оговариваемые, следуют за цитатами, выписки – за выписками, но каким-то чудом их держит сквозное единство мыслительного стиля, твердое, даже жесткое, как иконописный канон. (Искусство иконы – не только предмет мысли Дамаскина, но и ее аналог.)
Еще позднеантичиая культура, как бы готовясь к выживанию в новых условиях, создавала традицию компиляций и компендиев. К своему апогею традиция эта должна была закономерно прийти в исторический момент завершения перехода от античности к средневековью. Таким апогеем явился энциклопедический труд Иоанна Дамаскина, обнимающий три части: «Диалектику», т. е. разъяснение логических понятий, опирающееся на конспект «Исагоги» Порфирия и его комментаторов38, трактат «О ересях», а также венец труда в целом – «Точное изъяснение православной веры». Эту трилогию в целом принято по традиции называть «Источник знания», хотя сам Иоанн, по-видимому, озаглавил так только первую часть, т. е. «Диалектику»39. Трехчленное построение отвечает педагогическому замыслу Дамаскина: сначала надо дать в руки читателю инструментарий мышления, затем предупредить, какие пути мысли отвергнуты Церковью, и, наконец, с очень равномерно дозированным смешением рассудочности и авторитарности сообщить, как следует мыслить о предметах веры и устройстве мироздания. «Точное изъяснение православной веры» несколько неожиданно включает такие, например, главы: «О свете, огне и светилах – солнце, луне и звездах», «О воздухе и ветрах», «О водах», «О способности воображения», «О способности памяти». И космология, и философская антропология не просто используются на потребу теологии, как это происходило, например, в «Шестодневе» Василия Великого, но безоговорочно включаются в состав корпуса теологических сведений.
Характерная для средневековой популярной учености в целом механическая рядоположность категориально-онтологического, мистико-аскетического и утилитарно-энциклопедического подхода к назначению философии сказывается в шести дефинициях философии, выстроенных в начале «Диалектики».
«Философия есть познание сущего в качестве сущего, то есть познание природы сущего. И еще: философия есть познание Божеского и человеческого, то есть видимого и невидимого. Далее, философия есть попечение о смерти, как произвольной, так и естественной. Ибо... смерть двояка: во-первых, естественная, то есть отделение души от тела, во-вторых, произвольная, когда мы презираем жизнь настоящую и устремляемся к будущей. Далее, философия есть уподобление Богу. Уподобляемся же мы Богу через мудрость, то есть истинное познание блага, н через справедливость, которая есть нелицеприятное воздаяние каждому должного, и через кротость превыше справедливости, когда мы делаем добро обижающим нас. Философия есть также искусство искусств и наука наук, ибо философия есть начало всяческого искусства, и через нее бывают изобретаемы всяческое искусство и всяческая наука... Далее, философия есть любовь к мудрости; но истинная Премудрость – это Бог, и потому любовь к Богу есть истинная философия» (Jo. Dam. Schriften. I.S. 56,3.1-27).
Теологический рационализм Иоанна Дамаскина по существу отрицает дистанцию между знанием естественнонаучным и богословским. Иоанн вслед за Филоном и Климентом Александрийским пользуется известным уподоблением богословия – царице, а прочих наук во главе с философией – служанкам (PG. Т. 94. Col. 632 В), но даже эта метафора, пожалуй, не совсем передает суть дела: науки просто инкорпорируются в состав богословия. Последствия не так легко выразить одним словом. Осуждение суеверий'10, отвержение столь влиятельной на исходе античности астрологии (PG. Т. 94. Col. 892 D-896 А)41, требование объяснять естественные явления естественными причинами42, решительное отрицание одушевленности небесных тел (Jo. Dam. Schriften. II. S. 53) – все это возводилось в ранг вероучительных истин. Дамаскин продолжал работу древних христианских апологетов, стремившихся демистифицировать материальный космос в борьбе с языческой мифологией, магией и метафизикой; когда со временем тексты Иоанна стали переводить на потребу вчерашних язычников, например славян, этот просветительский пафос должен был оказывать на умы особое воздействие. Христиане, отрицающие пользу изучения природы, получают от Иоанна суровые укоры за леность и нерадение, поскольку естествознание, как он утверждает, обосновывает теологию43. Однако именно поэтому для автономного интереса к научным проблемам, для теологии безразличным, остается очень мало места. Как усердный коллекционер сведений, он не забывает сообщить в «Точном изъяснении православной веры», что небо обычно считают сферой, объемлющей землю со всех сторон (в связи с чем разъясняется относительность понятий «верха» и «низа»), – однако некоторые учили о гемисферичности неба; изложив обе точки зрения, он заключает указанием на то, что в любом случае небо сотворено Богом и устроено сообразно с Его волей (Jo. Dam. Schriften. II. S. 52). Чисто богословски геометрическая форма неба безразлична – суждение, против которого возразить нечего. Дамаскин отказывается отождествить христианское вероучение с той или иной специфической космологией, и это очень благоразумно и даже толерант-но – читателю разрешено думать и так, и так, не ставя под вопрос свое православие; но одновременно он, этот читатель, ощущает и нечто другое – может статься, вопрос о форме небес вообще не стоит того, чтобы думать о нем всерьез. Космология, превращенная в одну из дисциплин теологии, подвергается неизбежной редукции, и происходит это без всякого насилия, без борьбы – просто из старых теорий уходит жизнь, и то, что было объяснением мира, становится предметом любопытствующей учености. Одни говорили, что небо сферично, другие – что оно являет собою полусферу; одни утверждали, что земля круглая, другие – что она имеет вид конической горы. Сопоставление мнений интересует Дамаскина лишь как любителя, как знатока; как человека и мыслителя его волнуют другие вопросы. Когда в свое время Косьма Индикоплов полемически противопоставлял свою варварскую картину мира, якобы выведенную из библейских текстов, античной науке44, за этим еще стояла уверенность в том, что возможно, а потому необходимо знать, как же устроен мир на самом деле. Дамаскин тоньше и цивилизованнее Косьмы, его отношение к античной науке – куда более любовное, но сама эта наука силою вещей отошла за это время очень далеко, превратившись в предмет ностальгического интереса немногих ценителей. Жизненное значение имеют вероучительные вопросы, и только они одни: вспомним обсуждение ложности астрологии или утверждение неодушевленности стихий – обуздание астрологических страстей или дезавуирование языческого обожествления сил природы было для Византийской Церкви практическим делом, а потому на помощь вере призывался укрощенный рационализм. Все остальное, например форма неба или земли, – эрудиция ради эрудиции.
В этом отношении Дамаскин был человеком своего времени. Если что выделяло его среди современников, так это степень почтения, которое он все же сохранял к старой культуре ума. Но нужна ему была не «физика», а «диалектика», т. е. логика – инструмент теологических диспутов, наполнивших иконоборческую эпоху. Лишь с окончанием этих диспутов атмосфера умственной жизни заметно меняется.
Основателем нового умственного движения был патриарх Фотий (около 820 – около 897), этот исключительно разносторонний человек, имя которого упоминается при изложении судеб Византии и ее культуры в столь различной связи. Хитроумный политик, церковный деятель первого ранга, вдохновитель деятельности Кирилла-Константина и Мефодия, трезвый и оригинальный литературный критик, очень много сделавший для становления зрелого византийского вкуса, Фотий имел прирожденное дарование педагога. Отсюда общекультурное значение его деятельности, намного превышающее его оригинальность как философа, но важное и для истории философии.
Одна черта объединяет Фотия с Иоанном Дамаскиным, создавая контраст и патриотической эпохе, и временам, которые придут позже: это предпочтение, отдаваемое Аристотелю перед Платоном. Если бы мы задались целью выразить одним словом то, чего Фотий хотел и в искусстве речи, и в искусстве мышления, это слово было бы – трезвость. Именно по критерию трезвости производится отделение приемлемого от неприемлемого при ревизии наследия языческой древности: риторическая проза, подчиненная законам рассудка, предпочтительнее, чем поэзия, обращающаяся к неразумной части души, возбуждающая аффекты с вредоносными для христианина мифами; и как раз поэтому нехороша философия Платона, в которой столько поэзии. Фотию претит поэтическая стилистика Платона; платоновская теория идей вызывает его неодобрение как сомнительная в богословском аспекте, – что же это за Творец, который для творческого акта нуждается в предсу-ществовавшей «парадигме»?" Вполне последовательно он отвергает гипостазирование родовых понятий, предвосхищавшее средневековый «реализм» схоластов (Photii Bibliotheca. Cod. 212). Кстати говоря, логическая проблематика, воспринятая от поздних неоплатонических комментаторов Аристотеля и от того же Дамаскина, занимает у Фотия значительное место (PG. Т. 101. Col. 480 АВ). Стоит отметить его интерес к логической ценности античного скептицизма (пирронизма), побудивший его подробно конспектировать Энесидема (PG. Т. 101. Col. 488 В). В конце концов, для Фотия существуют две вещи – и ничего помимо них или между ними: с одной стороны, церковное вероучение и сопряженная с ним идея непреложного авторитета, с другой – культура ума как таковая, в принципе подчиненная запросам теологии (например: PG. Т. 101. Col. 760 А-881 А), но фактически имеющая много простора для самоцельной игры. Для чего решительно не остается места, так это для философской мистики во вкусе неоплатоников. Аристотель благонадежнее Платона не в последнюю очередь потому, что не предлагает собственного религиозного творчества, которое состояло бы в неясных отношениях с библейским откровением и доктриной Церкви.
Пора Фотия – это время, когда византийская культура, пройдя через кризис, делает некий необходимый и неотменяемый выбор, когда закладываются основы для подъема интеллектуальной жизни на несколько веков вперед. Господствует педагогический пафос, идеал здравой школьной рассудительности и толковости, а в связи с этим – императив самоограничения. Никак не скажешь, что кругозор у Фотия узок, совсем напротив, – но идеи и книги, попадающие в этот кругозор, подвергаются решительной и жесткой оценке по утилитарным критериям: что именно нужно? В какой мере? для какой потребы? Это уверенный хозяйский взгляд, и перед нами хозяин дельный и деловой, но, так сказать, скопидомный; отлично знающий, чего он хочет, и вовсе не склонный предоставлять гостеприимство ценностям культуры из одного почтения к культуре, когда ценностям этим не сыскать применения в реализации его собственного культурного замысла. Таким был он сам, такими были – на более низком уровне – его ученики (о которых можно судить по личности Арефы Кесарийского), его сподвижники и ближайшие последователи.
Затем приходят иные времена. Византийская культура становится одухотвореннее и тоньше, что хорошо видно из произведений изобразительного искусства – достаточно вспомнить то новое, что отличает мозаики Дафни или Владимирскую Богоматерь от всего, что предшествовало XI в. На смену решительной силе и определенности в выборе возможностей творчества приходит богатство разработки этих возможностей. Подъем рационалистической мысли, наметившийся во времена Фотия, продолжается; но между рационализмом IX-X вв. и новым уровнем рационализма XI-XIII вв. лежит оживление мистических интересов, характерное для конца X в. и первой трети XI в. Различимы мотивы, которые будут занимать умы византийских исихастов в XV в.: аскеты Павел Латрийский (ум. 956) и Симеон Благоговейный (ум. 986) говорят о возможности для подвижников уже в земной жизни созерцать на вершине экстаза несотворенный (по традиционной церковнославянской терминологии – «нетварный») свет. Поскольку абсолютно все, кроме Бога, является, с христианской точки зрения, сотворенным, «тварным», понятие «нетварного света» имплицирует парадокс имманентного самораскрытия самой Божьей трансцен-дентности, противостоящий как пантеизму, так и утверждению непереступаемой пропасти между Богом и миром – двум мыслительным вариантам, рядом с которыми в пределах идеалистического рационализма третьего не дано. Парадокс, представляющий как раз это третье за пределами идеалистического рационализма, усугубляется тем, что «нетварный свет» явлен зрению, хотя и «духовному», и речь идет действительно о свете, отнюдь не об аллегории, как во всех бесчисленных выражениях типа «ученье – свет»; а это значит, что снята фундаментальная для идеалистического рационализма оппозиция «чувственное-интеллигибельное». Божественное, будучи трансцендентно по своей сущности, само приходит к человеку в своем световом явлении, явление это воспринимается одновременно чувственно и сверхчувственно – зрением «тела духовного» (срв. новозаветный текст: «Есть тело душевное, есть тело и духовное». – I Кор. 15:44).








